Похититель звезд Вербинина Валерия
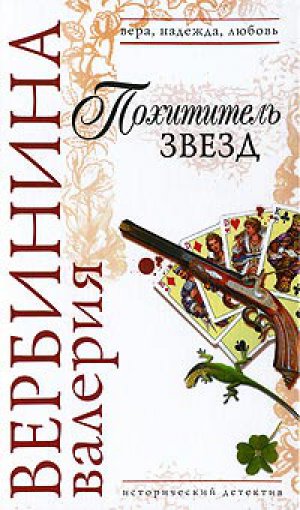
Пролог
Они сидели на вокзале. Мимо них катился мутный поток пассажиров первого класса – женщины в шелестящих платьях и легкомысленных шляпках, мужчины, излучающие солидность, чинные дети, горничные с собачками в руках, немолодые дамы, громко переговаривающиеся по-французски. Мария смотрела на шляпки, на длинные, до локтя, перчатки женщин, и сердце ее замирало от восторга. Ах, какая вуалетка с цветными мушками – как смело, как очаровательно! А полосатый турнюр – ведь всем известно, что в мире нет ничего капризнее полосок, но как он сшит, как божественно смотрится, сразу же выделяя его обладательницу среди окружающей толпы!
Мария услышала сухой кашель и оглянулась на брата. Алексей взглядом указал на окно, которое только что открыл высокий благообразный лакей. Его хозяйка, туго схваченная черным платьем монументальная особа, обмахивалась веером и плачущим голосом жаловалась на духоту соседке, худощавой даме с мышиного цвета волосами. Мария покраснела и поднялась с места.
– Я скажу им, – проговорила она и направилась к монументу в черном.
Алексей отвернулся. Кашель все не отпускал его, клекотал где-то в горле, но неимоверным усилием поэту удалось справиться с собой. Он не хотел показывать свою слабость, особенно здесь. Суета и толкотня, царившие вокруг, раздражали его, но еще более раздражали люди. У молодых женщин были лица содержанок, а старые не вызывали ничего, кроме омерзения. Что же до мужчин, то все они чем-то неуловимо походили на его бывшего полкового командира, который всегда жаловался на тяжелые времена, и чем больше он жаловался, тем богаче становился его дом, тем наряднее одевалась его супруга. Алексей ненавидел вспоминать об армии. Он почувствовал, как новый приступ кашля подкатывает к горлу, но тут, к счастью, вернулась Мария. Алексей поглядел на лакея и увидел, что тот закрывает окно.
– Госпожа Садковская просила извиниться, она не знала, что ты болен, – сказала сестра. – Она еще спросила меня, не поэт ли ты Нередин.
– Я надеюсь, ты ей не сказала, кто я? – довольно резко спросил Алексей.
Мария обиженно покосилась на него.
– Нет, Алеша, ну право же…
– Я не желаю ни с кем общаться, – зло выпалил Алексей, и его щеки окрасились кирпичным румянцем. – Сколько раз тебе повторять? Я болен и не хочу, чтобы меня тревожили.
– Я ничего ей не сказала, – пробормотала Мария. Она чувствовала себя виноватой, хоть и не знала, в чем именно ее вина; и все же это неотвратимое, гнетущее ощущение не отпускало ее. Алексей дернул щекой и допил воду из стакана, стоявшего перед ним на столе.
– Да-да, конечно, я понимаю, – саркастически промолвил он. – Я должен делать вид, что ничего особенного не происходит, что моя болезнь – так, досадное недоразумение. Мне полагается улыбаться и заверять всех, что месяца через два-три, самое большее через полгода, все будет в порядке. А между тем я вовсе не уверен, что через полгода не буду лежать в земле, к вящему удовольствию своих наследников.
– Алеша! – Мария была готова заплакать, ее губы дрожали.
– Я вовсе не тебя имел в виду, – устало сказал брат. – Просто у меня нет сил, да и желания, изображать из себя героя. Я очень болен, Маша, и мне не до всех этих глупостей в театральном духе. Легко говорить, что надо быть стойким и терпеливо переносить несчастья, когда сам ты сыт, доволен и не кашляешь кровью каждый день. Я и сам когда-то думал, что… – Он умолк. – Впрочем, неважно. Теперь все уже неважно.
Алексей ссутулился в кресле и опустил глаза.
«Боже мой, – мелькнуло в голове у Маши, – ведь он меня ненавидит! Он всех нас ненавидит – и меня, и Федора». Федор был ее мужем, и сейчас его полк стоял возле Курска. Он не хотел, чтобы жена уезжала в столицу ухаживать за заболевшим братом, но в конце концов Мария переубедила его. Нет, Федор всегда с пониманием относился к Алексею, просто ему не хотелось отпускать жену. Да и потом, он был уверен, что болезнь Алексея – блажь, пустяк и вообще всему виной петербургский климат, но ежели в столице от каждой простуды «караул» кричать, то голоса не хватит.
Многое бы изменилось, если бы она приехала раньше? «Многое», – сказала себе Маша. Алексей никогда себя не берег, и если бы она заставила его раньше пойти к врачам, то, может быть… может быть… Но что теперь толку гадать, если диагноз – чахотка – уже поставлен и подтвержден, если драгоценное время упущено. И в нынешнем состоянии больного не остается ничего, кроме как поехать на юг Франции, в санаторий, и надеяться, крепко надеяться, что болезнь отступит, что недуг окажется не таким страшным, как они думали, что все каким-то непостижимым образом устроится и ее брат останется в живых. Только останется в живых – о большем Маша не осмеливалась и мечтать. «Я буду молиться за него», – подумала она, и ей стало немного легче.
На сидящих наплыла, щекоча ноздри, волна флердоранжа. Поэт поднял голову. Какая-то красивая дама в сопровождении горничной только что прошествовала к выходу, четверо слуг несли за ней громоздкий багаж. Алексей покосился на Марию. Он не был особым знатоком женской моды, но сейчас его отчего-то резануло, до чего провинциальной кажется его сестра по сравнению с петербургскими вертихвостками. Ах, Маша-Маша, вечно она одевается то в серое, то в черное, немаркое и безвкусное! Хотя он же дал ей деньги, все, что получил от последнего издания «Огненной башни», – огромную сумму, несколько тысяч рублей[1]. Но у нее невыносимая манера все припрятывать, благодарить и уверять, что ей ничего не нужно, что она обойдется. Просто невыносимая! А в конце концов деньги окажутся в руках ее мужа, тупоголового непрошибаемого здоровяка, который тайком просадит их в карты, а жене опять скажет, что неудачно вложил деньги. И Маша снова сделает вид, что поверила, и не станет задавать никаких вопросов. Интересно, как скоро зять спустит наследство Алексея, когда он умрет?
– Ты к нам несправедлив, – тихо проговорила сестра, и Алексей вздрогнул, словно она могла угадать его мысли. – Если бы ты знал, как Федор ценит твои стихи! Он от них в восторге. И, мне кажется, некрасиво…
Маша говорила что-то еще, но Алексей перестал слушать.
Сам-то он отлично помнил, как Федор, тогда еще жених его сестры, с невыносимой фамильярностью спрашивал у него: «Ну, батенька, когда вы бросите заниматься этой чепухой, виршами вашими?» Они все хотели, чтобы он ничем не отличался от прочих; и суровый отец-полковник с тяжелой (о, какой тяжелой!) рукой, и мать, которая почти не разговаривала с родными, только целыми днями читала французские романы, и робкая, всегда со всеми соглашающаяся Маша, и теперь еще этот самоуверенный, чугуннолобый тип. И то, что Алексей вопреки всем им добился известности, а затем и большого, настоящего успеха, поразило и озадачило их. И отца, который перестал с ним разговаривать с тех пор, как сын отказался от карьеры военного, и мать, которая всем любопытным отныне со вздохом говорила, что Алексей возгордился и не желает знать родителей, и Машу, которая не знала, как себя с ним держать, и Федора, который прежде в глубине души считал брата жены ничтожеством, что его в принципе вполне устраивало, потому что позволяло воображать себя самого о-го-го каким молодцом. Еще вчера Алексей был хорошо им понятный и, скажем прямо, вполне заурядный человек, член их семьи, а сегодня его портреты печатают журналы, его стихи читают со сцены, и автору прочат славу продолжателя славных поэтических традиций российской словесности, маститые литераторы и литераторы не без таланта пожимают ему руку, зовут собратом, осыпают похвалами… А вслед за славой приходят деньги, вслед за деньгами – женщины. Ах, как судачил в году 1886-м Петербург о его романе с певицей К.! И едва ли не прежде, чем он покупал ей пять дюжин белых роз, которые она любила, весь город уже знал, сколько именно цветов он ей пошлет. И вот все это ушло, и остался только безнадежно больной человек, который едет во Францию умирать…
– Алеша, – проговорила Мария, – ты слышишь меня? Твой поезд сейчас подадут.
Он очнулся от своих невеселых размышлений и сделал попытку улыбнуться. Попытка не удалась.
– Извини. Я думал о…
Сестра положила руку в перчатке на его рукав. Перчатка была залатана, и Алексей разозлился. Боже мой, сколько денег он потратил на эту К., которая обманывала его со всеми антрепренерами, вместо того чтобы помогать сестре! Как легко принимал на веру ее слова «Нам ничего не нужно», отлично зная, что нужно, очень нужно, причем сразу же, сейчас, потому что жизнь уходит, потому что второй молодости не будет, никогда, никогда, как и второй жизни!
– Все будет хорошо, – проникновенно сказала Мария. – Верь мне. Не зря же у доктора Гийоме такая репутация. Он обязательно поставит тебя на ноги.
Алексей не поверил. Он помнил еще, как однажды утром кашлял так страшно, что едва не задохнулся. Но сейчас посмотрел на лицо сестры – и у него не хватило духу разочаровывать ее.
– Я буду писать тебе, – неловко пробормотал он.
Некрасивое лицо Марии осветилось улыбкой.
– Ты мне пришлешь свои новые стихи? Да?
– Обязательно, Маша.
Подошел служитель, напоминая о том, что поезд уже прибыл. Алексей поднялся. В последнее время, когда он вставал с места, у него на долю мгновения темнело в глазах, но сейчас он пересилил себя и улыбнулся. Сестра с тревогой смотрела на него.
– Наверняка там будет ужасно скучно, – проговорил поэт. – И мне придется пить ослиное молоко.
Он искал, что бы такое сказать в прощальные минуты, быть может, самые важные в его жизни, и ничего не приходило ему в голову.
– Ты позаботишься о Трезоре? – наконец спросил он. Так звали его собаку, подарок той певицы, которую он когда-то любил и воспоминание о которой теперь не вызывало у него ничего, кроме горечи.
Мария кивнула:
– Я заберу его домой. Мы уже говорили об этом. Когда ты вернешься, я тебе его отдам.
«Я не вернусь, – обреченно подумал Алексей. – Вернее, вернусь, но то, что вернется, будет уже не я».
Он закашлялся и, опираясь на руку сестры, медленно зашагал к выходу из зала ожидания первого класса. Монументальная дама в черном прервала животрепещущий разговор о театральных премьерах, недавнем затмении, смерти богемского кронпринца Руперта и непокорном молодом поколении, чтобы проводить Алексея пристальным взглядом.
– Как хотите, – сказала она худощавой даме, – но готова поклясться, что это именно Нередин. Я его видела однажды в опере, и вы знаете, рядом с ним была такая особа… Ни за что я бы не хотела оказаться на ее месте! Про нее такое говорят…
Худощавая дама механически кивнула, а про себя подумала, что если бы даже ее собеседница очень захотела, то все равно не смогла бы занять место К.
– Что-то он неважно выглядит, – заметила она.
– И не говорите! Вы тоже заметили? – подхватил «монумент». – Ходили слухи, он дрался из-за нее на дуэли. Вот я и думаю, что даром для него это не прошло, хоть он и бывший офицер… А вы читали его стихи? Я его «Северные поэмы» просто обожаю! – И без перехода: – Интересно, что за дама была с ним? Сама с обручальным кольцом, а он не женат…
Так под аккомпанемент толков и досужих сплетен продолжатель поэтических традиций нашей словесности уезжал из России. Впереди, впрочем, его ждали куда более интересные события, чем он мог себе вообразить.
Глава 1
Перестук колес. Свист пара из трубы локомотива.
– Остановка десять минут! Буфет!
Но ему не хочется ни пить, ни есть, и даже название станции ничуть не интересно. Просто глупый перрон, по которому ходит глупый важный жандарм, суетятся носильщики и снуют бестолковые пассажиры. А в окне зала ожидания сидит пестрая кошка – вся в бело-рыже-черных пятнах – и с любопытством смотрит на поезд. Тяжелая дрема наваливается на Нередина.
…Три звонка, лязг, тряска, перестук колес. Попутчик с дамой. Еще бы ничего, но даме душно, и она требует открыть окно. Мол, август нынче такой жаркий, такой тяжелый…
– Сударыня, прошу прощения… Я болен, видите ли… и… словом…
Почему он извиняется? К чему весь этот балаган, неужели по его нездоровому, типично чахоточному румянцу и по одышке не видно, в чем дело? Но молодая и, в общем-то, красивая дама смотрит на него с нескрываемой злобой, даже с гадливостью, словно он представляет для нее нешуточную угрозу или только что смертельно оскорбил ее. На следующей остановке она принимается вполголоса пилить своего спутника, и еще через четверть часа парочка переселяется в свободное купе.
Оставшись один, поэт вновь проваливается в сон. Будит его стук отворяемой двери.
– Ах! Вы Алексей Нередин, не правда ли? Я узнала вас! Вообразите, мы уже встречались! У Мими на вечере, помните?
Черт возьми, поклонница! Он разом стряхивает с себя остатки дремы. Мими – это К., самое лучшее и, может быть, самое худшее воспоминание его жизни, но только что вошедшую трещотку у нее он точно не встречал. А дама уже уселась напротив него и взяла в осаду по всем правилам. Здесь и хлопанье ресницами, и нарочито наивные вопросы, и намеки на обстоятельства его личной жизни… Пару раз она даже цитирует его стихи, чем заставляет Алексея окончательно их возненавидеть.
Почему, ну почему он так не любит своих поклонниц? Ведь, если говорить по справедливости, разве не они покупают его книги, не они жадно дожидаются новых строк, что выливаются из-под его пера, не они шлют ему пылкие признания в любви на шести страницах (порою с грамматическими ошибками в каждой строке)? Разве не благодаря им в итоге он, бывший поручик пехоты, получил наконец возможность жить если не по-царски, то хотя бы по-человечески, закатывать роскошные обеды для друзей-актеров и писателей, давать бедствующим поэтам деньги в долг, пользоваться любовью К. и дружить с самыми умными и талантливыми людьми столицы? Однако факт остается фактом: Алексей терпеть не может своих преданных почитательниц. Ему претят их преувеличенные восторги, их экзальтированность, их потные руки, которые так и норовят вцепиться в него. Претит их преклонение перед его стихами при полном непонимании поэзии, их поверхностность, их непременное желание, чтобы он и только он указал им какую-то дорогу, дал ответы на те вопросы, которые даже толком сформулировать невозможно: что есть жизнь, что ждет Россию в будущем и куда вообще катится мир?
Вначале это забавляло его, но потом стало раздражать. Когда-то он и впрямь считал, что поэт обязан указывать человечеству путь (куда – вопрос другой) и служить неким идеям; однако теперь он вовсе не был уверен, что человек, занимающийся литературным трудом, должен быть еще и философом, публицистом и по совместительству критиком существующего строя.
Последние недели, когда Алексей хворал и все время лежал в постели, он только и делал, что читал стихи – самые разные, от Тредиаковского и Державина до современников, большинство из которых знал лично; и его неожиданно поразило, до чего жалкими выглядят как неумеренные восхваления, так и гневные обличения – вне зависимости от того, что их вызвало. Не лучше дело обстояло и с самыми прогрессивными, самыми положительными идеями; спору нет, до отмены рабства (которое стыдливо именовалось крепостничеством) все громы в его адрес казались ужасно смелыми, но сейчас они выглядели на редкость куце и беспомощно. Вся беда в том, подумал Алексей, что история не стоит на месте и идеи, донельзя актуальные сегодня, через десяток-другой лет выглядят уже милой нелепостью; но и через сто, и через триста лет люди по-прежнему будут любить друг друга, и оттого «Шепот, робкое дыханье…»[2] скажет им куда больше, чем сотни обличительных строк какой-нибудь некрасовской поэмы. Потому что прошлое мертво и предано забвению; читателю интересно лишь то, что лично ему говорит тот или иной текст, и ему так же мало дела до высоких мотивов автора, как и до него самого. Каждый хочет найти в чужом стихотворении, поэме, романе лишь себя, свои незатейливые проблемы и неглубокие чувства, которые кажутся ему самыми важными на свете; и, если он встречает в этом лабиринте слов подобие своего отражения, он готов признать автора гением, а если нет – отказывает ему даже в намеке на талант.
Алексей вспомнил критическую статью, которая на днях появилась в одном из журналов, куда он необдуманно отказался посылать свои стихи, – уж в ней-то определенно утверждалось, что таланта у него нет и не предвидится. Статья была отточенно-язвительная, как и все, что писал знаменитый критик Емельянов. Маша, добрая душа, пыталась спрятать ее от брата, но к нему заглянул приятель – просить денег в долг – и проговорился. Алексей прочитал дышащие ядом и недоброжелательностью строки и пожал плечами – после выхода нашумевшей «Деревянной России» ему доводилось читать и не такое. Но отчего-то сейчас, когда он вспомнил о Емельянове, ему сделалось трудно дышать и в груди словно образовался плотный ком, мешающий сердцебиению. Он достал платок и украдкой вытер лоб.
– Я читала, – щебетала меж тем попутчица, преданно заглядывая ему в глаза, – будто вы сказали, что в России все поэты делятся на две категории: на Пушкина и на всех остальных. Скажите, вы это серьезно? Ведь на самом деле Пушкин ужасно груб! Да и стихи его, по правде говоря, простоваты…
Терпение Алексея истощилось, он извинился и выскользнул из купе. Встретив кондуктора, поэт сунул ему в руку бумажку и попросил пересадить его в другой вагон, объяснив, что у него болит голова.
А ведь другие поэты еще завидуют мне, думал он с горечью, когда кондуктор исхитрился-таки освободить для него целое купе и Нередин смог наконец остаться один. О, эта яркая манящая заплата, именуемая славой, – заплата, которая любое ветхое рубище превращает в королевскую мантию![3] Но к чему притворяться, к чему строить из себя моралиста? Разве не мечтал он сам об этой самой славе, когда был поручиком? Разве не грезил о ней, исписывая целые тетради первыми, еще беспомощными, стихами? Ни один поэт, ни один писатель не пишет для того, чтобы остаться безвестным; литература – не та профессия, где можно просто работать как все, не требуя признания, и быть довольным своей жизнью. Он не чиновник, не штукатур, не возчик, а поэт; он не может существовать без публики, без читателей и почитателей, и если часть их оставляет желать лучшего – что ж, таковы издержки славы; и если критики нападают на него даже сейчас, когда он устал и смертельно болен, – это тоже издержки славы, и, может быть, даже в сто раз хуже, чем самая бестактная из почитательниц. Он вспомнил слова из статьи Емельянова – «пишущий господин, который мог стать известным лишь в наше поэтическое безвременье» – и дернул щекой.
Состав замедлил ход – они подъезжали к границе. По соседним путям бойко прогрохотал нарядный поезд, летящий на всех парах в обратном направлении, и у поэта сжалось сердце. «А ведь все это в последний раз, – подумал он. – И мое путешествие – тоже последнее; когда меня наконец повезут обратно, я уже ничего не увижу, ни вон той погнутой березы, ни синичек на телеграфных проводах – ничего». Он чувствовал себя опустошенным, словно вынутым из жизни, как если бы душа настоящего Нередина осталась где-то далеко, в окутанном туманами Петербурге, отдельно от него, в то время как его тело, его оболочка продолжала свой путь туда, откуда уже не будет возврата. «А у Емельянова наверняка отличное здоровье… – с внезапной злостью подумал он. – И уж верно, именно он первым тиснет прочувственную статейку, когда меня не станет. Еще и будет врать, как он ценил мой талант, – с него станется».
Почему-то сразу же на память пришла последняя встреча с К. Алексей хотел, чтобы она проводила его на вокзал, но ей было некогда даже говорить с ним – беседовала с какими-то хлыщами. И только когда он уходил, весело-сердечно бросила ему: «Поправляйтесь!» И доктор Ермолов, пряча глаза, тоже обнадеживал его, что в тамошнем климате, да при надлежащем уходе… Но зачем обманывать себя? Все началось еще в армии, в той самой проклятой армии, куда он пошел по настоянию отца. Скверное обмундирование, вороватые физиономии подрядчиков… Там-то он и простудился первый раз и запустил болезнь, которая затаилась, выжидая своего часа, и лишь на двадцать девятом году жизни взорвала его изнутри. Однако Лермонтову было суждено еще меньше, двадцать семь, а Пушкину всего лишь тридцать семь. Благосклонна смерть к поэтам – ничего не скажешь…
Вздор, одернул себя Алексей, ничто же не помешало Тютчеву прожить с толком все семьдесят лет, а ведь он тоже поэт не последний; Плещеев, Майков, Фет, Полонский вполне себе живы и здравствуют, и даже стихи пишут, хотя им под шестьдесят и за шестьдесят; и только он, Нередин, попался так нелепо, так глупо… И, тоскуя, он стал вспоминать все, что было в его жизни, все, чего в ней не было, то, чего ему удалось достигнуть, то, что так и не успел сделать и что теперь, наверное, ему уже не удастся наверстать. Он никогда не испытывал потребности в семейном уюте, но теперь ему было безумно жаль, что у него нет ни жены, ни детей, которые носили бы его фамилию. Он не написал многое из того, что хотел, слишком мало был любим, слишком сильно любил тех, кто не дорожил им, и так и не увидел Италию, где мечтал побывать всю свою жизнь. Юность его съела нужда, а остаток прикончила суета. И еще он внезапно осознал, что никогда толком не видел моря. У него даже не было стихов, посвященных этой стихии, – все поэтические бури, шквалы и ураганы прошли мимо него. Само собою, он бывал на берегу Финского залива, но южные моря с их аквамариновыми волнами и великолепием красок так и остались для него недосягаемы. И отчего-то в то мгновение именно это показалось ему особенно обидным и несправедливым.
Глава 2
Оно было сапфировым, лазоревым, восхитительным. Над водой с криками носились чайки, а вдали на волнах покачивался белоснежный парусник, шедший к Монако. Слева за мысом были видны еще несколько лодок, и солнце щедро поливало морскую гладь расплавленным золотом.
«Вот он, белеет парус одинокий… – угрюмо размышлял поэт, сдвинув шляпу на затылок. По шее и по вискам струился пот. – Итак, здравствуй, свободная стихия[4]. Ну и что, что море, ну и что, что Средиземное? Скучно. В сущности, неинтересно. Похоже на безвкусную акварель неумелого художника. И эти яркие краски, пальмы, брр… – Он поежился. – Зелень какая-то неживая. – Он проводил взглядом островерхий кипарис, попавшийся им по пути. – Слишком много всего. Кипарис – дерево смерти… так считали древние. А впрочем, не все ли равно, где умирать?»
Коляска, управляемая умелым возницей, ехала вдоль берега под ровный перестук подков. Алексей снял шляпу и платком вытер лоб. Наедине с собой ему становилось совсем уж невыносимо. О чем бы ни думал, мысли его неизменно возвращались к одному и тому же.
– Много сейчас больных в санатории? – спросил он у возницы на вполне сносном французском.
– О да, месье, – откликнулся тот. – Тех, что живут постоянно, человек тридцать, и еще доктор принимает у себя. Да вы и сами все увидите.
– А русские среди них есть? – быстро спросил Алексей. Ему вдруг показалось невыносимо, что он умрет в чужой стране, среди совершенно посторонних людей, не видя ни одного соотечественника и не слыша родной речи.
– Русские? Конечно, месье. Заведение доктора Гийоме всем прекрасно известно. Сейчас в санатории две дамы из России. Одна, кажется, художница, а вторая… – Возница на мгновение задумался, подбирая слова, которыми можно было ее поточнее охарактеризовать. Наконец нашел: – Вторая – настоящая дама.
«И зачем я приехал сюда? – обреченно помыслил Нередин. – Ведь ясно же, что все это совершенно бесполезно».
Коляска завернула направо и подкатила к дому в два этажа, выкрашенному в белый цвет. Слуга, стоявший возле дверей, помог поэту выйти, другой принял его багаж.
– Прошу вас, месье… Сюда.
Высокий прохладный холл, лестница на второй этаж, двери, двери… Из-за одной вырвался раскат женского смеха, и Алексей невольно вздрогнул.
Нет, не таким он представлял санаторий, совсем не таким.
Всюду светлые краски, со вкусом подобранная мебель, статуи… положим, гипсовые копии, но все равно, оставляющие очень приятное впечатление. Казалось, он попал не в санаторий для чахоточных, над которым витала незримая темная птица-смерть, а на виллу к радушному богачу-меценату – одному из тех, которые не знают, куда девать свои деньги, и со скуки вкладывают их в искусство и литературу.
– Сюда, месье, – повторил слуга, отворяя дверь. – Вот ваши комнаты. Доктор Гийоме примет вас через несколько минут. Я зайду за вами.
Он сделал знак второму слуге, который нес багаж, и вышел.
– Вам помочь, месье?
Нередин ответил, что справится сам, и второй слуга тоже удалился, оставив его одного. Алексей осмотрелся. Ореховая мебель, удобные кресла, на стене – натюрморт с цветами. Из комнаты-гостиной дверь вела в спальню, и он остановился на пороге, глядя на кровать. Значит, здесь его и постигнет смерть…
Он подошел к окну. Так и есть – отсюда видно все то же невыносимое Средиземное море. Только здесь оно казалось хмурым и неприглядным; возможно, виною тому были торчащие там и сям крутые скалы, о которые бились сердитые темные волны.
«А у моря-то, оказывается, два лица», – с неожиданным удовлетворением понял поэт. Он подумал, что это могло бы стать неплохой темой для стихотворения (как и все пишущие люди, во всякой мысли, во всяком происшествии он видел прежде всего тему для сочинения и уже потом – собственно мысль или происшествие), но перед ним вновь возникло лицо той глупой дамочки из поезда, которая считала стихи гениального, неповторимого Пушкина простоватыми. Для кого сочинять? Для кого стараться? Для читающего стада? Пожав плечами, Алексей отошел от окна. «И потом, море – слишком заезженная тема».
Вошел слуга и, почтительно поклонившись, доложил, что доктор Гийоме ждет господина Нередина.
Они спустились на первый этаж, и слуга ввел Алексея в просторный, ярко освещенный кабинет. При появлении поэта человек, сидевший за столом, поднял голову.
Доктору Пьеру Гийоме было около сорока пяти лет. Резкие черты лица, черные живые глаза и черные же волосы. Быстрым взором он окинул своего нового пациента и поднялся из-за стола.
– Благодарю, что вы предупредили телеграммой о своем приезде… Можешь идти, Анри.
Слуга удалился, бесшумно прикрыв за собой дверь.
– Прошу вас, – сказал доктор.
В следующие полчаса он провел самый тщательный осмотр пациента. Однако тщетно Алексей пытался понять по его лицу, что именно доктор думает о его болезни, – Пьер Гийоме был совершенно замкнут и непроницаем.
– Что ж, – сказал он наконец, убирая стетоскоп, – разумеется, если бы лечение было начато раньше… Вы жили в Петербурге?
«Я живу в Петербурге», – хотел было ответить поэт, но поглядел на утомленное лицо врача, на круги под его глазами и понял, что поправка была бы явно лишней.
– Я… да.
Гийоме пожал плечами:
– В мои привычки не входит критиковать власти, да еще не моей страны, но если бы ваш царь Петр был на самом деле велик, он бы не раз подумал, прежде чем выбирать для столицы такое неподходящее место. – Доктор вернулся за стол и стал стремительным почерком писать что-то в карте больного. – Каждый год ко мне обращаются десятки ваших соотечественников… Чем вы болели в детстве?
Алексей перечислил, на ходу вспоминая французские названия болезней. Он оделся и застегнул рубашку, но не сразу смог справиться с запонками. Что-то доктор ему скажет о его болезни…
– А тех, кто по разным причинам не может обратиться, конечно, во много раз больше… – продолжал Гийоме и поморщился. – Прошу вас, сядьте, месье. Итак…
– А что, кроме русских, у вас нет других пациентов? – не удержался поэт.
– И англичане, конечно, – пожал плечами доктор. – Особенно женщины, потому что английские мужчины много занимаются спортом, а вот для женщин тамошний климат просто губителен. Впрочем, чахотка ведь не разбирает национальностей и сословий, ею болеют все, даже короли и принцы… Кстати, кто-нибудь из вашей семьи болел чахоткой?
– Никто, – ответил Алексей.
– Друзья, знакомые, слуги?
Но Алексей смог вспомнить лишь учителя в гимназии и одного сослуживца по полку.
– Когда вы впервые заметили у себя симптомы болезни?
Нередин подробно рассказал. Он был на даче… у знакомой дамы… и вдруг на него напал жуткий кашель. Поскольку незадолго до того он был простужен, то решил, что все еще сказывается простуда… Но на платке оказалась кровь. Потом он хворал, на него навалилась слабость… Приехала Маша, вызвала лучших врачей, и они сказали… сказали ему…
Пьер Гийоме рассеянно кивнул.
– К врачу надо было сразу же обратиться, – произнес он, глядя мимо поэта. – Сразу же, а не ждать… Итак, месье Нередин, – как и все французы, он делал ударение на последнем слоге, – мои условия вам известны. Вы живете здесь, я наблюдаю вас и лечу. Относительно платы мы уже условились…
– Скажите, – несмело начал поэт, – а разве я… разве я не смогу покидать санаторий?
– Вам сначала придется объяснить мне, для чего вы его покидаете и надолго ли, – отрезал доктор. – С вашими соотечественниками невероятно тяжело иметь дело. Я говорю одно, они делают другое… Я говорю: необходимо вести умеренный образ жизни, не гулять в дождь, не выходить на лодке в море – так нет, они делают все наперекор. И что в результате? А в результате наживаются гробовщики. Недавно еще я лечил одного вашего великого князя. Замечательно образованный человек, цитировал наизусть чуть ли не всего Мольера и Монтеня, но не соблюдал курс лечения. Я сказал: прекрасно, monsieur grand-duc[5], я умываю руки, потому что до конца лета вы не доживете. Он меня выгнал. Его жена со слезами вызвала меня обратно через некоторое время, но было уже поздно: он умирал. А ведь я предупреждал его! На той неделе его похоронили. Так что, если вы собираетесь своевольничать, месье, то можете даже и не начинать курс лечения. Я верну вам деньги, и на том покончим. Вы должны понимать: если я требую чего-то, то вовсе не для собственного удовольствия, а для того, чтобы вам же было лучше. В конечном итоге я делаю это для того, чтобы спасти вашу жизнь.
– Я ценю вашу откровенность, – пробормотал Алексей, – и у меня нет никакого желания вам перечить… Я готов лечиться так, как вы скажете. Но я хотел бы… хотел бы узнать… – Он замялся.
Доктор Гийоме взглянул на него, и улыбка тронула его губы.
– Понятно. Что ж, я не сторонник теории, согласно которой врач во имя каких-то высших соображений имеет право утаивать от больного сведения о его здоровье. Пациент должен знать, с чем ему придется иметь дело. Так вот… – Он нахмурился. – Если бы вы обратились ко мне на три или хотя бы на два месяца раньше, я бы сказал, у вас было шесть шансов из десяти.
– Остаться в живых? – прошептал Алексей, глядя на доктора во все глаза.
Гийоме кивнул.
– Именно. Сейчас время упущено, так что шансы поменялись: четыре из десяти. Это не много, но и не мало, учитывая ваш возраст и конституцию, так что выздоровление вполне возможно. Вы чем-то недовольны? – спросил он, заметив тень, которая промелькнула на лице поэта.
– Доктор Ермолов… – Алексей собрался с духом: – Доктор сказал… не мне, но моей сестре… что мне осталось жить не более полугода.
Пьер Гийоме пожал плечами.
– Ваш доктор Ермолофф – болван, – с восхитительным спокойствием промолвил он. – Можете при случае прямо так ему и передать от меня. Конечно, если вы будете бродить под дождем и объедаться мороженым, то все закончится даже быстрее, чем через шесть месяцев, но я не вижу смысла это обсуждать.
«Врет или нет?» – напряженно размышлял Алексей. Ему безумно хотелось верить, что для него еще не все потеряно, но он боялся быть обманутым. Он слишком свыкся с сумеречной тенью, которая следовала за ним повсюду.
– Впрочем, – добавил доктор, – вы должны быть готовы к тому, что выздоровление будет отнюдь не легким и займет длительное время, а в случае благоприятного исхода вам все равно придется беречься всю оставшуюся жизнь, чтобы не заболеть снова. И тем не менее я склонен думать, что все не так уж плохо. – Он снова улыбнулся, но его глаза оставались все такими же черными и непроницаемыми. Повернувшись в кресле, он резко позвонил и крикнул: – Анри! Позовите доктора Шатогерена, будьте добры!
Через минуту в кабинет вошел высокий брюнет средних лет с серыми спокойными глазами. Алексей неловко поклонился.
– Мой помощник Рене Шатогерен, Алексис Нередин, наш новый гость, – представил мужчин друг другу доктор Гийоме. – У меня есть еще один помощник, доктор Филипп Севенн, но наблюдать за вами пока будет Рене. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь к нему. Также в санатории достаточно слуг и сиделок, главная сиделка – мадам Легран, вы еще с ней познакомитесь… Да, Рене, что там насчет мадам Фишберн?
– Все, как вы и думали, Пьер, – отозвался второй врач. – Я даю ей морфий, но… – Он нахмурился и покосился на Алексея.
– Сколько? – лаконично спросил Гийоме. На Нередина он даже не смотрел.
– Четыре дня, самое большое – пять. Вам не в чем себя винить. Вы сделали все, что могли.
– Да, я сделал все, – угрюмо ответил Гийоме. – Но этого всего тем не менее оказалось мало. Филипп еще не вернулся?
– Он приедет с вечерним поездом. Да, и по поводу того итальянского священника… – Рене протянул Гийоме телеграмму. – Его задержал дядя-кардинал, так что он будет лишь в конце недели.
– Что ж, это выбор, – устало сказал доктор. – Сколько я им ни говорю, что болезнь не станет ждать, они все равно не желают меня слушать. С остальными пациентами все в порядке?
– Да, – подтвердил помощник, – но я бы попросил вас обратить внимание на мадемуазель Лоуренс. Она опять принялась гадать на картах, и это пугает больных.
– Очевидно, вам придется опять с ней побеседовать, – поморщился Гийоме. – Итак, месье Нередин, месье Шатогерен проводит вас к остальным пациентам. Среди них есть и ваши соотечественники, вернее, соотечественницы, так что, я думаю, вам у нас понравится. Всего доброго.
Глава 3
– Кто такая мадемуазель Лоуренс? – спросил Алексей у своего спутника, когда мужчины поднимались по лестнице.
– Мадемуазель Эдит Лоуренс – англичанка, – отозвался Шатогерен. – У нее небольшие проблемы с легкими, но ничего страшного. Она появилась тут несколько месяцев назад. Кто-то живет в санатории несколько недель, кто-то задерживается на годы, – пояснил доктор. – У всех по-разному.
– Я слышал, у вас живут несколько русских?
– Да. Госпожа баронесса Корф, очень любезная дама, и мадемуазель Натали, художница. Скажите, вы будете обедать со всеми в общей столовой или предпочитаете, чтобы еду приносили непосредственно к вам в комнаты?
– Наверное, я буду обедать со всеми, – подумав, сказал поэт. – Скажите, а у вас есть библиотека? Я очень люблю читать.
– Да, герцог Савари подарил нам свою библиотеку, – кивнул помощник. – Она вся в распоряжении пациентов. Также к нам привозят десяток газет на разных языках, чтобы пациенты чувствовали себя как дома.
– Герцог Савари? – заинтересовался Алексей. – Кажется, его дочь спас ваш… спас месье Гийоме?
– Да… Сюда, месье.
Они вошли в комнату, похожую на самую обыкновенную гостиную в большом доме. Да, впрочем, это и была гостиная. За маленьким столом с колодой карт сидела миниатюрная русоволосая девушка, а вокруг нее столпились трое или четверо человек. Возле окна на оттоманке устроилась красивая белокурая дама, которая рассеянно гладила лежащую на ее коленях серую кошку. Кошка блаженно жмурила зеленые глаза и тихо урчала от удовольствия. В углу за газетой сидел нахохлившийся рыжеватый юноша, и уже по брюзгливому, недовольному выражению его лица можно было с уверенностью сказать, что он настоящий англичанин. Молодой человек скользнул взглядом по вошедшим и отвернулся, но взоры всех остальных присутствующих незамедлительно обратились на них.
– А вот и вновь прибывший! – воскликнула девушка с картами. – Но он же не брюнет, а карты указывали на брюнета! – добавила она с разочарованием.
– Пустяки, Эдит, – возразил румяный молодой щеголь с военной выправкой, который стоял справа от стола. – Вы постоянно ошибаетесь.
Он улыбался, показывая белые зубы, и вообще выглядел как картинка, но одного взгляда на его румянец хватало, чтобы понять, что на самом деле щеголь серьезно болен. Сам он, впрочем, держался так, словно ничего такого не было и в помине.
– Я не могу ошибаться! – Девушка надула губы. – Карты показали брюнета… И смерть.
Рыжеватый англичанин с хрустом сложил газету.
– Миссис Фишберн, как всем известно, на самом деле очень плоха, – уронил он в пространство. – Но совершенно непонятно, зачем все время твердить о том, что она умрет.
– Я вовсе так не говорила! – возмутилась девушка. – Но карты…
– Мадемуазель Лоуренс, – вмешался Рене Шатогерен, – боюсь, мне придется серьезно поговорить с доктором Гийоме о вас. Дайте-ка сюда карты.
– Но вы же не станете вот так, сразу… – Эдит обиженно глядела на него; казалось, она была готова заплакать. Англичанин презрительно покосился на девушку и вновь уткнулся в свою газету.
– Нехорошо, месье Шатогерен! – поддержала подругу очень высокая, нескладная девушка, стоявшая слева от стола. Третья, темноволосая красавица с газельими глазами, ограничилась тем, что раскрыла свой веер и стала им обмахиваться.
Щеголь пожал плечами и тайком улыбнулся даме, сидевшей на оттоманке. Дама повернула голову, и Алексей оторопел. На мгновение ее карие глаза вспыхнули золотыми искрами, которые совершенно ослепили его; но это длилось всего какую-то долю секунды. Она потушила свой взор, опустила ресницы и вновь принялась гладить кошку. Почему-то красивая молодая женщина показалась Нередину похожей на сфинкса – что-то в ней было загадочное, необычное, непохожее на других. «Сфинкс с кошкой», – подумал он и улыбнулся.
– Так-то лучше, – сказал Рене, когда Эдит, собрав карты, отдала их ему. – Дамы и господа, с сегодняшнего дня у нас в санатории появился новый жилец. Это месье Алексис Нередин, русский литератор. Так что…
– Боже! – ахнула высокая девушка по-русски. – Вы Нередин? Алексей Нередин, поэт?
И не успел он опомниться, как она уже стояла возле него и по-мужски трясла его руку. Англичанин так поразился столь вопиющему отсутствию манер, что чуть не выронил газету.
– Потрясающе! Я так рада! В этом постылом месте! А я еще не хотела ехать сюда!.. – бессвязно восклицала девушка. – Вы один из моих любимых поэтов!
– Один из? – поднял брови заинтересованный Алексей. – А кто остальные?
– О, – покраснела его собеседница, – мне даже неловко… Пушкин, Некрасов, Надсон… и еще другие. – Она умоляюще посмотрела на него.
– Я в хорошей компании, сударыня, – успокоил ее Нередин улыбкой, – простите, не знаю вашего имени…
– Ах, простите, я не представилась! – заторопилась странная и нескладная молодая женщина. – Наталья Сергеевна Емельянова. Я пишу картины… я училась здесь, в Париже и еще…
Улыбка замерла на губах Нередина.
– Я знаю одного Емельянова. Сергея Емельянова. Он литературный критик. Скажите, вы не…
– А, так вы знакомы с моим отцом? – обрадовалась Наталья. – Ну, конечно же! Он пишет в основном о прозе. Кстати, недавно опубликовал статью о графе Льве Толстом…
«И о поэзии он тоже пишет», – хотел сказать Алексей. Но внезапно у него пропала всякая охота разговаривать с этой девушкой о чем бы то ни было – слишком еще свежи были в памяти оскорбительные нападки ее отца. Наталья все еще держала его за руку, но он молча высвободился и отошел к оттоманке. Белокурая дама смотрела на него с сочувствием, и поэт разозлился на себя. У него было такое ощущение, что совершенно незнакомая ему красивая женщина видит его насквозь и читает все его мысли, но, конечно же, это была лишь иллюзия. Шатогерен, который по интонациям незнакомой речи и по выражению лица поэта понял, что произошло что-то неприятное, тотчас же подошел к нему.
– Баронесса Амалия Корф, – поспешно представил он женщину с кошкой.
И баронесса повела себя как настоящая баронесса – протянула ему тонкую кисть для поцелуя, а не стала тискать его руку, как неотесанная мужичка. Кошка скосила на поэта свои узкие черные зрачки и отвернулась. Ей не понравилось, что ее хозяйка отвлеклась на какого-то совершенно неинтересного – с кошачьей точки зрения – человека вместо того, чтобы продолжать гладить ее, и она недовольно дернула кончиком хвоста.
– Мы не встречались с вами прежде, госпожа баронесса? – с надеждой спросил Алексей. – В Петербурге?
– О да, – улыбнулась Амалия. – На вечере у графини Шаховской. Вы еще читали свои стихи… в пользу погорельцев, кажется.
– Ах, ну конечно же!
Наталья Емельянова обиженно смотрела на него, прикусив губу. Вот они, мужчины! Всем им непременно подавай бездушных красавиц, да еще титулованных, и даже лучшие из них ловятся на эту нехитрую приманку… Однако почему поэт так странно отреагировал на известие о том, что критик Емельянов – ее отец? Неужели тот что-то написал о нем… что-то неприятное? Но ведь отец всегда, смеясь, говорил, что в поэзии он ровным счетом ничего не смыслит, для него что Пушкин, что Кукольник, что Минаев – все едино… Нет, наверное, какие-то сплетни их поссорили. Ведь известно же, до чего поэты – мнительный и обидчивый народ!
А Рене Шатогерен тем временем продолжал знакомить вновь прибывшего с обитателями санатория. Мисс (он упорно величал ее мадемуазель) Эдит Лоуренс… Виконт Шарль де Вермон, бывший военный. Мадемуазель Катрин Левассер… Мистер Мэтью Уилмингтон…
– Мадам Анн-Мари Карнавале. Месье Нередин, русский литератор…
Мадам Карнавале оказалась благожелательного вида старушкой с гладко зачесанными седыми волосами. Она тихо сидела в угловом кресле, и при входе в гостиную Алексей ее попросту не заметил. В ответ на приветствие поэта мадам Карнавале улыбнулась и сказала, что она очень высокого мнения о русской литературе и что месье Леон Толстой пишет почти так же хорошо, как месье Золя.[6]
Рене, видя, что новый гость уже освоился, сказал, что заглянет к нему после обеда, и удалился. Эдит Лоуренс спросила у Алексея, какие стихи он пишет и что он думает, к примеру, о Шекспире, но тут вошел Анри и объявил, что с утренней почтой прибыли свежие газеты и письма для постояльцев санатория. Все оживились. Мистеру Уилмингтону пришли целых четыре письма и два пакета, красивая баронесса Корф получила одно письмо, по одному получили также Шарль де Вермон и мадам Карнавале. На имя Эдит пришла телеграмма, которую девушка пробежала глазами и скомкала. Уилмингтон не стал читать свою почту в присутствии посторонних, а забрал письма, невнятно извинился и ушел к себе.
– Деловая корреспонденция, – пояснила, глядя ему вслед, Наталья.
– Что, простите? – резко спросил Алексей.
– Он наследник табачной фабрики, у него большое дело.
В тоне молодой женщины Нередин уловил недоумение. Она явно не понимала, отчего поэт, которым она открыто восхищалась, так резок с ней.
– Мне-то что за дело до этого? – холодно спросил Нередин.
И опять увидел устремленные на него золотистые глаза баронессы Корф, и опять его кольнуло как иголочкой тревожное чувство, что она видит его насквозь и что все ощущения его и мысли для нее как на ладони. У Натальи дрогнули губы. Она отвернулась и больше ничего не сказала.
Растворились двери, вошел слуга (не Анри, а уже другой) и объявил, что обед подан. Шарль де Вермон галантно подал руку Амалии, Нередин повернулся к Катрин Левассер – брюнетке с газельими глазами, но тут Эдит сделала обиженное лицо и объявила, что сегодня все настроены против нее, так что пришлось поэту взять под одну руку француженку, а под вторую – капризную юную англичанку, и так все направились в столовую. Шествие замыкали высокая нескладная художница, изо всех сил старавшаяся сохранить независимый вид, и спокойно улыбающаяся мадам Карнавале.
Глава 4
– Правда, очень странно, что вы не брюнет, – промолвила Эдит. – То есть я была совершенно уверена…
В столовой к пациентам присоединился и Мэтью Уилмингтон, очевидно успевший покончить с деловой перепиской. Всего в зале было три стола, и поэта порадовало, что компания, с которой он успел познакомиться, полностью оказалась за одним из них. Если быть откровенным до конца, он бы не возражал против того, чтобы Натали Емельянова отсела куда-нибудь за другой стол, например за тот, вокруг которого собрались несколько некрасивых женщин лет сорока, какой-то дипломат в отставке и худой костлявый старик. Ее присутствие раздражало Алексея, и он никак не мог заставить себя быть с ней любезным; но тут его закружила карусель общего разговора, и он почти забыл о ее существовании, тем более что поданный обед оказался отличным.
– Какие они несносные, эти англичанки! – вполголоса проговорила художница по-русски после того, как Эдит вернулась к своей излюбленной теме – гаданию, которое на сей раз не оправдалось.
– Вы что-то сказали? – быстро спросила Эдит.
– Rien, mademoiselle[7], – сухо ответила Натали.
Катрин Левассер поймала взгляд Нередина и улыбнулась ему.
– Вы должны извинить Эдит, месье, – сказала она. – Тут, в санатории, не слишком-то много развлечений.
– По правде говоря, – вставил Шарль де Вермон, – их тут вообще нет. Месье Гийоме очень строг во всем, что касается режима. Он вас предупредил, что за малейшую провинность вас могут запросто выставить отсюда?
– Признаться, – ответил поэт, помедлив, – я слышал об этом.
Шарль сделал комическое лицо.
– Прежде всего: никаких интрижек. Даже думать о них не дозволяется. – Он говорил и одновременно улыбался белокурой русской баронессе и француженке с газельими глазами. – Затем родственники. Доктор должен быть осведомлен обо всех, кто приезжает в санаторий. Визиты поощряются не чаще, чем раз в неделю. Чем реже – тем лучше, наверное, потому, что здоровые родственники скверно влияют на самочувствие несчастных больных, а нездоровые родственники влияют еще хуже.
Натали, не удержавшись, фыркнула.
– Затем… что еще? – продолжил де Вермои. – Ах да. Для собственного блага мы должны сидеть в четырех стенах. Гулять – только вблизи санатория и только тогда, когда светит солнце. Если кому-то вдруг понадобится отлучиться, он объясняет доктору, зачем это нужно, и подписывает бумагу, что освобождает его от ответственности, если с больным что-то случится. В общем, месье, в заведении доктора Гийоме у вас есть только два выхода: повеситься со скуки либо выздороветь. Очень многие предпочитают второе. – Он обернулся к соседнему столу. – Видите вон ту даму с жемчугами на шее? Она живет здесь уже шесть лет. Когда она только прибыла сюда, все врачи отказались от нее. Но Гийоме пообещал, что она будет жить, правда, при условии, что не покинет стены санатория и будет все время находиться под его наблюдением. Ее муж, месье Ревейер, души в ней не чает. Он владеет крупными магазинами в Париже, и один бог знает, сколько денег он уже дал доктору на его исследования. И этот человек, который коротко знаком с президентом страны и главой палаты пэров, вынужден раз в неделю приезжать сюда и, как школьник, выпрашивать свидание со своей женой. Но он на все согласен и даже не жалуется. Жизнь – великий дар, месье!
– Однако ведь не все выздоравливают, – возразил поэт, вспомнив разговор доктора и его помощника о неведомой миссис Фишберн.
– Конечно, не все, – вздохнула Катрин Левассер. – Но если даже месье Гийоме не сможет поставить больного на ноги, то, значит, и никто в целом мире не способен. Я сама, когда только приехала сюда, не могла подняться с постели, а теперь… – И она сдержанно улыбнулась Уилмингтону, с самого начала беседы не проронившему ни слова. – Возможно, через какое-то время я смогу вернуться к нормальной жизни. По крайней мере, мне так обещают. И я верю, что так оно и будет.
– И правда, Месье Гийоме – настоящий волшебник, – подала голос мадам Карнавале.
– Вы тоже так считаете, сударыня? – спросил Алексей у госпожи Корф, которая, судя по всему, весьма его занимала.
Баронесса улыбнулась.
– Если бы доктор Гийоме был не тем, что о нем говорят, меня бы здесь не было, – отозвалась она.






