Похититель звезд Вербинина Валерия
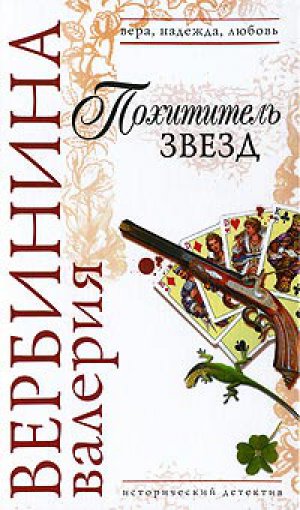
И ее простая – незначительная, в сущности, – фраза разрядила обстановку. Лицо Эдит разгладилось, девушка тоже произнесла несколько слов о погоде. И Катрин вставила несколько слов о Гийоме, который не любит дождя, угрожающего здоровью его пациентов.
– Интересно, что сегодня будет на обед? – спросил Нередин.
Показалось ли ему или Амалия действительно слегка сжала его руку в знак благодарности за то, что он таким образом поддержал ее? «Да нет, – отмахнулся Алексей, – глупости, все мое воображение… И никакая Эдит не сумасшедшая, просто очень впечатлительная девушка, которой тяжело видеть, как вокруг нее умирают люди».
– Вы сегодня без розы, – улыбнулся он Амалии. – Подождите, я сейчас вам принесу…
Она хотела его остановить, но он уже двинулся по дорожке, огибающей дом. Дорожка вилась между кустов и в конце концов приводила на берег моря, над которым в томительном предчувствии грозы летали с пронзительными криками чайки.
Поэт сразу же нашел куст алых роз. Он исколол себе все пальцы, но сорвал самую красивую розу и чуть не бегом вернулся обратно.
– Вот, – сказал Нередин, протягивая розу Амалии. – Она для вас… почти такая же красивая, как вы.
Если бы Алексей поднял голову, то увидел бы в окне лицо Натали Емельяновой. И то, что было написано на ее лице, ему бы вряд ли понравилось.
Перед обедом поэт вернулся к себе в комнату и стал переодеваться. Он не сразу заметил, что в окружающей обстановке что-то изменилось. Вернее, не изменилось, а было не таким, как раньше. Это «что-то» подспудно беспокоило его, когда он менял рубашку и завязывал галстук. Какая-то мелочь, деталь, на которую, вероятно, вовсе не стоило обращать внимания, но все же, все же…
И, только дойдя до дверей, он понял, чего на самом деле ему не хватало, – скомканные листки с набросками стихов, лежавшие под столом, исчезли.
Глава 8
– Может быть, их выбросили слуги? – спросила Амалия.
Но поэт покачал головой:
– Нет, я спрашивал у Анри и у остальных. Они клянутся, что никто даже не заходил в мою комнату.
Амалия пожала плечами.
– Весь вопрос в том, можно ли верить их словам, – сказала она. – Допустим, кто-то из слуг в ваше отсутствие прибрался в вашей комнате. А потом вы стали искать листки, слуга вспомнил, что вы поэт, испугался, не уничтожил ли важную для вас бумагу, и решил на всякий случай все отрицать. Вот вам одно объяснение, и вполне правдоподобное. Или другой вариант. – Баронесса слегка поморщилась. – Некто, кто дорожит вашим творчеством, пробрался в вашу комнату и взял себе ваши черновики на память. Но тут доказать что-то будет еще труднее, чем в первом случае.
Они стояли у окна столовой. Прочие обитатели санатория, разбившись на группы, вяло переговаривались между собой. Кто-то читал газету, одна из немецких дам, примостившись за угловым столиком, исписывала пятый лист почтовой бумаги. Обед еще не подали, но мадам Карнавале уже успела всем любопытствующим сообщить сегодняшнее меню, и пациенты заметно приободрились. Кормили у доктора Гийоме хорошо, на поваров он не скупился. Поэт поймал взгляд одиноко сидевшей в углу Натали – взгляд ее, как показалось Алексею, был немного обиженным. Он повернулся к баронессе. Красная роза, которую он сорвал, пламенела на ее груди.
– Я бы не хотел никому причинять неприятности, – промолвил он извиняющимся тоном. – Черновики были пустяковые, но… Мне неприятно само то, что кто-то без спросу взял мои бумаги. Ничего особенного в них не было, и тем не менее… – Он беспомощно развел руками.
– Что-то Шарля долго нет, – неожиданно произнесла Амалия.
Поэта кольнула ревность – как просто, как привычно она назвала офицера по имени, Шарлем, в то время как сам он оставался для нее «вы, Алексей Иванович». И, хотя Нередин отлично сознавал, что это глупо, он с каким-то раздражением стал думать, что шевалье не слишком умен, все рассказы его похожи друг на друга, и даже тот, где говорилось о том, как он спас дочь вождя дружественного французам племени, которого хотели убить англичане, наверняка вранье и хвастовство. Он знал, что несправедлив, но ничего не мог с собой поделать.
Но вот дверь распахнулась, и последним в столовую вошел Шарль де Вермон. Сейчас он был немного бледен, но улыбался и, подойдя к Амалии, поцеловал ей руку.
– А мы уж думали: куда вы могли деться? – полушутливо-полусерьезно проговорила молодая женщина, но и намека на веселость не было в ее глазах.
– Бога ради, извините, – сказал Шарль, – просто я искал письмо.
– Какое письмо? – поразилась Амалия.
– То самое, которое вы мне принесли. Вы же положили его на стол, верно?
– Да. Там оно и должно быть.
– Ну так вот: его там нет!
Алексей прислушался.
– То есть как – нет? – спросил он. – Может быть, его кто-то взял?
– Кому оно нужно? – возразил офицер. – Я обыскал всю комнату, но письма не нашел. Как сквозь землю провалилось!
– Хм, поразительное совпадение… – уронила Амалия. – У месье Нередина пропали бумаги, теперь у вас исчезло письмо…
Теперь пришла очередь удивляться офицеру:
– Какие бумаги? Надеюсь, ничего важного?
– Черновики моих стихов, – пояснил поэт. – Я все утро пытался сочинять, потом вышел прогуляться, а когда вернулся, листки куда-то исчезли.
– Очень странно! – воскликнул Шарль. – А больше у вас ничего не пропало?
– Я проверял, все остальные вещи на местах.
– Прошу прощения, что-нибудь не так? – За спиной офицера как по волшебству материализовался доктор Севенн.
Алексею не хотелось посвящать молодого человека в подробности происшедшего. Для себя он почти уже решил, что черновики наверняка взяла на память художница, и не собирался придавать неприятному факту больше значения, чем он того заслуживал. Но Шарль де Вермон уже рассказывал доктору подробности двух пропаж в санатории. Филипп взволновался, попросил слугу позвать Шатогерена и немедленно ввел его в курс дела. В санатории появился вор! Этого еще не хватало! Надо немедленно допросить слуг, всех, кто мог что-либо видеть! Доктор Гийоме только что уехал к пациенту по срочному вызову, и надо же было, чтобы такое случилось в его отсутствие… Даже бородка молодого врача встала дыбом от возмущения.
– Успокойтесь, Филипп, – вмешался Шатогерен. А затем обратился к поэту: – Скажите, месье, вы очень жалеете о пропаже своих черновиков?
– Да, в общем-то, нет, – сознался Нередин. – Просто как-то неприятно…
– Понятно, – кивнул врач. – Теперь вы, сударь. Скажите, письмо было очень важным?
– Откуда мне знать? – пожал плечами офицер. – Я вообще в глаза его не видел. Скорее всего, его прислала тетушка Адель, которая мне пишет чуть ли не каждый день, так что не думаю, что потеря большая.
– Оно было адресовано в Африку, – сказала Амалия.
– В Африку? – озадаченно переспросил Шарль. – Позвольте, так что, письмо ехало за мной из Алжира в Париж, из Парижа в Шантийи и потом сюда? Нет, тогда оно не может быть от тетушки Адели, та прекрасно знает, где я нахожусь. Может быть, какой-нибудь мой сослуживец написал мне? Но в полку был известен мой парижский адрес. – Он покачал головой и обратился к Амалии: – А вы не видели, от кого было письмо?
– Честно говоря, я не запомнила, – призналась Амалия. – Конверт весь был в штампах и почтовых пометках, на нем едва можно было разобрать даже ваше имя.
– Поразительно, – вздохнул офицер. – Ну если в послании было что-то о наследстве от дядюшки Грегуара, то я буду безутешен.
– В самом деле, там не могло быть что-нибудь ценное? – внезапно заинтересовалась Амалия. – Что-нибудь, из-за чего письмо стоило украсть?
– Сударыня, неужели вы приняли всерьез мои слова о возможном наследстве? – с комической серьезностью воскликнул Шарль. – Успокойтесь, прошу вас. Конечно, дядюшке Грегуару уже хорошо за шестьдесят, но он, знаете ли, вроде тех дубов, которые только разрастаются вширь, и никакие жизненные бури им нипочем. Он уже похоронил дочь и одну из жен… или одну из дочерей и двух жен, точно не помню. Полагаю, он и меня переживет. И если завтра вспыхнет эпидемия чумы или какой-нибудь холеры, то дядя наверняка окажется в числе уцелевших и все так же свирепо будет ругать правительство, которое, по его словам, ничего не стоит. Да и потом, даже если мне повезет и он преставится прежде меня, не сомневаюсь, что завещает мне дядюшка лишь пару табакерок и какую-нибудь чепуху, а основное состояние отпишет господину Пастеру или господину Коху. Он мизантроп и считает, что все кругом – болваны, а ученые разве что поменьше болваны, чем прочие.
– И все же мне не нравится, что письмо исчезло, – откликнулась Амалия, которую шутливый тон собеседника ничуть не убедил. – Я хорошо помню: положила его на стол, и оно не могло никуда деться. Разве что окно было открыто и какой-нибудь сквозняк… Но окно было закрыто, – добавила она.
Доктор Севенн повторил, что присшествие очень странное, в санатории вообще никогда ничего не пропадало. Но доктор Шатогерен покачал головой:
– Вы только недавно заступили на должность, Филипп, а я тут уже несколько лет. Был однажды неприятный случай с одной особой, которая страдала болезненной манией присваивать чужие вещи.
– Клептоманией? – быстро уточнила Амалия.
– Именно так. Конечно, доктор Гийоме в конце концов все узнал и выставил ее за дверь. Насколько я помню, она брала шпильки, пуговицы и тому подобную мелочь. – Он поморщился. – Обещаю вам, мы разберемся в случившемся. Если виновны слуги, они будут наказаны; если кто-то из пациентов – мы тоже не оставим происшествие без внимания. А теперь, господа, и вы, сударыня, прошу к столу. Сегодня наш повар Жюль особенно постарался!
Глава 9
Четыре мятых листка с набросками – и письмо.
Кому понадобилось их брать? И самое главное – зачем?
Если, допустим, черновики взяла Натали, то при чем тут письмо? И вообще, что такого может быть в письме, чтобы им пожелал завладеть посторонний?
Алексей чувствовал, что маленькая тайна занимает его все больше и больше. Стихи не ладились, он скучал, не находил себе места, и тут судьба подбросила ему приключение. Не самое, допустим, интересное приключение, но все-таки…
«Она или не она? – думал он, глядя на Натали, которая ела, широко расставив локти. – Но при чем тут де Вермон? Зачем тогда письмо?»
И внезапно он понял. Ну конечно же… Дело вовсе не в письме, а в баронессе Корф. Письмо пропадает, а всем известно, что разносила письма баронесса. На кого думают тогда? На нее, разумеется. Начнут гадать: может быть, в письме были деньги, может быть, она нарочно украла… Вот поэтому Натали и стащила его. Потому что она ненавидит Амалию… за то, что та является всем, чем Натали хотела бы быть. И потом, пропавшее письмо идеально отводит подозрения от нее самой. Всем же известно, что французский офицер для нее ничего не значит.
Это была не то чтобы логичная версия, а версия прямо-таки неуязвимая, блистательно объяснявшая все неувязки и противоречия. В самом деле, никто из обитателей санатория, кроме Натали, не был фанатичным поклонником русского поэта – по крайней мере, до такой степени, чтобы таскать его поэтические наброски. Да никому подобное просто в голову прийти не могло!
Успокоившись насчет того, кто был вором, Алексей задумался, как бы ему теперь вывести художницу на чистую воду.
«Что, если дать ей понять, что мне все известно? – размышлял он. – В романах, опять же, такой прием всегда срабатывает. Только неизвестно, можно ли романам вообще доверять… – Поэт заметил, что Натали не поднимает глаз от тарелки, и приободрился: – Ага, мы уже страдаем, у нас на душе неспокойно, потому что совесть нечиста… Наверняка она должна как-то себя выдать. Стоит только на нее сурово посмотреть…»
И он посмотрел. Но продолжение оказалось вовсе не таким, как он ожидал. Натали вся засияла смущенной улыбкой. Заметив, что в течение всего обеда поэт не сводит с нее взгляда, она, конечно же, истолковала его внимание самым выгодным для себя образом. А сконфуженному Нередину немедленно захотелось провалиться сквозь землю.
«Нет, это просто… просто черт знает что! – в сердцах подумал он. – Или она совершенно лжива и бессердечна, или… или все-таки ни при чем. – Он еще раз посмотрел на лицо Натали и убедился, что на нем нет и тени угрызений совести или каких-то душевных мук. – Ей-богу, вот если бы я не был уверен, что кража – ее рук дело, то ни за что бы не поверил, настолько у нее безмятежный вид. Однако большой вопрос, можно ли вообще верить женщинам!»
Погрузившись в раздумье, поэт не сразу расслышал, что Эдит обращается к нему с каким-то вопросом, и невпопад брякнул: «Да, конечно». Англичанка воззрилась на него с изумлением, и Нередин очнулся.
– Что такого я сказал, Амалия Константиновна? – быстро спросил он.
– Вы только что подтвердили, что Россия будет воевать с Англией, – безмятежно проговорила Амалия, однако глаза ее улыбались.
Но политика в то мгновение совсем не занимала поэта.
– А мне кажется, что Россия будет воевать с Германией, – веско уронил Уилмингтон. – На стороне Франции.
– Война – ужасная вещь, – вздохнула Катрин, и ее красивые глаза затуманились.
– Может быть. Но Франция наверняка выступит против Германии, – продолжал англичанин. – Не зря же их канцлер заявил, что эта война может случиться через десять лет, а может, и через десять дней.[8]
– Да какая разница, в конце концов, кто с кем будет воевать? – вырвалось у Нередина нетерпеливое.
Но он сразу же понял, какую ошибку совершил, потому что почти все немедленно ополчились против него – с таким жаром, как будто именно за их столом решалась судьба Европы. С одной стороны, Германия и Австрия, с другой – Франция, которая лишилась Эльзаса и Лотарингии и теперь готова перевернуть небо и землю, чтобы вернуть их обратно. Но Франция слишком слаба, чтобы выступить в одиночку, и поэтому вербует союзников, но все тайные договоры за семью печатями… Однако ведь тайны на то и существуют, чтобы их раскрывали. Будет война, потому что Германия не отступится от своих притязаний, потому что Англия не допустит, потому что Россия…
– Россия традиционно связана с Германией, – веско уронила мадам Карнавале. – Взять хотя бы Екатерину Великую…
– Если уж на то пошло, королева Виктория наполовину немка, – насмешливо парировала Амалия.
– Сударыня, я попросил бы вас! – возмутился Уилмингтон. Его негодованию не было предела, как будто баронесса сказала что-то неприличное.
– А у нас больше нет императора, – вздохнул Шарль. – Ни великого, ни малого. Даже претендент на королевский трон – и тот умер[9]. И к чему все это приведет, непонятно.
– А я считаю, что России совершенно незачем воевать за чужие интересы, – резко сказала Натали. – Пусть Европа сама разбирается со своими проблемами, нам собственных хватает.
И Нередина поразило, до чего точка зрения неприятной художницы созвучна его собственным мыслям по данному поводу.
– Но, к сожалению, не все думают, как вы, – отозвался Уилмингтон. Как и большинство англичан, раз начав говорить о политике, он уже не мог остановиться. – Одним словом, война будет непременно, вопрос только – когда.
– Вы так говорите, как будто собираетесь до нее дожить, – буркнул поэт.
Он сказал именно то, что думал. К чему все разглагольствования о европейских интересах и мировом господстве, когда у половины беседующих вместо легких решето, когда в каждой комнате дома, где они живут, затаилась смерть, когда неизвестно, встретятся ли спорщики завтра за столом в прежнем составе? Зачем бесполезное переливание из пустого в порожнее, когда есть дела куда более важные – почитать интересную книгу, до которой раньше не доходили руки, сорвать красную розу для хорошенькой женщины, просто дышать, просто жить и наслаждаться жизнью? Разве обязательно надо выяснять, куда кренится политический флюгер той или иной страны, спорить, тратить время и нервы? Не лучше ли оставить политику политикам, а себе – жизнь, единственную, неповторимую, которая и так висит на волоске?
Нельзя сказать, что Нередин был совсем уж не прав; но форма, в которую он облек свои мысли, была определенно неправильной. И то, что у него вырвалось, получилось нехорошо, грубо, по-скифски. Катрин медленно положила вилку. Тяжелые щеки Уилмингтона задрожали, он дернул нижней челюстью и поднялся из-за стола.
– Простите, у меня что-то больше нет аппетита… прекрасный обед… да.
«Я свинья», – мрачно подумал Алексей. Ему было невыносимо стыдно.
Шаркая ногами, Уилмингтон вышел за дверь. Катрин замешкалась, но в конце концов бросила салфетку на стол и устремилась следом за ним.
– Мне кажется, сегодня будет дождь… – нерешительно начала Эдит.
– Определенно, – поддержала ее мадам Карнавале.
Амалия поглядела в окно.
– Доктор Гийоме вернулся, – сказала она.
И все с облегчением ухватились за новую тему. Интересно, к кому доктор ездил? Ведь он же терпеть не может покидать пределы санатория…
Но вот принесли кофе, и все расслабились. Кто-то отправился к себе подремать после обеда, одна из немецких дам уселась возле окна и принялась вязать. Как она объясняла поэту двумя днями раньше, вообще-то она терпеть не может вязать, но это занятие хорошо успокаивает нервы.
К Нередину подошла Натали.
– Алексей Иванович… Вы еще не надумали насчет портрета?
– Нет, – ответил он, глядя в сторону. Он до сих пор переживал из-за того, что сказал Уилмингтону. Ну англичанин, ну не слишком приятный, рыжий и чванный… И что? Вовсе он не заслужил с его стороны такого отношения. – Мне придется поработать, восстанавливать строки…
– Какие строки? – удивилась Натали.
Он повернул голову и внимательно посмотрел в ее лицо. И похолодел.
Она ничего не знала. Понимаете, ничего… Она даже не подозревала, что кто-то стащил его наброски, которые он высокопарно назвал строками. Натали ни при чем, теперь он был совершенно убежден.
Но если она ни при чем, то кто же тогда?
– Я случайно уничтожил свои черновики, – как можно более небрежно объяснил он. – Теперь придется писать заново…
– А!
И все же в ее восклицании было больше недоумения, чем понимания…
Амалия вышла в сад. В ветвях деревьев переговаривались птицы, легкий ветерок щекотал листья, и они покачивались словно от невидимого смеха. Воробей сел на дорожку, чирикнул, пропрыгал несколько шагов, вильнул хвостом и улетел.
«Ох уж мне эти поэты, – с досадой думала баронесса, – ох уж эти ранимые души, которые сами на поверку оказываются такими бестактными… И Нередин не лучше прочих, даром что сейчас едва ли не первый поэт России. Зачем он обидел англичанина? Того и так жизнь не баловала, мать умерла в родах, отец – когда юноше было пятнадцать лет, вечно он среди чужих людей, вечно один… и тяжелая болезнь, которая теперь уже не отступит, достаточно посмотреть на его лицо… Фи, Алексей Иванович, как некрасиво было с вашей стороны намекать бедняге, что ему не так уж много осталось!»
Она нащупала рукой красную розу на корсаже, которую ей принес поэт, и, сорвав ее, сердито отбросила на траву.
…А в комнате Уилмингтона тем временем сидела Катрин и гладила по голове несчастного, который лежал на диване и рыдал так, словно у него разрывалось сердце.
– Я так и знал… так и знал… Но они же ничего не говорят… наши врачи… И я даже не знаю, сколько мне осталось… А я не хочу умирать! – Он поднял голову, его некрасивое одутловатое лицо было залито слезами. – Катрин, я больше так не могу… И не хочу. Черт с ним, с доктором Гийоме и его запретами, ведь не он же умирает от чахотки! Скажите, Катрин, – он собрался с духом, – вы выйдете за меня замуж? Вы знаете, как я к вам отношусь, вы единственный человек, который… который… – Он искал слов и не находил. – Вы выйдете за меня? Я вовсе не беден, даже наоборот… Обещаю, вы не пожалеете!
Катрин вздохнула.
– Да, – после паузы промолвила она.
Глава 10
– Должен признаться, – сказал Шарль де Вермон, – ваши слова не выходят у меня из головы.
– Вы о чем? – спросила баронесса.
– О пропадающих ценных письмах. Вот уже битых полчаса я ломаю голову над тем, кто из моих родственников мог оставить мне наследство, – и, однако же, не нахожу никого, кто был бы способен на такую любезность.
Они сидели в библиотеке – просторной комнате, целиком заставленной по стенам старинными шкафами с книгами. Амалия рассеянно листала «Век Людовика XIV» Дюма с прелестными иллюстрациями и буквицами работы Лезестра. Что касается Шарля, то он слегка выпадал из окружающей обстановки, потому что его куда труднее было представить себе с книгой в руках.
В дверь без стука вошел Ипполито Маркези. Заметив баронессу и ее спутника, священник в нерешительности остановился.
– Входите, месье, – приветствовал его Шарль. – Как видите, это библиотека. В основном тут книги, которые подарил санаторию герцог Савари, и я уверен, здесь найдется литература на любой вкус.
– Большинство книг расставлено по авторам, – добавила Амалия. Священник подошел к шкафам и стал рассматривать корешки.
– Гм, – вполголоса промолвил Шарль, – он стоит возле буквы Б. Стало быть…
– Стало быть? – в тон ему подхватила Амалия.
– Стало быть, ему нужен «Декамерон» Боккаччо… или я не Шарль де Вермон, – тихо ответил офицер.
Но итальянец уже отошел к другому шкафу.
– Вы проиграли, Шарль, – заметила Амалия. – Он уже возле буквы М. Держу пари, он ищет книгу, которую написал его дядя кардинал. «О необходимости целомудрия» или что-то в таком роде.
Шарль де Вермон самым непочтительным образом фыркнул.
– Если эту необходимость надо обосновывать в увесистом томе… – начал он.
– Шарль! – выразительно прошептала Амалия, делая большие глаза. – Вам помочь, святой отец? – спросила она, повышая голос.
– Благодарю вас, не стоит, – отозвался священник. – Я искал здесь дядину книгу, но ее, похоже, тут нет.
– Зато тут много других книг, – объявил Шарль. И даже столь простую фразу он ухитрился произнести самым что ни на есть двусмысленным тоном.
В дверь постучали, и через мгновение на пороге показалась Натали Емельянова.
– А, Амалия Константиновна, вы здесь! Вы уже слышали новость?
– О чем? – спросила молодая женщина.
– Мэтью Уилмингтон и Катрин Левассер собираются пожениться.
– Что такое? – спросил Шарль, и Амалия перевела на французский слова Натали.
– А он взял Монтеня, – объявил офицер, кивая на священника, который с трудом извлек тяжелый, в металлической окантовке, том с полки и затем едва не уронил его на пол. – Значит, Матьё и Катрин… Что ж, все к тому и шло. Он с нее глаз не сводил.
– Вряд ли это плохо, – продолжала Натали. – Говорят, для чахоточных женщин полезно рожать.[10]
– Доктор Гийоме так не считает, – спокойно заметила Амалия.
– А что случилось с черновиками Алексея Ивановича? – внезапно спросила художница. – Мне он сказал, что случайно уничтожил наброски, а доктор Севенн проговорился, что их украли. Что с ними на самом деле произошло?
– Похоже, слуги проявили излишнее усердие, – уклончиво ответила баронесса. – Ничего особенного.
Натали сердито передернула плечами.
– Это вы так говорите. Но мы же не знаем, какие стихи могли быть на тех листках. Хотя вам, наверное, неважно.
– Почему? – спросила Амалия.
Натали нерешительно взглянула на нее.
– Мне кажется, вам больше по вкусу какой-нибудь Фет, чем Нередин. «Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело».
– «Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло», – закончила Амалия. – Но вы не правы, стихи Нередина я тоже люблю.
- Вновь на душу нахлынули звуки,
- Бередя застарелые раны.
- Это музыки нежные руки
- Прикоснулись к лицу фортепьяно.
- Да, все будет, я верю, я знаю,
- Если даже забвенье бессильно
- Перед нашей любовью… Смолкает
- Лепет клавиш. Вы правы – все было.
Шарль беспокойно шевельнулся. Он понял, что Амалия процитировала какие-то стихи, и ему было досадно, что он не понимает их смысла. Священник, прижимая к груди том Монтеня, смотрел на баронессу во все глаза.
– Да, «Северные поэмы» – хорошая книга, – кивнула Натали. – Но…
– Но вы предпочитаете «Деревянную Россию», – заметила Амалия. – Ту, которая из цикла «Прошлое»:
- Перелески, ветер синий,
- Гунны, скифы, трын-трава,
- Деревянная Россия,
- Деревянные дома.
- Не река порой весенней
- Потеряла берега —
- Деревянные рассветы,
- Деревянные снега.
- На березе, на осине
- Жаром марево горит —
- Деревянная Россия,
- Деревянные дожди.
Баронесса сделала паузу. Натали кивнула и продолжила:
- Не спеши, наездник вражий,
- Спрячь свой меч, колчан и щит —
- Деревянная держава,
- Деревянные кресты.
- Мир из слабости и силы,
- Мир чудес и простоты —
- Деревянная Россия,
- Деревянный монастырь.
- Время жнет и сеет жизни,
- Вечность – капелька росы —
- Деревянная Россия,
- Деревянные часы…
– Это гениально! – воскликнула художница искренне. – Просто гениально! Среди всех прочих… которые… – она делала руками беспомощные жесты, словно пытаясь восполнить недостающие слова. – «Средь шумного бала, случайно…»[11] и «У царицы моей есть высокий дворец…»[12] – вроде бы красиво и поэтично, но так искусственно, так оторвано от жизни… и вдруг…
Девушка заметила, что Амалия смотрит куда-то ей за спину, и обернулась. В дверях стоял Алексей Нередин, но по выражению его лица нельзя было понять, слышал ли он, как две молодые женщины читали его произведения.
– А мне нравятся стихи графа Алексея Толстого, – неожиданно промолвил он. – В нашей поэзии он продолжатель пушкинской традиции, что дорогого стоит.
Он посторонился, пропуская Ипполито Маркези, который отвесил общий поклон присутствующим и ушел, унося с собой Монтеня.
– У вас очень музыкальный язык, – объявил Шарль Амалии. – Но очень непонятный.
Баронесса пожала плечами.
– Если языки не учить, то все они так и останутся непонятными, – с восхитительной самоуверенностью парировала она.
– О, помилуйте! – вскинулся Шарль. – Разве я вам не рассказывал, как из меня хотели сделать аббата и только полная неспособность к латыни меня и спасла? Иначе мне бы тоже пришлось писать, как тому кардиналу… о необходимости воздержания. Да я бы умер прежде, чем взялся за перо!
Амалия с укоризной поглядела на него.
– «Деревянная Россия» – первое ваше стихотворение, – горячо заговорила Натали, обращаясь к поэту. – Вы помните, как вы его написали?
Алексей поморщился. Вовсе не первое – до него были десятки, если не сотни, опытов, но полноценными стихами он их не считал. Так, пробы пера, имеющие значение лишь для автора. И рождение этого стихотворения тоже не запомнилось ему; сохранилось лишь ощущение какой-то невероятно унылой поездки по делам полка – то ли на подводах по бесконечной грязной дороге, то ли на поезде. В памяти остались плетни, дома, кладбища… А может быть, и не было никакой поездки, он сам ее выдумал уже потом, когда его стали осаждать со всех сторон вопросами. Просто он написал стихотворение, которое ему самому понравилось, дал ему отлежаться, выправил его, отправил в журнал и забыл. А потом…
А потом грохнул и лопнул оглушительней фейерверка неописуемый скандал, и имя безвестного до того поручика Алексея Нередина прогремело на всю Россию. Номер журнала зачитывали до дыр, стихотворение переписывали, цензора, который пропустил шесть строф с пометкой «Из цикла «Прошлое», вызвали в цензурный комитет для дачи объяснений, а вокруг автора завертелась и вовсе какая-то непонятная чехарда. Каков смельчак, восхищались либералы, вот прямо так, с плеча, взял и рубанул правду-матку, что держава-то деревянная, да еще протащил такую крамолу сквозь цензуру, усыпив ее подзаголовком цикла… Каков мерзавец, вопили ретрограды, гуннов и скифов ему подавай, нет чтобы написать, как Наполеону по шее накостыляли… Это не стихотворение, а вызов здравому смыслу, захлебывались желчью критики. Где, интересно, автор мог увидеть синий ветер? Там же, где и зеленых чертей? Не остался в стороне даже сатирический поэт Дмитрий Минаев, пустивший по рукам эпиграмму про стихотворца «с деревянной головой», которому все видится исключительно в деревянном свете.
В полку тоже было неладно: одни офицеры подходили и поздравляли Нередина, и было видно, что они действительно на его стороне, другие же, начиная с полковника, куксились и при встрече разговаривали исключительно сквозь зубы. Алексея же вся возня вокруг его стихотворения порядком удивила и озадачила. Его не покидало стойкое ощущение, что все, абсолютно все, прочитали в его стихах совершенно не то, что он хотел сказать. Одни видели в его произведении только фигу в адрес существующего строя, другие – оскорбление едва ли не лично себе. Но сам он не имел в виду ничего, кроме того, что было в стихотворении сказано, и его раздражало, что любые попытки объяснить это наталкивались на реплики вроде: «О да, конечно, но вы же не можете говорить иначе!»
А потом его стихотворение прочитал государь и будто бы сказал: «Неплохо пишет». Может быть, даже и не прочитал и, может быть, ничего такого не говорил, но все уверовали, что так оно и было. И либералы сразу же как-то потускнели, и ретрограды подобрели на глазах. Потому что, когда крамола одобрена сверху, это уже не крамола. И будьте благонадежны, все толковые государи отлично сие знают. Как и то, что только слабые правители воюют с поэтами.
А Нередин ушел со службы и начал сочинять стихи – теперь уже не от случая к случаю, а как настоящий поэт. За пять лет он выпустил три сборника – «У камина», «Северные поэмы» и «Огненная башня». И все они имели успех; гимназистки и влюбчивые барышни заучивали наизусть лирические стихотворения, более основательные читатели жадно впитывали его «Все забыть, раствориться в покое…» или «Этот город, это небо…», которые вполне могли сойти за обличительные ламентации. Иные его стихи стали популярными романсами, и самым знаменитым стал тот, музыку для которого написал известный композитор Чигринский. Стихотворение было из первого сборника:
- Когда сидишь ты ночью у камина
- И вспоминаешь умерших друзей,
- Золу воспоминаний кто незримый
- Всех чаще ворошит в душе твоей?
- Кого ты видишь в пепельном налете
- Под гаснущими струйками огня,
- Которые в нестройном хороводе
- Над угольками пляшут, мглу дразня?
- Кого зовешь ты в темноте кромешной,
- Чье имя гаснет на твоих губах?
- Тебя он видит, слышит и, конечно,
- Одну тебя любил он, лишь тебя…
Алексей вспомнил, что романс очень любила К. и исполняла его чаще остальных. Интересно, будет ли она вот так вспоминать его, когда поэт умрет?
«Нет. Не будет. Потому что стихи – всего лишь красивые стихи, а жизнь… Жизнь – это жизнь», – ответил Нередин сам себе.
И увидел прямо перед собой глаза Натали. Кажется, она о чем-то его спрашивала. Ах да, как он написал «Деревянную Россию».
И как ей объяснить, что теперь он вовсе не считал то стихотворение таким уж замечательным, что его представления о поэзии с тех пор расширились, что он открыл для себя другие вершины и другие горизонты, что его интересуют новые возможности стиха – верлибры и опыты французских символистов? Как втолковать, что для него вообще стихи имеют значение, лишь пока он их пишет, и что в момент, когда они рождаются для читателя, для него они уже мертвы? И она все еще хочет знать, как он сочинил то давнее стихотворение?
– Я не знаю. – Впервые в жизни Нередин мог себе позволить быть откровенным. – Стихи сами ко мне приходят. Очень трудно объяснить…
«Или не приходят», – закончил он про себя. Но последнее им было и вовсе ни к чему знать.
На самом деле Алексея куда больше волновало другое.
– А ваша роза, сударыня? – спросил он у Амалии. – Где она?
Баронесса Корф не любила то, что про себя называла «детской ложью», но сейчас ей все же пришлось солгать.
– Кажется, я ее потеряла, – сообщила она с самой очаровательной улыбкой.
– Тогда я принесу вам другую, – объявил поэт, поворачиваясь к двери.
– Не стоит, Алексей Иванович, – бросила ему вслед Амалия. – Будет гроза.
Но поэт не слушал ее и через несколько минут уже шел по дорожке, огибающей дом.
Ветер раскачивал кусты с такой яростью, словно хотел выдрать их с корнем. Чайки, летавшие над морем, жалобно кричали.
Алексей сорвал розу и уже собрался уходить, когда его внимание привлекло опрокинутое кресло впереди, на самом краю скалы. Берег здесь круто обрывался в море, и до воды было не меньше двадцати метров.
«Это, должно быть, кресло мадам Карнавале… – сообразил Нередин. – Кто-то еще говорил, что старушка любит сидеть на берегу одна… Но где же она?»
А да, наверняка уже в доме, тем более что гроза разразится с минуты на минуту. Поэт подошел к креслу, собираясь поднять его и отнести подальше от края скалы, чтобы его не сдуло в море, и машинально посмотрел вниз.
Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы осмыслить то, что Алексей увидел. Но зато теперь он точно знал, что мадам Карнавале никуда не ушла. Ее тело покачивалось на волнах внизу, мокрая юбка облепила ноги. Вокруг головы колыхалось алое пятно.
Глава 11
– Уверен, это был несчастный случай, – сказал доктор Гийоме. Он подошел к столу, взял бутылку и налил в бокал немного вина. – Выпейте, месье Нередин, вам не повредит.
Поэт принял бокал негнущейся рукой. Глупо, твердил он себе, просто ни с чем не сообразно. Ведь он служил в армии, знал, что такое смерть, видел ее в лицо. Но отчего-то нелепая гибель безобидной старушки произвела на него такое впечатление, что поэт до сих пор не мог прийти в себя. И еще он в первое мгновение подумал: неужели ей захотелось поплавать… Но Гийоме, конечно, о той глупой мысли говорить не стоит.
Стукнула дверь, и в кабинет вошел доктор Филипп Севенн, нервно пощипывающий белокурую бородку. Сейчас он был мрачен и строг, как какой-нибудь служащий похоронного бюро.
– Больные уже знают? – спросил у него Гийоме.
Молодой помощник кивнул.
– И, конечно, они взбудоражены, – скорее утвердительно, чем вопросительно, промолвил главный врач.
– Их можно понять, – заметил Севенн. – Совсем недавно она говорила, что здорова и собирается покинуть санаторий, а теперь…
– Да, – уронил Гийоме и стал смотреть в окно. – Полиция уже приехала?
Севенн кашлянул, поправил манжету на рукаве и кивнул:
– Инспектор Ла Буле из города. Шатогерен с ним разговаривает. Я полагаю, у нас не будет хлопот.
– Какие могут быть хлопоты? – пожал плечами Гийоме. – Старая дама сидела на краю обрыва. Возможно, у нее закружилась голова, возможно, женщина потеряла сознание и упала вниз. А внизу острые скалы, которые видны только при отливе. Смерть наступила, я полагаю, практически мгновенно… Что еще?
– Наверное, надо сообщить родственникам, – нерешительно промолвил Севенн. – Я не очень хорошо знал мадам Карнавале, но наверняка у нее должен быть… хоть кто-нибудь. Вы упоминали, она из Антиба, что совсем близко. Если родные захотят приехать на похороны…
– Хорошо, я пошлю им письмо, – вздохнул доктор Гийоме.
– Да, месье, должен вам сообщить, что граф Эстергази снова прибыл, – добавил помощник. Затем покосился на безучастного поэта, обмякшего в кресле. – Сказал, что пациентка опять плохо себя чувствует.
– Невыносимо, – забурчал Гийоме, – просто невыносимо! Я же только что был у них! Что мне теперь, насовсем к ним переселиться? Кроме того, все это вздор, женские капризы. Она вбила себе в голову, что умирает от чахотки. Я прослушал ее – отличные легкие, ни малейшего следа болезни. Она придумывает себе несчастья, потому что в ее жизни что-то не ладится. Скорее всего, женщина несчастна со своим мужем. Но с подобным, уж простите, не ко мне!
Алексею наскучили посторонние разговоры. Он залпом выпил вино, поднялся с места и поставил бокал на поднос.
– Извините, господин доктор… но, если вы не возражаете, я хотел бы вернуться к себе.
Господин доктор не возражал, и Алексей, откланявшись, ушел. В коридоре он столкнулся с Рене Шатогереном.






