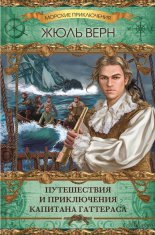На сеновал с Зевсом Логунова Елена
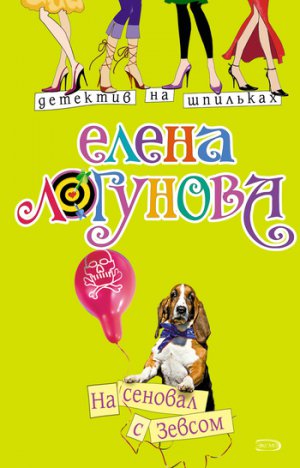
Мне страшно хотелось шумно разреветься, но я удержалась и ограничилась символическим плаксивым хрюканьем: в дополнение к растрепанным волосам размазать по лицу весь макияж – это было бы уже чересчур даже для чокнутой Офелии!
– Не может быть! Ты всегда выглядишь просто замечательно! – возразил Денис с пылкостью, за которую я была ему искренне признательна. – Что случилось? Ты сломала ноготь?
– Ах, если бы!
Я вкратце описала любимому ущерб, который нанесла моей внешности работа над Маруськиными ошибками, и Денис поспешил меня утешить:
– И всех-то делов? Да ладно тебе! Сейчас заедем в парикмахерскую и быстро приведем твою голову в порядок! То есть твои волосы.
Мысленно я отметила эту его оговорочку (значит, Кулебякин думает, что мою прическу нормализовать можно, а с головой в целом беда непоправимая!), но цепляться за слова не стала (пока). Милый, спасибо ему, предложил не самое плохое решение.
– Ладно, я тебя жду!
Я спрятала в сумочку мобильник, достала влажные салфетки, косметичку с мазилками и сноровисто нарисовала себе новое лицо. Оно получилось вполне симпатичным. Было бы даже красивым, если бы его не портило злобное выражение, уместное не на помолвке, а на публичной казни. Как сказал Кулебякин – на заклании.
И я закономерно подумала о Маруське, которая в данный момент стояла первым номером в моем персональном списке смертников. До приезда Дениса было еще несколько минут, и я решила потратить их на кровожадное удовольствие.
– Алло, Маруся? – набрав домашний номер приговоренной, притворно ласково проворковала я в трубочку. – А ты, значит, дома сидишь, пока другие тут за тебя навоз разгребают? Убить бы тебя!
– Извините, Мареточки нет дома, – тихо и вежливо ответили мне. – Кто ее спрашивает, что передать? Я ее мама, Аминет Юсуфовна.
Я прикусила язычок. Голос у Марусиной мамы был молодой, очень похожий на звонкое сопрано дочери, но тон разительно отличался. Маруська – девица бойкая, она тарахтит, как трактор «Беларусь», и хохочет, как гиена, а у Аминет Юсуфовны, чувствуется, совсем другая манера общения.
«Что ты хочешь – закрепощенная женщина Востока!» – брякнул мой внутренний голос.
Я покачала головой. Маруська несколько раз упоминала о своих родственниках – папе, маме и сестре, и у меня сложилось впечатление, что это нормальное интеллигентное семейство. Папа вроде в университете преподает, мама в каком-то проектном институте работает, младшая дочка еще школьница. То есть если у них там и Восток, то не дремучий. Маруська, во всяком случае, весьма современная девица.