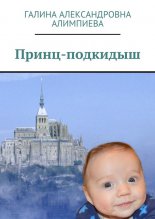Обратная перспектива Столяров Андрей

© Столяров А. М., 2015
© ООО «Литературный Совет», 2015
Несколько слов
Мне всегда казались бессмысленными предисловия к книгам. Если автору есть что сказать, он может сделать это непосредственно в тексте – для того, собственно, книги и пишутся. Никто не держит автора за руку. Никто не запрещает ему излагать любым языком все, что он хочет. Автор же, предваряющий текст судорожным размахиванием рук: пояснениями, дополнениями, жеманными извинениями, восклицаниями, уподобляется зазывале, который, стоя у дверей магазина, пытается всучить рекламный проспект торопящимся и раздраженным прохожим.
Выглядит это, по-моему, глупо. Эффект возникает обратный. Если тебе что-то упорно навязывают, невольно начинаешь относиться к этому с недоверием.
Особый случай, когда предисловие пишет специалист: критик, литературовед, культуролог, старающийся проследить генезис данного художественного явления, стремящийся поместить его в определенный культурософский контекст – выстроить таким образом концептуальное древо. Это еще имеет некий, хотя бы формальный, смысл. Должен, однако, заметить, что значимость книги от этого редко когда возрастает. При нынешней изощренности профессиональных концептуалистов, занимающихся, по-моему, не столько выяснением истины, сколько «играми в бисер», встроить в красивый культурософский пейзаж можно практически любое произведение. Это тоже своего рода реклама, интеллектуальный маркетинг, призванный придать явлению рыночную привлекательность, попытка убедить покупателя в том, что за небольшие деньги он получает редкий и ценный товар.
У меня совершенно другая задача. Я не намерен никого ни в чем убеждать. Я не намерен делать свой текст более значительным, чем он на самом деле является, и, разумеется, я не рассматриваю его как истину в последней инстанции. Читатель, если данная рукопись будет опубликована или, что более вероятно, выложена в интернет, волен решать сам – верить ему или не верить. А если все-таки верить, то до какой степени. И уж тем более я не склонен никого призывать к каким-либо действиям. «Пасти народы» – это задача политиков или пророков. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Мне, если честно, самому не очень понятно, какие именно действия здесь можно было бы предпринять. И это вовсе не интеллектуальное высокомерие, не желание с отстраненным видом сказать: я вас предупредил, далее – как хотите, не стремление оправдать лично себя непроходимой глупостью всех – нет, я действительно не вижу в данной ситуации реального выхода, то есть он существует, разумеется, существует, но при этом настолько очевидный, простой, бросающийся в глаза, что вряд ли ему кто-то последует, за исключением, может быть, ничтожного меньшинства. Менее всего мы склонны полагаться на очевидное и менее всего готовы к жертвам, даже ради самих себя.
Я не знаю, как классифицировать эту свою работу. Это, разумеется, не монография и не статья – здесь слишком много чисто беллетристического материала. С другой стороны, это и не роман – для романа данному тексту не хватает внутренней проработки сюжета. Это даже не эссеистика в духе Монтеня – эссеистика все же предполагает, что каждый отдельный ее фрагмент выражает собой некую мысль. Ничего подобного в моем тексте нет. Это просто заметки, наброски, отдельные эпизоды, примечания к ним, биографические ретроспекции, всплывавшие как бы сами собой. Одно время я хотел придать им некую сюжетную цельность – получалось и в самом деле нечто вроде романа. Однако чем более я этот материал беллетризовал, чем тщательнее отшлифовывал и чем скрупулезней прописывал каждый повествовательный блок, тем менее достоверным, менее убедительным он становился. Все-таки роман – это то, чего не было. А я пытался отобразить то, что было и есть. В конце концов я эти попытки оставил. Пусть все будет именно так, как я это в то время воспринимал. Читатель разберется, если захочет. И разве вся наша жизнь не есть такие же точно заметки, наброски, черновики, отрывочные фрагменты, примечания на полях – словом, тот трепещущий хаос, который никогда не превратится в полноценный роман? Тем более что в моем тексте есть явный привкус конспирологии. В итоге я все же пришел к тому, чего старался всеми силами избегать. И возможно, при других обстоятельствах я бы ни за что не рискнул опубликовать данный материал, я бы даже, скорее всего, не рискнул его написать, но в конце года внезапно происходит пара событий, от которых внутри у меня будто загорается темный огонь. По масштабам они абсолютно несопоставимы – и вместе с тем вполне очевидно связаны между собой. Правда, этой связи кроме меня не видит никто, и потому огонь, воспламенивший мне мозг и сердце, жжет все сильней.
Итак, в декабре вспыхивают грандиозные митинги протеста в Москве. Для властей это гром среди ясного неба, хотя чего-то такого, на мой взгляд, следовало ожидать. Помню, как еще ранее, месяца три назад, лично меня покоробила объявленная рокировка тогдашнего президента с тогдашним премьер-министром. Нам всем как бы откровенно сказали: демократия демократией, свобода свободой, но знаете – тут обойдемся без вас. Можете не суетиться, не дергаться, не напрягаться, мы все сами решим. Помнится, я в те дни ходил как оплеванный: баре между собою договорились, а холопов презренных, то есть нас всех, спрашивать ни к чему. И кстати, подобные ощущения испытывал не только я. Еремей, уж на что пламенный патриот, а и тот бурчал: клоуны, их бы в цирк… Недовольство этими играми чувствовалось очень отчетливо. Однако по-настоящему грохочет именно в декабре. В самом начале месяца проходят очередные выборы в Государственную Думу России, побеждает на них «партия власти», что, впрочем, можно было заранее предсказать, но данное электоральное действо сопровождается таким количеством нарушений, таким жульничеством с протоколами и бюллетенями, очевидным для всех, что вызывает спонтанный гражданский протест. Сотрясается от негодования интернет, социальные сети раскаляются до плазменных температур. Начинается агрегация возмущения: толпы людей выходят на улицы, чтобы сказать: мы – не рабы!.. Такую массу полицейскими дубинками не разогнать. Чувствуется, что власть впала в растерянность. Чувствуется, что ее прошибает мутный цыганский пот. Может быть, это «цветная революция» по сценарию, который был реализован на Украине лет пять назад? Может быть, закипает гроздьями гнева непредсказуемый «московский майдан»?
У меня самого, впрочем, несколько иные соображения. На одном из таких бурных митингов я, оказавшись в это время в Москве, сумел побывать и скажу откровенно, он произвел на меня двойственное впечатление. С одной стороны, прошибло горячее дежавю: точно так же во время путча в августе 1991 года мы стояли неимоверной толпой на площади перед Мариинским дворцом – уже знали, что Горбачев арестован в Форосе, Ельцин блокирован в Белом доме, по-видимому, готовится штурм, в Москву введены танки, Таманская дивизия движется на Петербург, сотрясается небо, вздрагивает земля, прямо в воздухе вспыхивают бледные клочья огня… И вот выбрался на дворцовый балкон Собчак, примчавшийся из столицы (Юра Штымарь, который входил тогда в горсовет, рассказал, что пришлось для этого выломать балконную дверь; не открывалась, наверное, лет пятьдесят), выбрался – поднял руки: «Победа!.. Армия на Петербург не пойдет!..» И тысячеголосым эхом: ура-а-а!.. Чувство такое, что все люди – братья, окатило до крупных слез дрожью внезапной и безграничной любви: завтра – да что там завтра, уже сегодня – возникнет новый сияющий мир!.. А на Болотной площади в декабре – то да не то. Выпорхнула гламурная телеведущая, защебетала что-то про демократию. Вылез бодренький мальчик-поэт, начал вещать сытым голосом, что время не за них, а за нас… Как это назвали потом – «революция норковых шуб»…
Возвращаясь на другой день «Сапсаном» в Санкт-Петербург, я думаю, что две революции на одну жизнь все-таки многовато. Нам, только-только начавшим нормально дышать, было бы достаточно и одной: перестройки, нелепого путча, последующих сумбурных реформ. Хотя в начале прошлого века революций было именно две: сперва 1905 год, наскоро собранная репетиция, затем – 1917, полный аншлаг… Причем Болотная площадь – это скорее первая, чем вторая: гражданское возмущение налицо, но как-то не видно лидеров, способных оформить его во внятный социальный протест. Правда, есть шанс, что они скоро появятся. Времена революций – это времена мгновенных политических восхождений. Вожди стремительно возникают из ниоткуда и так же стремительно проваливаются потом в никуда. Превращаются в прах, питающий ослепительные фантомы побед…
А еще, глядя на однообразную снежную ширь, проворачивающуюся за окном, я думаю, что люди, находящиеся сейчас у власти в России, просто так, ради красивых демократических глаз, эту власть, разумеется, не отдадут. Они же не идиоты, угрозу чувствуют, смежив веки, во сне и, вероятно, отчетливо понимают, что в условиях авторитарного государства, в ситуации опаздывающих реформ любое движение к демократии смертельно опасно. Нам об этом еще Евгений Францевич говорил. Вот Николай II собрал Думу в 1906 году, и эта Дума немедленно, всей яростью, обрушилась на правительство. Самого государя-императора критиковать было запрещено, но от министров, назначенных им, только перья летели. Авторитет власти сразу же покатился вниз. И чем кончилось? Николая II расстреляли в Екатеринбурге. Вот Горбачев собрал Съезд народных депутатов СССР, и Съезд точно так же всей яростью обрушился на правительство. Сначала министров потрошили, как кур, затем полетели камни в КПСС, и наконец дошла очередь до самого Горбачева. Где он, кто он теперь?.. А Долгий парламент в Англии, который собрал Карл I? Чем он закончился? Королю отрубили голову. А Генеральные штаты во Франции? Людовик XVI тоже лег под топор. И потому можно быть абсолютно уверенным, что никаких «честных выборов» мы не дождемся. Не надо иллюзий. Власть будет стоять до конца. А чтобы выстоять, чтобы удержаться на головокружительной высоте, ей, разумеется, потребуется чрезвычайно мощный ресурс, демоническое, неземное могущество, способное погрузить всю страну в социальную летаргию, могущее заворожить ее до сомнамбулических снов.
Вот о чем я думаю, глядя на пейзаж за окном. И против воли в сознании у меня всплывают гигантские жилистые лопухи, багровый свет, заливающий улицы провинциального городка, мертвый Старковский – как его описала Юлия, знак жизни и смерти, пылающий на дверях заброшенной синагоги.
И это уже не примитивные конспирологические эффекты, не фантазии, в коих захлебывается мой воспаленный воображением мозг.
Это даже не эвентуальный концепт.
Это – реальность, в которой нам всем отныне придется существовать.
А другое событие, всколыхнувшее во мне темный огонь, заключается в том, что буквально через несколько дней после возвращения из Москвы я встречаю Ирэну. То есть не столько я встречаю ее, сколько она, будто пробудившийся рок, неумолимо настигает меня. Для Ирэны, впрочем, это вообще характерно. Она всегда обрушивается на человека как тропический шторм. Ее действия невозможно предугадать. Она сама толком не знает, что сделает через полчаса. Рефлективность ее близка к нулю, зато спонтанность эмоций не вмещается ни в какую психометрическую шкалу. В общем, это обычная петербургская оттепель – пакостный дождь, безнадежность, темный блеск луж, отражающих потустороннюю пустоту, я возвращаюсь домой из Публичной библиотеки и, когда спускаюсь в подземный переход под Садовой, вдруг трепетом захолонувшего сердца чувствую, что Ирэна идет рядом со мной. Непонятно, откуда она взялась. Только что не было, и вот – выделилась из кишения равнодушной толпы. Я даже спотыкаюсь на ровном месте, а Ирэна внятно, негромко, как будто бы не мне, говорит:
– Не оборачивайся, не разговаривай, поверни направо, теперь налево, остановись…
Мы оказываемся в нише за газетным киоском. Я – спиной к потоку людей, Ирэна – почти полностью загорожена мной. Я ее с трудом узнаю: коротко остриженная шатенка, с темными стрельчатыми бровями, с ореховой накипью губ, у нее новый плащ с пуговичными отворотами, вспененный красный шарф – совсем другой человек. Только женщина способна на такой радикальный метаморфоз. И если бы не ворохнувшийся трепет в сердце, действительно – прошел бы и не узнал. У меня начинает шуршать кровь в висках. Я прислушиваюсь к себе, но опасности вроде бы не ощущаю. Ирэна понимает, о чем я думаю, и, усмехнувшись, чуть щерится, показывая, что у нее сейчас – зубы, а не клыки.
– Не беспокойся, тебе ничего не грозит. Мне не нужна ни твоя душа, ни ты сам, – говорит она. – Вообще странное у вас представление о той стороне. Будто мы, точно оборотни, рыщем по миру, выискивая людей, погрязших в грехах. Глупости это все. Людей, погрязших в грехах, не надо разыскивать. Они – вокруг нас…
– Тогда зачем ты пришла?
– А ты мне не рад?
Я ничего не могу с собой сделать. Ирэна по-прежнему неудержимо притягивает меня. Я знаю, что это не любовь, а наркотический морок: в земных пределах не бывает такой любви. И все же обволакивает меня, как и раньше, волхвовской сладкий яд.
Ирэна поощрительно улыбается.
Власть есть власть, и она кружит головы всем – по обе стороны бытия.
Неважно – это власть силы или любви.
– Я только хотела тебя предостеречь, – говорит Ирэна. – Все-таки ты мне помог, я тебе в какой-то мере – должна… Вдруг у тебя возникнет желание «спасти мир». Знаешь – «взять в руки меч», «остановить всемирное зло». В общем – «кто, если не я»?
– Этого могут захотеть другие. Например, те, с кем ты сотрудничаешь сейчас.
Стреляю я наугад. Но, видимо, попадаю в цель, поскольку Ирэна чуть вздрагивает, а веки ее как бы стягиваются кольцами вокруг глаз.
– Не захотят, – говорит она.
– А если все-таки захотят?
– Что ж, тем хуже для них…
Лицо ее на мгновение застывает, а потом начинает плавиться, как воск на огне: проступают в нем острые скулы, дуги надбровий, стыки мелких костей.
Смотрит сквозь эфемерную человеческую оболочку огненноглазый суккуб.
– Не надо, – нервно говорю я.
Мне это неприятно.
Ирэна встряхивает головой и вновь становится строгой офисной дамой, ничем не выделяющейся в толпе.
– Хочешь что-нибудь мне сказать?
Я молчу.
Что можно сказать существу, вышедшему из мглы? Разве что – вбить в сердце кол.
Однако это не для меня.
– Ладно, – после паузы говорит Ирэна. – Ты – как хочешь. Мое дело – предупредить… Теперь – иди. Только не оборачивайся, не надо – это плохая примета… Что ты там улыбаешься? Приметы – это опыт веков…
Я машинально движусь к ступеням, ведущим наверх. Между двумя потоками людей из метро образуется пустота. Примерно на трети подъема я все-таки не выдерживаю и оборачиваюсь: Ирэна уже исчезла – стоит в закутке парень, прижимающий к уху сотовый телефон.
Вот как это все происходит.
Я иду под мелким дождем, вокруг меня – мокрая зимняя чернота. Дрожат и расплываются фонари. Улицы мгновенно пустеют – лишь россыпи разноцветных окон свидетельствуют, что в городе еще теплится жизнь.
Я не представляю, что будет дальше. Может быть, низвергнется с неба молния и испепелит меня бесшумным огнем. Кстати, недавно, как сообщила пресса, в Петербурге во время грозы убило молнией двух человек. А может быть, я самым банальным образом попаду под машину: вынырнет призрак, тяжелый, одетый в пучеглазый металл, взрыкнет мотором, сокрушит мягкую плоть. Ведь это так просто: вжик – и меня больше нет. А может быть, не будет вообще ничего. Я по-прежнему год за годом буду одолевать скорбный житейский круговорот. В самом деле – кому и зачем я нужен? Предназначение, если оно у меня было, исполнено до конца, кого интересует теперь отработанный материал? Если не лезть на рожон, если трудолюбиво, как советовал один мудрый француз, возделывать свой личный сад, то жить можно спокойно и, вероятно, даже без особых проблем.
Такая версия кажется мне наиболее подходящей.
Прикинуться хомяком.
Не выходить за пределы безопасной теплой норы.
Зачем мне спасать мир?
Я все-таки не законченный идиот.
И все же встреча с Ирэной что-то меняет. Может быть, огненный взгляд суккуба как раз и пробуждает меня.
Хомяком я быть не хочу.
Жжет сердце темный огонь.
И, поднимаясь к себе на второй этаж, открывая входную дверь и стряхивая воду с плаща, я уже знаю, как мне следует поступить.
В средневековой Японии был любопытный обычай. Чиновник писал императору, сообщая о неких важных вещах, и после этого делал себе харакири.
В знак высшей подлинности.
Перед смертью человек не солжет.
Я, конечно, не собираюсь совершать ритуальное самоубийство. Критерий подлинности имеет в европейской культуре совершенно иной контекст. Однако мне вдруг становится безразличным, что будет со мной. Есть вещи важнее жизни – и жизнь, возможно, как раз и дается, чтобы это понять.
Неважно – поверят мне или нет.
Неважно – это пугающая реальность или конспирологический бред.
Просто об этом следует рассказать.
А дальше пусть ношу несет – кому это по силам.
Добавить мне больше нечего.
Мое слово произнесено.
В общем, как сказал автор более известный, чем я: вот вам книга, и вот вам предисловие к ней.
1. Малькут
Документ явно подлинный. На нем есть даже официальные реквизиты. Выглядят они так: «Председателю Совета Народных Комиссаров т. Ленину. Председателю Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем т. Дзержинскому. Докладывает спецагент Марат Зоркий».
Далее сообщается, что 2 июля 1918 года спецагент Марат Зоркий прибыл согласно заданию в город Муром, где располагался тогда штаб Восточного фронта, и вручил лично товарищу Троцкому секретный пакет от товарищей Ленина и Дзержинского. Распоряжением товарища Троцкого он был оставлен при нем как курьер для чрезвычайной связи с Москвой. В тот же день т. Троцкий в сопровождении охраны и личного штаба отбыл из г. Мурома на поезде, состоящем из двух вагонов и двух открытых платформ. На полустанке «Осиновый бор» Муромской железной дороги поезд был остановлен, убран в тупик, товарищ Троцкий пересел в личный автомобиль и в сопровождении тридцати пяти кронштадтских матросов, ехавших на грузовиках, направился в г. Осовец (Тверская губерния). На окраине г. Осовца по распоряжению т. Троцкого был выставлен пулеметный заслон в составе десяти человек против отряда белого бандита штабс-капитана Гукасова, два дня назад выдвинувшегося в этот район. В самом Осовце т. Троцкий провел трехчасовой митинг, где подробно рассказал о текущем моменте мировой социалистической революции, а после митинга приказал расстрелять председателя городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов т. Мешкова – как бандита и мародера, дискредитировавшего советскую власть. После этого т. Троцкий провел совещание с местной общиной евреев, которое продолжалось всю ночь. Спецагент Зоркий далее отмечал, что в течение этой ночи наблюдалось странное явление в атмосфере: около полуночи над Осовцом возникло громадное багровое зарево, как если бы там начался гигантский пожар, и держалось без перерыва шесть с половиной часов, погаснув только после восхода солнца. Причин этого явления он объяснить не может: никакого пожара в г. Осовце, по его данным, не произошло. Также спецагент Зоркий докладывал, что из двадцати матросов, взятых товарищем Троцким с собой, из Осовца к заслону на окраине города вернулись лишь пять человек, судьба остальных пятнадцати неизвестна. Сам агент Зоркий согласно приказу т. Троцкого всю ночь пребывал в охранении, в пулеметной команде, никаких подробностей о действиях т. Троцкого в г. Осовце ему выяснить не удалось… «О чем вам незамедлительно сообщаю…»
Все, след грифельной подписи карандашом.
– Ну вот, – поскребя пальцем лоб, говорю я. – А восьмого июля в Муроме вспыхнет мятеж, организованный «Союзом защиты Родины и свободы». Правда, он будет быстро подавлен. А еще через пару дней командующий Восточным фронтом Михаил Муравьев, штаб которого в тот момент переместится в Казань, выступит против большевиков.
– Это имеет к нам какое-нибудь отношение? – спрашивает Ирэна.
Я пожимаю плечами:
– Пока не знаю… Муравьев – типичный авантюрист, кондотьер кровавого хаоса, каковые всегда всплывают в эпохи катаклизмов и войн. До революции он был то ли черносотенцем, то ли кадетом, после свержения Николая Второго формировал ударные «батальоны смерти», носившие череп на рукаве, затем стал начальником охраны Временного правительства, Керенский ему доверял – лично как главковерх присвоил звание подполковника; в Октябре, однако, Муравьев, видимо, почувствовав перспективы, сразу же, один из немногих военных, признал советскую власть, был назначен главнокомандующим Петроградского военного округа, остановил части того же Керенского и генерала Краснова, наступавшие на Петроград; сделал при большевиках стремительную карьеру, всего за полгода выдвинулся чуть ли не в авангард революционных вождей; по словам людей, знавших его, хотел стать «красным Наполеоном», отличался бешеным честолюбием, был чрезвычайно жесток, в Киеве и Одессе, где он одно время командовал, был известен жуткими зверствами и грабежами. Узнав о мятеже левых эсеров, вероятно, решил, что пробил его звездный час. Наполеоновский марш, однако, продолжался всего два дня. Уже одиннадцатого июля в Симбирске Муравьев был убит.
– Интересно, что было в том секретном пакете?
– Скорее всего – приказ или настоятельное пожелание немедленно вернуться в Москву. Не зря же Троцкий уехал из Мурома буквально через пару часов. Ведь уже открывается очередной съезд Советов, очень напряженный, критический – левые эсеры, которые, между прочим, входят в правительство, готовятся разорвать Брестский мир. И у них для этого все шансы есть. Их поддерживают даже многие делегаты от большевиков. Куда ж без Троцкого? Он – один из сильнейших ораторов, вождь, трибун, громадный революционный авторитет, и хотя первоначально тоже выступал против Брестского мира, но, приняв точку зрения Ленина, в дальнейшем отстаивал ее изо всех сил.
– Надо бы этого Зоркого установить… – задумчиво говорит Ирэна.
Я щелкаю пальцами:
– Вряд ли что-то получится… Фигура явно не из первого ряда, не на виду. Хотя область поисков, надо сказать, не так уж и велика. Это кто-то из окружения Ленина и Дзержинского, судя по отношениям – не из лидеров, не из крупных соратников, не из тех, кто позже взлетел, скорее всего – достаточно молодой человек, образованный, если судить по стилистике, заслуживающий доверия – ведь не всякому поручат следить за всемогущим председателем РВС. Может быть, чей-то сын, племянник, родственник из провинции… Каков псевдоним, однако… Зоркий!.. Марат!.. Эпоха революции – эпоха громких имен… В общем, если настаиваешь, конечно, попробовать можно. Вот, правда, – сколько времени это у нас займет?
– А что это за «багровое зарево», о котором он пишет?
– Откуда мне знать?.. Может быть, и пожары – кому их тогда было тушить? Только, наверное, не в самом Осовце, а где-нибудь чуть подальше, например в ближайшем селе… Летом восемнадцатого года в центральной России вообще стояла исключительная жара. Температура держалась около тридцати – сушь, ни капли дождя. Горят посевы, горят леса… Об этом, кстати, пишет Юрий Готье, который помимо Москвы пребывал в это время где-то в тех же местах. Правда, если бы был сильный пожар, то был бы и дым. А наш спецагент ни о каком задымлении не упоминает. С другой стороны, нельзя требовать от свидетеля слишком многого: он же не знал, что именно нас будет интересовать.
Я произношу ничего не значащие слова, а сам думаю, какой все-таки молодец Борис. В письме, присланном одновременно со сканом, он говорит, что давно держал в памяти этот малоизвестный архив и вот, попав ныне в Гарвард, решил его посмотреть. Ты ведь, кажется, интересуешься товарищем Троцким? Вот тебе на данную тему очень любопытные письмена. Приложены были, разумеется, номер секции, регистр, опись, шифр. Прямо хоть сейчас на них ссылку давай. Жаль только, что скан: нельзя подержать сам документ в руках, пощупать бумагу, понюхать, посмотреть на выцветшие, бурые тени чернил. Я,конечно, не архивист, который сразу же впитывает детали разных эпох, но тоже – просто немного покрутив документ, считав лексику, глянув его на просвет, могу установить период написания с точностью до двадцати – двадцати пяти лет. Органолептика при всей ее примитивности – великая вещь, и чутье, которое дается годами, десятилетиями труда, работает зачастую лучше всех технических экспертиз. Ладно, будем пока полагаться на нюх Бориса. Если он утверждает, что документ подлинный, значит, скорее всего, так и есть. Об этом, между прочим, свидетельствует и контекст: «Бумаги Эммерса» (так неофициально обозначен архив – по имени сдавшего его капитана) были вывезены, согласно рескрипту, американцами в 1945 году – из замка Вевельсбург, между прочим, где находилась небезызвестная школа по подготовке офицеров СС, а в Вевельсбург он попал, скорее всего, из Орла.
Это тоже, в общем, известный историкам факт. Гдето в начале 1930х годов Сталин, уже обретя в стране абсолютную власть, распорядился перевести часть документов НКВД с Лубянки в провинциальный Орел, где для них был сформирован Специальный отдел. Видимо, полагал, что так будет спокойнее. Подальше, подальше от любопытных московских глаз. Архивы еще не разобраны, кто знает, какую бомбу там можно найти. Тем более что Орловский централ, созданный аж в 1840 году, считался одной из крупнейших и надежнейших тюрем России. Стены вот такой толщины. Где еще хранить государственные секреты, если не здесь? Однако немцы осенью 1941 года продвигались стремительно. Оборона разваливалась, Орел был взят ими уже 3 октября. Архивы, включая и Спецотдел, почему-то вывезти не удалось. Вполне возможно, что в панической суматохе тех дней о них просто забыли. Зато успели расстрелять практически всех заключенных Орловской тюрьмы, в том числе – знаменитую (в прошлом) Марию Александровну Спиридонову. В Большой советской энциклопедии (я сам это читал) скромненько сообщалось, что после мятежа левых эсеров она отошла от политической деятельности, подразумевалось, что просто где-то тихо живет, в действительности была тогда арестована, ненадолго освобождена, пыталась бежать за границу, опять была арестована, четырнадцать лет провела в ссылке – в Ташкенте, в Самарканде, в Уфе, вновь была арестована в 1937 году по обвинению в контрреволюционной и террористической деятельности. Интересно, почему ее не вытащили на московские процессы 1937–1938 годов? Потому, вероятно, что сломать «мученицу революции» так и не удалось. Это не Зиновьев с Каменевым, превратившиеся в тряпичные куклы. Все равно последовал неизбежный финал. Сталин лихорадочно убирал тогда последних свидетелей, тех, кто, как он считал, мог быть ему опасен в случае военного поражения. Тем более что еще помнились легендарные революционные имена. Эхо подлинного Октября, хоть слабо, хоть смутно, хоть искаженно, но все-таки продолжало звучать. Тогда же расстреляли Христиана Раковского, Ольгу Каменеву (жену Л. Каменева, сестру Л. Троцкого), доктора Плетнева (лечил Ленина, Крупскую), жен Гамарника, Егорова, Уборевича, Корка – всех, кто мог слишком многое о Сталине знать. А немцы в упоении первых грандиозных побед бумаги, вероятно, вовсе не разбирали, свалили, скорее всего, в змковые подвалы, двери заперли, забыли на много лет. Американцы ими тоже не заинтересовались. У них как раз завершалась работа по сверхсекретному «Манхэттенскому проекту». Создавалось атомное супероружие, способное резко изменить баланс сил на земле. Вот – власть над миром, могущество, не имеющее границ! Развернулась по всей Европе охота за учеными-ядерщиками. Что там какие-то старые каракули большевиков?
Мне становится трудновато дышать. Ирэна, которая до того спокойно сидела напротив – чуть прогибаясь, уткнувшись носом в экран, – вдруг поднимается, неторопливо обходит угол стола и, наклонившись, обхватывает меня сзади за плечи. Теперь мы всматриваемся в компьютер щека к щеке. Исходит от нее такой эротический жар, что у меня начинает звенеть кровь в висках.
Идет мощная выработка тестостерона.
– Не надо, – полузадушенно произношу я и, мягко освободившись из плена, отъезжаю со стулом чуть в сторону. Ирэна тут же возвращается на свое место, опять прогибается и деловито, щелк-щелк, танцует пальцами по клавиатуре.
Как будто ничего не произошло.
Я говорю, слегка задыхаясь:
– Давай лучше прикинем весь этот сюжет. Итак, мы знаем, что Троцкий, который только что стал наркомвоенмором, в самом конце июня появляется в этом качестве в Муроме – вероятно, затем, чтобы быть ближе к возникающему Восточному фронту гражданской войны. Второго июля он получает от Ленина и Дзержинского некий секретный пакет, после чего, ни минуты не медля, отбывает в Москву. Вероятно, причины, потребовавшие его возвращения, чрезвычайно важны. Однако заметим, в Москве он обнаруживается не третьего, а только четвертого – когда выступает, в числе других, с речью на съезде. Это его выступление документировано: Троцкий требует санкционировать чрезвычайные меры по наведению в армии порядка и дисциплины. Слушает его целый зал, существуют воспоминания, факт сомнению не подлежит. Теперь – примерный хронометраж. От Мурома до Москвы даже в условиях революционной разрухи не более одного дня езды. Тем более что у Троцкого – специальный поезд. Значит, наш Лев Давидович на целые сутки (и даже чуть дольше) загадочно исчезает в пути. Между прочим, историки уже отмечали этот странный разрыв во времени, но никто ему особого значения не придавал. Мозжухин, например, объясняет это просто элементарной путаницей: в Москве несусветная каша, никому дела нет до точных чисел и дат. Это ведь еще не скрипучая советская бюрократия. И Бажанов, бывший, правда несколько позже, секретарем Оргбюро ЦК, тоже свидетельствует о жуткой неразберихе, которая тогда царила в Кремле – ни одной бумаги, даже постановлений правительства, нельзя было найти. Вообще – это мелочи. Они меркнут на фоне последующих грандиозных событий… И вот теперь мы достоверно установили, что эти сутки Троцкий провел в Осовце.
– Однако мы не установили – зачем?..
Я поднимаю обе ладони:
– Подожди, подожди… О событиях иногда можно судить по их следствиям. Метод «черного ящика» – может быть, слышала о таком? Вот – замеры на входе, вот – замеры на выходе, и по разнице потенциалов мы в какой-то мере догадываемся о том, что внутри… Давай посмотрим из этих координат… Шестого июля начинается мятеж левых эсеров. Они все-таки, не дожидаясь решений съезда Советов, хотят разорвать Брестский мир. Яков Блюмкин, эсер, убивает германского посла графа Мирбаха. Повод достаточный, чтобы немцы возобновили наступление на Москву. Заметим, что войск у большевиков практически нет; все, что было в столице, брошено на Восточный фронт. Да и какие у них вообще войска? Это только легенды, что российский пролетариат с энтузиазмом поддержал советскую власть. Нет, воевать никто ни за кого не хотел. Во всей Красной гвардии числилось поначалу четыре тысячи человек. Совет народных комиссаров, то есть правительство, оказывается в пустоте. Превосходство левых эсеров в силах – почти трехкратное, у них – две тысячи штыков, четыре броневика, восемь артиллерийских орудий. Командует отрядом некто Попов, тот еще фрукт, отчаянный, готовый на все человек, потом служил у Махно, прославился пьянками и грабежами, даже сам батька, на что уж не гуманист, его еле терпел; расстрелян большевиками в двадцать первом году… Так вот – мятежники арестовывают Дзержинского, Смидовича, Лациса, захватывают здание ВЧК, главпочтамт, по всей стране идут телеграммы, что правительство большевиков низложено, приказов Ленина и Свердлова – не исполнять. По словам Бонч-Бруевича, находившегося в Кремле в тот момент, Ленин, узнав об этом, даже не побледнел, а прямо-таки побелел. Не зря, видимо, незадолго до этого говорил, что «нас отсюда, то есть из Кремля, вывезут в тачке»… Ситуация просто катастрофическая. Остатки московского гарнизона на защиту большевиков не спешат. Вацетис, командующий полком латышских стрелков, явно колеблется. Кстати, Ленин через несколько дней предложит Вацетиса расстрелять. Позиция Белы Куна с его отрядом из австро-венгерских военнопленных тоже не очень ясна: выгадывает что-то, темнит пламенный революционер… И вдруг все меняется буквально за пару часов. Троцкий договаривается сначала с Вацетисом, поом – с Белой Куном, части латышских стрелков отбрасывают мятежников в Трехсвятительский переулок. Несколько выстрелов из орудий – и отряд эсеров разгромлен. Захвачен особняк Морозова, где располагался их штаб. Еще раньше Свердлов прямо на съезде арестовывает лидеров левоэсеровского ЦК… Вот тебе на входе – полная безнадежность. Вот тебе на выходе – чудо, сотворенное сразу же после прибытия из Осовца.
Я наконец опускаю ладони. Ирэна всматривается в меня, широко распахнув глаза.
Ошалеть можно от этого взгляда.
– Так – что?
– Ты – гений!.. – страстным, восторженным шепотом провозглашает она.
Ирэна начинает раздеваться непосредственно в коридорчике. Она как-то очень естественно сдергивает с себя блузку, юбку на пуговицах, которая птицей вспархивает у нее в руке, быстрыми движениями, то наклоняясь, то прогибаясь, смахивает с себя остальное и при этом, что удивительно, ни на секунду не прекращает идти. Такая виртуозная женская акробатика, для постановки которой требуется вся жизнь. В полутьме коридорчика, ведущего из офиса в комнаты, это выглядит околдовывающим танцем теней. Так, наверное, плясали жрицы в древних мистериях, и мужчины сходили с ума от одного лишь взгляда на них. Я, правда, с ума пока не схожу. И правильно делаю, потому что, когда вспыхивает торшер, Ирэна предстает предо мной воплощением обжигающих грез. Кажется, что эта легкая страстная плоть только что сотворена и что я – вообще первый человек на земле, который воочию увидел ее. Особенно действует на меня, когда Ирэна поднимает руки, якобы для того, чтоб поправить хлынувшие на плечи солнечные струи волос. Они у нее так и горят. И мне всякий раз чудится, что исполняется этим некий загадочный ритуал, после которого весь мир будет иным. Причем Ирэна ничуть не смущается, что я разглядываю ее. Женщинам вообще втайне нравится, когда на них смотрят – вот так. Назначение женщины – привлекать, и если женщина все-таки делает вид, что растерянна и смущена, то лишь потому, что таковы правила колдовства, выработанные и усвоенные тысячи лет назад.
Впрочем, правила эти можно не соблюдать.
Нинель, кстати, их тоже не соблюдала. Она тоже, раздеваясь, не требовала, чтобы я отвернулся или прикрыл глаза. Хочешь смотреть – смотри. Правда, при этом она никогда не делала первый шаг. Его всегда должен был сделать я. А вот Ирэна как бы взбивает над собой вихревой электрический ореол и, не оборачиваясь, с нетерпением вопрошает:
– Ну, где ты там, где?..
Начинается неуправляемый термояд. Меня стискивают, сминают, формуют, как податливый пластилин, опрокидывают на тахту, поворачивают, распрямляют, сгибают. Я как будто окунаюсь в огнедышащий небесный расплав, очищающий и выявляющий подлинную мою суть. Сколько это длится, понять невозможно, мы проваливаемся в сингулярность любви, где и время, и собственно жизнь исчислению не поддаются. Правда, сама Ирэна так не считает. Это не любовь, полагает она, это просто секс, и не стоит загружать его тем, чего в нем в принципе нет. Однако тут я с ней категорически не согласен. В сексе, даже самом примитивном, торопливом, случайном, все равно есть отчетливый привкус любви. Как вкус яблока – во всех его разнообразных сортах.
– Не усложняй, – в таких случаях говорит Ирэна.
– Я не усложняю, напротив, я делаю из разобщенности – цельность, – отвечаю я откуда-то из пустоты.
– Так и что?
– А цельность – всегда проста…
– О, боже мой!..
Чем-то она в этом смысле опять-таки напоминает Нинель. Та тоже, интуитивно конечно, пыталась свернуть все диапазоны любви в секс-регистр, и я, при всех своих исторических и культурософских познаниях, так и не смог объяснить ей элементарную вещь: секс – это физический голод, а любовь – голод метафизический, первое утолить можно, второе – нельзя, и потому лучше воспринимать их как нечто единое, как первичную сущность, которую невозможно разъять.
Видимо, не хватило слов.
Или чего-то еще.
Шарахнулись друг от друга, как птицы, столкнувшиеся во тьме.
Сейчас это, впрочем, неважно.
Сейчас мы лежим бок о бок на истерзанных, складчатых простынях и успокаиваемся, наблюдая, как истончается за окном бескрайний июньский день. Солнце уже зашло, однако красный отсвет его еще проступает над крышами. Чертополохом прорастает на них ломаная щетина антенн. А чуть выше, предвещая прозрачную летнюю ночь, угасают, растворяясь в беспамятстве, зеленоватые остатки жары.
Ирэна, правда, успокаиваться не хочет. Она чмокает меня в ухо, а потом решительно приподнимается на локтях.
– Ты – гений, – безапелляционно повторяет она.
Этим, кстати, Ирэна принципиально отличается от Нинель. Нинель как-то не догадывалась, что мужчину обязательно надо хвалить. Женщине достаточно восхищенного взгляда, «музыки понимания», чисто телесного языка, слова тут не так уж важны, а вот мужчине как существу более примитивному требуется грубая и откровенная лесть. Мужчина по природе хвастлив. Он должен быть первым, должен быть всегда впереди, должен быть лучше всех, по крайней мере в глазах одной-единственной женщины, взирающей на него.
Он требует этому постоянного подтверждения.
И тут надо уметь – изумленно ахнуть, всплеснуть руками, чмокнуть, как Ирэна, не разбирая куда – якобы от избытка чувств.
И, между прочим, я с Ирэной почти согласен. Блок, закончив поэму «Двенадцать», записал в дневнике: «Сегодня я гений». И Александр Сергеевич наш, тот самый, да-да, в аналогичной ситуации бил в ладони, подпрыгивал и кричал: «Ай да Пушкин!.. Ай да сукин сын!..»
Я, конечно, не Блок и не Пушкин, масштаб, извините, не тот, но когда сегодня в три часа дня я получил от Бориса письмо с приложенным к нему прекрасно отсканированным документом, тоже чуть было не закричал от восторга. А что вы думаете? Бывают в жизни моменты, когда все вокруг будто бы озаряется изнутри, когда испытываешь вдруг то, о чем Гоголь где-то писал: «Вдруг стало видно во все концы света». В психологии данное состояние определяется как инсайт: внезапное озарение, высвечивающее искомую суть. Ньютону падает на голову яблоко – бац! Вот вам формула гравитации… Менделеев ложится соснуть – бац! Всплывает из таинственной глубины знаменитая Периодическая система… Историку это особенно важно. История перегружена фактами, описаниями, рыхлыми и томительными подробностями, переполнена мнениями, интерпретациями, концептами, которые в свою очередь, как папки в компьютере, прорастают необозримым количеством информационных ветвей. Охватить это все, воспринять практически невозможно. Не случайно большинство научных статей в нашей области выглядят так: пять страниц текста, пятнадцать страниц примечаний. Кстати, именно в данной форме исполняет свои статьи и Борис. За деревьями обычно не видно леса, за кошмарным частоколом подробностей утрачивается главная мысль. Историку приходится во многом полагаться на интуицию, полагаться на опыт, спонтанная сборка которого и есть тот самый инсайт. Борис называет это «ощущением документа»: умением выделить в крошеве разнообразных деталей «именно то». Так вот, весь мой опыт, вся моя интуиция подсказывает, что это – именно то. То, что мы, спотыкаясь и путаясь, препинаясь и ссорясь, мучаясь и преодолевая отчаяние, ищем уже более девяти месяцев – с сентября по июнь.
Вдруг – первый обнадеживающий знак.
Забрезжило на горизонте какое-то неясное марево, мелькнула птица, выплыло слабое облачко, свидетельствующее о земле.
Только бы это не оказалось очередным миражом.
– Давай сразу посмотрим, – предлагает Ирэна.
Она выскальзывает из простыней и, не одеваясь, склоняется над столом, где открыт ноутбук. Мелькает на экране одна заставка, другая, всплывают знакомые синие буквы «Электронной энциклопедии».
– Так, так, так… Осовец – город в России, Осовецкий район, Тверская область, административный центр… Население в настоящий момент – двадцать четыре тысячи человек, площадь города – семнадцать кэвэ километров… Название происходит, вероятно, от термина «осовечь» – загородка из заостренных кольев, воздвигаемая для защиты… Согласно преданиям, был основан беженцами из Великого Новгорода, податными людьми, самовольно ушедшими от князей… Упоминается в летописи с тысяча сто тридцать седьмого года – Осовецкий верх, часть Новгородской земли… Поселение было разорено в тысяча двести семьдесят втором году… С конца четырнадцатого века Осовец вошёл в состав Московского княжества… В тысяча четыреста тридцать третьем году поставлен на княжение князь Дмитрий Млыт, между прочим, внук Дмитрия Донского, слышишь? – Ирэна чуть поворачивает лицо. – Город с тысяча семьсот семьдесят пятого года… С тысяча семьсот девяносто шестого – центр Осовецкого уезда Тверской губернии… В конце девятнадцатого века был крупным центром торговли льном… В настоящее время – Осовецкий завод «Автоспецстальпрокат», «Осовец-Мехсельмаш»: производство комбайнов и оборудования для обработки льна, молокозавод, завод железобетонных конструкций… Филиал Тверского государственного университета… Филиал Академии гуманитарных наук… Краеведческий и Литературно-мемориальный музеи… Торговые ряды семнадцатого – восемнадцатого веков… Из сохранившихся храмов наиболее интересны Крестовоздвиженская церковь, Преображенская церковь, Казанская церковь, церковь Феодора Стратилата и Параскевы Пятницы, церковь Рождества Христова, церковь Покрова Пресвятой Богородицы… – она, как от сквозняка, передергивает плечами. – Боже мой, зачем им столько церквей? На двадцать четыре тысячи человек!.. А… вот, смотри – остатки синагоги середины девятнадцатого столетия… Значит, еврейская община там точно была… Что тут еще?.. Расположен в северо-восточной части Тверской области, в черте города протекают река Морка, река Осчина, грунтовая река Удал… Проходят региональные автодороги «Осовец – Тверь», «Осовец – Кашин», «Осовец – Серый Холм»… Ранее рядом с городом находился военный аэродром…
– Что ж – видимо, надо ехать…
Ирэна несколько разочарована. Это чувствуется по тону, где блекнет первоначальный энтузиазм. А что, собственно, она рассчитывала найти?
Виноватым, разумеется, оказываюсь я.
Ну понятно, ведь кто-то должен быть виноват.
– Так и будешь лежать?
Ирэну обуревает жажда деятельности. Взрыв сексуальной энергии только прибавил ей сил. Это тоже известная психологическая закономерность: мужчина после акта любви слабеет, женщина – наоборот. Он свое биологическое предназначение завершил, она – только-только начинает нести в мир новую жизнь. Не случайно (где-то я об этом читал) в советские времена, когда не было такой изощренной фармацевтики, как сейчас, вместе со спортсменками, едущими на Олимпиаду, отправлялся по рекомендациям медиков целый отряд «массажистов». И, наверное, данный метод «природного допинга» был достаточно эффективен – рекорды, во всяком случае, следовали один за другим.
А вот у меня после этого – состояние умиротворения. Мне все, в общем, по барабану, я готов принять этот мир таким, как он есть. Не хочется ни двигаться, ни говорить – ничего. Если бы сейчас начался пожар, я бы, наверное, только равнодушно зевнул.
Горит?.. Пусть горит…
Правда, есть существенное добавление.
Ирэна склонилась к столу в такой соблазнительной позе, что я чувствую – еще без одного акта любви нам будет не обойтись.
Вот ведь тут какой парадокс.
– Ну так что?
Видимо, ничего не поделаешь…
Впрочем, времени сейчас – только девять часов.
Вечер далеко не закончен.
– Уже иду… – расслабленно говорю я.
Загадку Льва Троцкого пытались разгадать множество раз. Фантастический взлет этого человека буквально с самых низов, его стремительное восхождение к вершинам мировой революции будоражит воображение и порождает почти в каждом исследователе чувство прикосновения к некой поразительной тайне. Конечно, история знает и другие блистательные карьеры. Например, возвышение Наполеона, так же стремительно прошедшего путь от безвестного артиллерийского лейтенанта, да еще корсиканца, до императора великой державы. Однако в карьере Наполеона просматривается внятная логическая закономерность. Каждый его шаг, каждое его очередное продвижение к трону вытекает из вполне очевидных реалистических обстоятельств. Никому в голову не придет объяснять это действием каких-то мистических сил, разве что – рок, судьба, которые, впрочем, представляют собой просто метафоры.
Вместе с тем взлет Льва Троцкого настолько невероятен, изобилует таким количеством, казалось бы, совершенно невозможных метаморфозов, что конспирологические домыслы возникают сами собой. Одни авторы объясняют это действиями сионистов, опутавших своей липкой финансовой паутиной весь мир, другие – грандиозным масонским заговором, тянущимся из глубины веков, третьи – чрезвычайно успешной операций иностранных, английских или американских, спецслужб, поставивших себе целью вычеркнуть Россию из мировой истории. Некоторые же, напротив, считают, что тут и объяснять нечего: роль Троцкого в Октябрьской революции и последующей гражданской войне сильно раздута, не так уж велика она и была. Никакие заговоры здесь ни при чем. А есть и такие, кто вообще не видит в этом проблемы. Исаак Дойчер, скажем, написавший о Троцком колоссальный трехтомный труд, объясняет феноменальный успех своего героя просто проявлением его гениальности. Прямо он об этом не говорит, но весь очень темпераментный текст данных книг, вся фактура, которую автор тщательно подбирал, подразумевают именно такую интерпретацию.
Странности заметны уже в начальной биографии Троцкого. Отец его был довольно крупным землевладельцем, державшим зерновое хозяйство в Херсонской губернии. Это уже само по себе любопытный факт, поскольку евреи, попав в границы Российской империи после раздела Польши, заниматься сельским хозяйством категорически не хотели. Все многочисленные попытки дореволюционных российских властей стимулировать этот процесс за счет льгот, субсидий, бесплатной раздачи земли (которой, замечу, остро недоставало русским крестьянам) завершились провалом. Не удалось, как декларировал это «Вестник Европы», «дать государству полезных граждан, а евреям – отечество». Евреи, конечно, брали субсидии, перебирались на юго-восток, в частности в новороссийские земли, которые требовалось заселить, но затем бросали дома, скот, инвентарь, который им выдавали, и уходили в торговлю. Те же из них, что на земле все-таки оставались, влачили жалкое существование. Сам Троцкий пишет об этом в своих воспоминаниях так: «Колония располагалась вдоль балки: по одну сторону – еврейская, по другую – немецкая. Они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, частью под камышом, крупные лошади, гладкие коровы. В еврейской части – разоренные избушки, ободранные крыши, жалкий скот». Кстати, один из авторов, пытавшихся высветить тайные механизмы возвышения Троцкого, объяснял их именно связями с миром крупных зернопромышленников – чрезвычайно влиятельными людьми той эпохи, поскольку загадочный Парвус, международный авантюрист, который на первых порах чрезвычайно способствовал продвижению Троцкого в европейской революционной среде, тоже сделал свое состояние на торговле зерном. Мысль, конечно, оригинальная, но вряд ли имеющая отношение к реальной действительности.
Следует отметить еще одну особенность Троцкого. Уже с детства он был очень нервным ребенком – впечатлительным, с повышенной возбудимостью психики. Он это и сам признавал: «Мальчик был, несомненно, самолюбив, вспыльчив, пожалуй, и неуживчив». Данное свойство сохранялось за ним всю жизнь. После первого своего выступления в революционном кружке, которое закончилось неудачей, поскольку состояло, по воспоминаниям очевидцев, из набора трескучих фраз, Троцкий неожиданно бросился в соседнюю комнату, упал на диван, «он был покрыт потом, его спина тряслась от беззвучных рыданий». А Луначарский уже после революции вспоминал, что Троцкий в период подготовки Октябрьского восстания ходил точно лейденская банка, полная электричества, – каждое прикосновение к нему вызывало разряд. Он почти все время находился как бы на грани нервного срыва, и среди членов большевистского политбюро за ним закрепилась ироническое прозвище «вечно воспаленный Лев». К тому же после тяжелейшего одиночного заключения – сначала в херсонской, а потом в одесской тюрьме – у него начались эпилептические припадки которые тоже преследовали его всю жизнь. Сам Троцкий говорит об этом очень глухо. Вот как он пишет о решающей ночи в Смольном с двадцать четвертого на двадцать пятое октября. Уже взята к тому времени под контроль центральная телефонная станция, в разных точках города собираются отряды вооруженных рабочих, матросов, солдат, крейсер «Аврора», перешедший на сторону большевиков, стал у Николаевского моста. «Тщетно Временное правительство искало опоры. Почва ползла под его ногами… Все хорошо. Лучше нельзя… Я сажусь на диван. Напряжение нервов ослабевает. Именно поэтому ударяет в голову глухая волна усталости. «Дайте папиросу!» – говорю я Каменеву. В те годы я еще курил, хотя и не регулярно. Я затягиваюсь всего раза два и едва мысленно успеваю сказать себе «этого еще недостаточно», как теряю сознание… Очнувшись, я вижу над собою испуганное лицо Каменева. «Может быть, достать какого-нибудь лекарства?» – спрашивает он».
Заметим, что эпилепсию иногда называют «болезнью гениев». Эпилепсией страдали Александр Македонский, Юлий Цезарь, Иван Грозный, Петр Первый, Наполеон, также – Данте, Флобер, Достоевский, Нобель, Гендель, Стендаль… Причем медики отмечают, что иногда эпилептическому припадку предшествует особое состояние, «аура» (греческое слово, означающее «дуновение», «ветерок»), выражающееся во внезапных видениях, в чувствах блаженства или вселенской тоски. В древности эпилепсию объясняли нисхождением духов, римляне даже называли ее «божественная болезнь». Считалось, что во время припадка устами больного глаголют боги, а носитель воли богов есть непререкаемый авторитет. Христианство относилось к этой болезни двойственно: с одной стороны, эпилепсия рассматривалась как явная одержимость бесами, о чем прямо свидетельствует Евангелие от Марка, с другой стороны, в русской народной традиции изрекаемое больным во время «падучей» тоже считалось божественным прорицанием. Во всяком случае, можно, видимо, полагать, что некоторые эпилептики испытывают нечто вроде прозрения, тот же инсайт, творческое озарение, только многократно сильней, и это дает им преимущества перед другими людьми.
И конечно, личность Льва Троцкого, наиболее характерные, как положительные, так и отрицательные ее черты, во многом определялись его национальностью. Правда, сам Троцкий это всегда яростно отрицал, неоднократно подчеркивая: «Я не еврей, я – социал-демократ». Здесь он как бы впрямую следовал тезисам «Коммунистического манифеста», утверждавшего, что пролетариат не имеет отечества.
Однако все было не так просто.
Уже почти две тысячи лет евреи, потеряв свое собственное государство, жили в диаспоре. У народа, рассеянного по разным странам и континентам, было фактически лишь два реальных пути: либо ассимилироваться, раствориться среди окружающих его «сильных культур», забыть о самом себе, исчезнуть с лица земли, либо создать такой образ жизни, такой способ исторического бытия, который позволил бы непрерывно воспроизводить этнические особенности евреев. Собственно, такой способ был известен уже давно – это ксенофобия, неустанное и непреклонное отделение своих от чужих, акцентирование инаковости, не позволяющее перейти четкие этнические границы. Вообще ксенофобией заражены практически все народы. Высокая этническая температура – фактор, необходимый для создания национального государства. Однако евреи возвели его в абсолют: гетто в Европе возникали не только лишь потому, что христианские власти различных стран хотели изолировать от своих граждан «проклятый народ», но еще и по той причине, что сами евреи стремились жить в замкнутой конфессиональной среде. Причем замкнутость эта тоже абсолютизировалась: евреи обязаны были выполнять все предписания, которые дал им бог, светское образование исключалось – каждый еврейский ребенок отдавался в хедер, где изучали только Талмуд, запрещены были межнациональные браки, межкультурный обмен, знание чужих языков дозволялось только тогда, когда это было вызвано экономической необходимостью. Даже одежда у евреев была особая, чтобы с первого взгляда было понятно – это еврей. Чего стоил, например, один лапсердак. Или пейсы – по выражению Бунина, похожие на вьющиеся бараньи рога. Точкой сборки еврейского этноса, «точкой омега», как сказал бы Тейяр де Шарден, было представление евреев о своей безусловной избранности. Заметим опять-таки, что этнический нарциссизм («мы лучше других»), чувство культурного и нравственного превосходства над остальными свойственно не только евреям, но и практически всем народам земли, но евреи, в отличие от многих других, могли указать, что фундаментальные принципы их национальной духовности, такие как единобожие например, были признаны и исламом, и христианством. К тому же ислам признает Авраама и Моисея своими святыми пророками (как, впрочем, и Иисуса Христа), а в христианские священные тексты включен Ветхий Завет. Мистическое превосходство иудаизма, как и превосходство носителей этой «начальной истины», таким образом, налицо. Бог открылся прежде всего израильтянам, считал Иегуда Галеви, потому что они раньше других народов проявили способность к богопознанию. От них истина должна распространиться на весь род человеческий, подобно тому как кровь от сердца разливается по всему телу и дает ему жизнь.
Утратив государство земное, вещественное, территориальное, евреи сумели создать государство иного типа – незримое, религиозное, без материальных границ, империю иудаизма, гражданином которой являлся каждый еврей, в какой бы стране он ни жил.
Избранность порождала высокомерие, высокомерие – презрительное отношение к тем, кто носителем божественной истины не являлся. Не случайно возникло в Европе поверье, что еврей, провожая гоя (то есть чужака, не еврея), посетившего его дом, должен был обязательно плюнуть ему вслед. А в России во времена революции 1905 года из уст в уста передавался рассказ, что евреи, срывая портреты Николая II, кричали: «Мы дали вам бога, дадим и царя».
Высокомерие Троцкого отмечается практически всеми исследователями. Уже Джон Рид в своей знаменитой книге писал: «Худое, заостренное лицо Троцкого выражало злобную мефистофельскую иронию». Или вот Второй съезд Советов, сразу после большевистского переворота, 26 октября: «На трибуну поднялся спокойный и ядовитый, уверенный в своей силе Троцкий… На его губах блуждала саркастическая улыбка, почти насмешка». Джон Рид вообще подчеркивал постоянную насмешливо-презрительную гримасу на его лице. Холодность и надменность были неотъемлемыми чертами характера Троцкого, которые тот, вероятно, сознательно культивировал, чтобы подчеркнуть свое отличие от остальных. Социал-демократ П. А. Гарви, видевший Троцкого в эмиграции, позже заметил, что тот внушал окружающим «пафос дистанции», обладал «холодным блеском глаз за своим пенсне, холодным металлическим тембром голоса, холодной правильностью и отчетливостью речи». Также во многих воспоминаниях отмечается «безразличие Троцкого к приятелям и друзьям, склонность отдаляться от них. Правильнее было бы сказать, что у него не было друзей в обычном смысле этого слова (исключая Раковского и Иоффе, с которыми, впрочем, он тоже недолго дружил). Троцкий буквально излучал сознание своего превосходства; на его лице читалась уверенность, что он не может тратить время на сентиментальную ерунду».
Вероятно, прав был один из авторов, утверждавший, что «евреи, внешне преодолевая еврейство, все-таки остаются евреями». Еврея не изменит ничто. И, вероятно, прав был Йозеф Недава, который писал, что «считавший себя законченным интернационалистом, Троцкий тем не менее носил в себе неизгладимую печать национальной принадлежности, фатальным образом никогда не мог вполне освободиться от своего еврейства. Отталкиваемый им иудаизм оказался его неизлечимой болезнью». И дальше: «…Судьбу Троцкого можно рассматривать как типичную еврейскую судьбу».
Вот с такими исходными данными Лев Троцкий вступил на путь революционной борьбы.
Впрочем, первая половина его жизни ничего из ряда вон выходящего собою не представляет. Троцкий вступает в г. Николаеве в молодежный революционный кружок, арестовывается полицией, проводит около года в тюрьме, оказывается в эмиграции, где устанавливает знакомства с российскими и европейскими социал-демократами, участвует в революции 1905 года, избирается в Петроградский совет, после чего приобретает некоторую известность в России, затем опять арест, ссылка в Сибирь, между прочим в Березово, где закончил свой жизненный путь светлейший князь Меншиков, далее – удачный побег из Сибири, снова длительная эмиграция, работа в социал-демократических европейских кругах. Действительно – ничего особенного. Можно сказать, типичная биография тогдашнего российского революционера. Из ссылки в Сибири успешно бежал в свое время Бакунин, бежал тот же Парвус, кстати также входивший в период революции 1905 года в Петроградский совет, несколько раз совершал побеги молодой Джугашвили, бежал из Киевской тюрьмы знаменитый народник Лев Дейч.
Правда, у Троцкого обнаруживается явный талант оратора и публициста. Он довольно быстро налаживает сотрудничество с рядом европейских и российских газет. Статьи его охотно печатают – они темпераментны, образны, остроязычны, схватывают злободневную суть. Однако это успех в узких кругах. До европейской известности, которой обладал, например, Плеханов, ему еще далеко. Примерно то же и с его ораторскими способностями. Троцкий в этот период, несомненно, приобретает черты яростного трибуна. Забыты прежние юношеские неудачи. Уже первая проба сил в эмигрантской среде – выступление против народнического кружка Чайковского – с очевидностью демонстрирует, что взошла новая пламенная звезда. Причем тут же становятся ясными и особенности его полемической энергетики. Для Троцкого главное – не переубедить, не привлечь, а полностью сокрушить оппонента. Ради этого используется практически все – ирония, темперамент, злая насмешка, град цветистых метафор. Впрочем, это типовые особенности революционных споров тех лет. Нынешняя политкорректность тогда была не в чести. Если посмотреть, например, статьи и выступления Ленина, можно увидеть, что он тоже в выражениях не стеснялся. Для него любой оппонент – это враг, это противник, которого требуется разгромить. Данная мировоззренческая специфика, вероятно, накладывает отпечаток на всю последующую политику партии большевиков. А Лев Троцкий с первой победной дискуссии, происходившей в лондонском Уайт-Чепеле, возвращается в приподнятом настроении. Как он позже напишет, «тротуара под подошвами совсем не ощущал». Еще бы – такой публичный успех!.. С этого момента устная речь становится его стихией. Он чувствует себя в ней как рыба в воде. И однако это опять-таки не более чем заявка на будущее. Среди российских социал-демократов сильных ораторов вполне достаточно. Здесь и Ленин с его железной логикой, и Плеханов, у которого поистине европейский ум, и блестяще образованный Луначарский, и Зиновьев, и Мартов…
Пожалуй, лишь две черты придают Троцкому политическое своеобразие. Прежде всего – близость с Парвусом, который, несомненно, повлиял на него. Александр Парвус в это время – известный социал-демократ, имеющий связи как в социалистических, так и в правительственных кругах, весьма неординарная личность, к голосу которой прислушиваются и с той, и с другой стороны. У него Троцкий и почерпывает идею о перманентной революции, распространяющейся на весь мир – идею, которую Парвус в свою очередь позаимствовал из работ Маркса и Энгельса.
Потом будет много споров о приоритете. Одни исследователи будут отдавать его Парвусу, дискредитированному, впрочем, в скором времени до того, что даже упоминание этой фамилии превращается в дурной тон, другие – Троцкому, подчеркивая, что интеллектуальную арматуру данной теории создал именно он, третьи же, как, например, Ленин, вообще отодвинут вопрос об авторстве на задний план, заимствуя из обширнейшей наработки то, что им требуется в данный момент. Скорее всего, дело выглядит следующим образом: Маркс и Энгельс высказали догадку, Парвус превратил ее в идею, а Троцкий – в мощный революционный концепт. Во всяком случае, у Троцкого теперь появился собственный вклад в теорию социализма, без чего невозможен был настоящий политический авторитет.
Теории перманентной революции Троцкий будет верен всю жизнь. Именно она вознесет его к самым вершинам славы, придав силу действиям во время революции и гражданской войны. И именно она, вкупе, конечно, с иными факторами, впоследствии приведет его к катастрофическому поражению.
А вторая черта, также имевшая стратегические последствия для будущего, заключалась в его остром, зачастую враждебном противостоянии с Лениным. И дело тут было, разумеется, не в теоретических разногласиях, которые чисто формально служили причиной ожесточенных полемических битв, – обоих сжигало бешеное честолюбие, характерное, впрочем, и для других социал-демократических вождей. Даже Плеханов, выглядевший в сравнении со многими российскими революционерами как настоящий интеллигент, согласно легенде (впрочем, довольно сомнительной) в ответ на заявление одного из своих соратников о том, что Троцкий – гений, раздраженно ответил: «Я ему этого никогда не прощу». А что касается Ленина, то на вопрос, что же мешает его объединению с Троцким, он прямо ответил: «А вы не знаете? Амбиции, амбиции и амбиции». Снисходительное «батенька» он тогда еще, видимо, не добавлял. Согласно многим свидетельствам, Лев Троцкий психологически не мог быть вторым, занимая по отношению к кому-либо подчиненное положение, – он мог быть только первым, единственным, стоять выше всех. Ленин же, к тому времени уже создавший собственную политическую организацию и надеявшийся в ближайшее время единолично возглавить ее, тоже отнюдь не склонен был потесниться, чтобы освободить место для молодой и, как он считал, скороспелой революционной «звезды».
Вообще неспособность российских демократических лидеров договариваться между собой, их гипертрофированное тщеславие, стремление во что бы то ни стало, оттеснив конкурентов, выйти на первый план, являлось и является до сих пор действенным фактором исторического процесса. Оно сыграло трагическую роль не только в эпоху свержения в России монархии, но и во времена перестройки СССР, когда именно амбиции лидеров помешали создать в стране единый демократический фронт.
Обе стороны обмениваются мощными орудийными залпами. Троцкий называет Ленина «пародией на Робеспьера», «генералиссимусом, чья армия тает на глазах», утверждает, впрочем не без оснований, что марксизм для Ленина – это «половая тряпка, когда нужно демонстрировать свое величие, складной аршин, когда нужно предъявить свою партийную совесть». «Все здание ленинизма, – восклицает он, – в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несет в себе ядовитое начало собственного разложения».
Ленин публикует в ответ известное замечание «О краске стыда у Иудушки Троцкого». Возмущаясь лицемерием своего политического оппонента, он констатирует (впрочем, тоже не без оснований): «И сей Иудушка бьет себя в грудь и кричит о своей партийности, уверяя, что он отнюдь перед впередовцами и ликвидаторами не пресмыкается. Такова краска стыда у Иудушки Троцкого». Он также пишет об идейном сумбуре Троцкого, о его фатальной амбициозности, об очевидной его беспринципности, выражающейся в непрерывных «тушинских перелетах» из одной революционной группы в другую.
Позже эту полемику использует Сталин – показав таким образом изначальную и яростную враждебность троцкизма и ленинизма.
В общем, союза двух страстных революционеров не получается.
После раскола, произошедшего на II съезде РСДРП, они оказываются по разные стороны баррикад.
Троцкий так и остается меньшевиком.
В партию Ленина он вступает лишь в июле 1917 года, когда понимает, что большевики – это единственная сила, способная взять власть в стране.
Около одиннадцати часов я наконец уезжаю домой. Правда, перед этим мне приходится выдержать примерно девятибалльный шторм, который устраивает Ирэна. Мы с ней традиционно спотыкаемся на данном месте. Ирэна никак не хочет смириться с тем, что я не остаюсь ночевать у нее. Древний женский инстинкт: мужчина должен находиться в пределах видимости. Лучше всего – на расстоянии вытянутой руки. Иначе можно его потерять. Никакие аргументы не помогают. Я тысячу раз терпеливо и убедительно ей объяснял, что утренние часы для меня самые ценные: голова хрустальная, мир только-только вылупился на свет, все сияет, мысли, легкие, прозрачные, удивительные, порхают как бабочки. А если просыпаюсь не у себя – все, день разбит, пока доедешь, переоденешься, пока то да се… К тому же не могу я заснуть, когда ко мне прижимаются, дышат в ухо.
– Я ночью вообще не дышу!.. – яростно отвечает Ирэна.
– Но иногда все же вздыхаешь…
– Это у тебя гормоны плещут в башке!..
Нет, бесполезно, «ястребы не отпускают добычу». И кроме того, в Ирэне бурлит задетое самолюбие: как это так – она не может удержать мужчину рядом с собой. Это – вызов, смятение, бессилие женского колдовства.
Мы расстаемся крайне недовольные друг другом, и те двадцать минут, которые я провожу в маршрутке, плывущей сквозь белесую ночь, уходят большей частью на то, чтобы немного прийти в себя. Физически не переношу ссор. Ирэна после каждого катаклизма свеженькая, будто из душа. Бурные эмоциональные препирательства только прибавляют ей сил. Кстати, и Нинель была точно такая же. Вот почему ссориться с женщинами нельзя. Я же выползаю из гендерных битв, точно из мясорубки: весь размолотый, изможденный, бескостный, утративший желание жить. Мир вокруг подернут расплывчатой пеленой. Я весь дрожу, мысли вспыхивают и чадят, как искры в угарном костре.
Дома я тоже не сразу обретаю покой. Во-первых, свернув в подворотню, я тут же наступаю на что-то живое. Оно дико мявкает и рвется у меня из-под ног. Я так же безумно мявкаю и шарахаюсь в противоположную сторону. Грохочет мусорный бак, локоть прошибает огнем. Боже мой, кошек у нас развелось – человеку уже некуда и ступить!..
А во-вторых, у своей парадной, где лампочка в решетчатом колпаке едва-едва рассеивает темноту, я вижу довольно плотную группу людей, обозначенную по кругу багровыми отсветами сигарет.
Этого еще не хватало!
Надеюсь, что Мафусаила среди них нет.
К сожалению, надежды мои оказываются напрасными. Мафусаил, он же Мусик, немедленно выступает вперед и распахивает руки, как будто хочет меня обнять.
Хуже всего, что он действительно рад.
– О!.. Как раз вовремя!.. Мы тебя ждем!..
– Мусик, – беспомощно бормочу я. – Честное слово… Весь день работал… На ногах не стою…
Мафусаила, однако, такие мелочи не смущают. Он берет меня под руку, точно железом приковывая к себе, и как тряпку волочит сквозь почтительно расступающуюся толпу.
Впрочем, какая толпа – пять человек.
– Не пожалеешь… Пошли!.. У нас сегодня – что-то особенного…
У него каждый раз «что-то особенного». Две недели назад, например, он проводил выставку эротических инсталляций: обе комнаты галереи были заполнены пластмассовыми раскрашенными отливками людей и зверей, в половину натуральной величины, совокупляющихся в различных позах. Причем все это совершало однообразные движения взад-вперед и, по мысли художника, выявляло «онтологический базис любви». Так, во всяком случае, говорилось в проспекте. Имя художника было Константин Итус, Коитус, если его правильно произносить, и, как утверждал Мусик, он уже получил приглашение в Амстердам. А до этого была экспозиция, где на картинах и фотографиях представлен был голый человеческий зад: вид сверху, вид снизу, вид на фоне нежных весенних берез. Художник Жорж Опин (тот же лингвистический ряд) утверждал, что эта часть тела гораздо выразительнее, чем лицо. Глядя на корявую физиономию самого художника, как будто обсыпанную трухой, я готов был тут же с ним согласиться. Мафусаил, впрочем, клялся, что последняя работа Ж. Опина (в миру он – Василий Дурнов) была продана за четыре тысячи и отнюдь не рублей.
– Жоржик – один из немногих, кто на своих работах живет. Покупатель у него специфический, видимо «голубой», зато – как идет!..
Сегодня Ж. Опина, к счастью, не наблюдалось. Картина в предбаннике два на три метра изображала стихию огня. Красно-желтое адское пламя заполняло собою весь холст, а чуть более темные корчащиеся прожилки указывали на жар, рвущийся изнутри. Называлось это «2010 год», и, вероятно, имелись в виду пожары, бушевавшие прошлым летом в России. Другая же картина, неподалеку, изображала, как это принято ныне, Иисуса Христа – обнаженного, в венце из колючей проволоки, залитого потоками крови из растерзанных вен. Он как будто принял томатный душ. Чувствовалось, что художник краски не пожалел. И также с первого взгляда чувствовалось, что этот бог страдает вовсе не за людей. Это было страдание в чистом виде, страдание как причина всякого бытия, страдание, которое родилось вместе с ним и вместе с ним навсегда умрет, так ничего в мире и не искупив. Тот же адский огонь, но только претворившийся в боль.
И еще был там холст, который таки произвел на меня впечатление. Собственно, даже не холст, а коллаж, выполненный картинками, вероятно вырезанными из журналов. Представлял он собой чудовищное ассорти: часть пейзажа над озером, выпотрошенные часы, рыбий скелет, две варежки, паровоз, окутанный клочьями дыма, тут же – скомканная страница книги, черепки, видимо, амфоры, обнаженная женская грудь с толстым соском. От всего этого мучительно рябило в глазах, и потому не сразу становилось понятным, что из-под угла занавески, там, где зачем-то изображено было окно, смотрит на тебя волчий зрачок – желтый, холодный, внимательный, словно запоминающий навсегда.
Он был точно живой.
И уже точно решил, сколько нам всем, по эту сторону полотна, будет дозволено существовать.
Фу… теперь всю ночь не засну.
– Да, в общем, цепляет, – соглашается со мною Мафусаил. – Только знаешь, рыночной перспективы у этого автора нет. Потому что – где здесь прикол? Слишком копает… А нет прикола – значит нет и цены.
И он начинает рассказывать уже раза четыре слышанную мною историю про художника, естественно из Москвы, который пять лет бегал на четвереньках – абсолютно голый, лаял собакой, даже кусал за икры людей, зато теперь оформляет спектакли в Большом театре. А потом про другого художника, который использовал вместо кисти собственный член. Обмакивал его в краску и рисовал. Правда, столкнулся с трудностями – не всегда был готов инструмент. Пришлось жрать виагру горстями, сердце здорово подсадил. Зато теперь – в трех западных каталогах, торчит в телевизоре, недавно возил громадную экспозицию в Берн…
Мне это, в общем, понятно. С тех пор как Ясперс написал свою знаменитую статью о Ван Гоге, где объяснил, что талант есть неожиданный выход за пределы всяческих норм, спонтанное преодоление регламентирующих границ, патология, в том числе поведенческая, считается обязательным качеством гения. Отрезанное ухо Ван Гога – лучшее тому доказательство. Или – уродство Тулуз-Лотрека, определившее всю его жизнь. А в современном искусстве вообще произошла смысловая инверсия: не патология стала спутницей гения, а гений – спутником патологии. У бюргеров появился простой и понятный маркер – если художник кусает людей, значит это талант. Из художественных критериев был исключен опыт эстетики: зачем нужен вкус, если приклеен на творчество легко считываемый ярлык. Ну и началось культивирование психопатий, вытеснение означаемого уродливым, но выразительным означающим, переход на «язык девиаций», ограниченный исключительно представительской новизной. Назвали это «актуальным искусством»: есть отклонение, но нет внутри него нормы, есть формальные признаки гениальности, но самого гения нет. Церковь без бога, муляж жертвенного костра…
Мафусаил смотрит на меня вытаращив глаза. Он сейчас похож на грача, которого вытащили из воды. Такой же – черный, встопорщенный, щуплый, как будто из одних перьев и угловатых костей.
– Слушай, напиши мне проспект, – хрипловато говорит он. – Мы его повесим вот здесь.
Рука указывает на простенок.
Я отвечаю, что надо подумать, и под этим предлогом сматываюсь из галереи.
Взбегаю по лестнице.