Поправка-22 Хеллер Джозеф
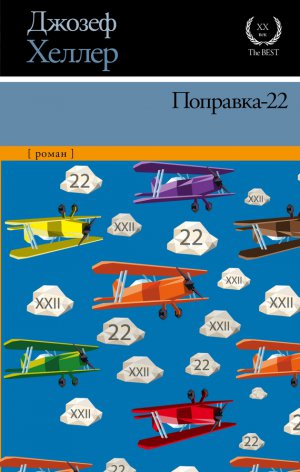
© Joseph Heller, 1955, 1961
© Перевод. А. А. Кистяковский, наследники, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015
* * *
Была только одна поправка – Поправка-22
Остров Пьяноса, расположенный в Средиземном море на восемь миль южнее острова Эльба, безусловно, чересчур мал, чтобы вместить описанные события. Как и окружающая обстановка, персонажи романа тоже вымышлены.
Глава первая
Техасец
Йоссариан полюбил капеллана мгновенно.
С первого взгляда и до последнего вздоха.
А в госпиталь он попал из-за болей в печени – хотя до желтухи его болезнь не дотягивала. Не дотягивала, к явному замешательству врачей, да и все тут. Если б она обернулась желтухой, они принялись бы ее лечить. Если б сошла на нет, отправили бы Йоссариана обратно в часть. Но желтуха не проявлялась, а Йоссариан не поправлялся, и это решительно сбивало их с толку.
Каждое утро они делали обход – трое деловито серьезных врачей, с уверенными речами и растерянными глазами, в сопровождении деловито серьезной мисс Даккит, одной из палатных сестер, которая недолюбливала Йоссариана. Изучив температурную карточку на спинке его госпитальной койки, они со скрытым нетерпением осведомлялись, как он себя чувствует. Их, видимо, раздражал его ответ, когда он говорил, что, мол, по-прежнему.
– И стула не было? – вопрошал врач в чине полковника.
Йоссариан отрицательно качал головой. Врачи переглядывались.
– Дайте ему еще одну таблетку.
Мисс Даккит заносила распоряжение в свой блокнот и перемещалась вслед за врачами к следующей койке. Все палатные сестры недолюбливали Йоссариана. Печень у него уже прошла, но он предпочитал об этом помалкивать, и врачи вроде бы ни о чем не догадывались. Они, впрочем, догадывались, что со «стулом» он их дурачит, облегчаясь в уборной тайком и украдкой.
Йоссариану нравилась госпитальная жизнь. Кормили тут вполне сносно, и еду ему приносили прямо в палату. Больным полагалась дополнительная порция мяса, а когда наступала послеполуденная жара, им давали холодный фруктовый сок или шоколадный напиток. Кроме врачей и сестер, никто здесь не досаждал Йоссариану. По утрам он, правда, трудился часок-другой как военный цензор, зато уж потом с чистой совестью мог валяться на койке до самого вечера. Ему вольготно жилось в госпитале, причем выписки он ничуть не боялся, потому что температура у него устойчиво держалась градуса на полтора выше нормы. Ему было даже вольготней, чем Дэнбару, который грохался временами в обморок – чтоб и его кормили прямо в палате, – а так ведь и морду расшибить недолго.
Решив проболеть до конца войны, Йоссариан написал всем своим знакомым, что попал в госпиталь, но почему – утаил. А потом его осенила блестящая идея. Он сообщил знакомым, что ему предстоит выполнить опаснейшее боевое задание. «Объявлен набор добровольцев. Риск смертельный, но ведь кто-то должен решиться. Я черкну вам пару строк, как только вернусь». И с тех пор он больше уж никому не писал.
Офицеры содержались в госпитале отдельно от унтер-офицеров и солдат, а по утрам досматривали их письма. Это была нудная работа, поскольку солдаты американской армии, как с досадой убедился Йоссариан, жили едва ли менее уныло, чем офицеры. Ему стало скучно в первый же день. Чтобы развлечься, он начал придумывать цензорские игры. Смерть определениям, решил он однажды – и принялся вымарывать из писем, которые проверял, все прилагательные и все наречия. На следующий день он объявил войну предлогам. А потом его посетило высокое вдохновение, и он решил оставлять в письмах только предлоги. Листки с разрозненными закорючками предлогов обретали подспудный, внутренний драматизм, а сообщения становились гораздо универсальней. Когда и это ему надоело, он начал вычеркивать обращение и подпись, но текст письма оставлял нетронутым. А однажды, тщательно вымарав текст, оставил только зачин – «Дорогая Мэри» – и внизу приписал: «Тоскую по тебе безумно. Э. Т. Тапмэн, капеллан ВВС США». Тапмэн был их полковым священником.
Когда игры с письмами ему приелись, он занялся конвертами – начал вычеркивать адреса и фамилии, изничтожая, словно Всевышний, беспечным росчерком пера отдельных людей и целые семьи, дома, улицы, города и штаты. Поправка-22 предписывала, чтоб на каждом досмотренном письме ставилась фамилия цензора. Большинство писем Йоссариан теперь просто не читал. Только ставил на них свой росчерк. А прочитав письмо, назывался Вашингтоном Ирвингом или для разнообразия Ирвингом Вашингтоном. Вскоре его цензурные вымарки на конвертах привели к самым серьезным последствиям, заставив слегка взволноваться некие высочайшие военные сферы, и это легкое волнение выплеснуло к воротам госпиталя тайного агента военной прокуратуры из Отдела по борьбе с преступностью. Агент ОБП, или в просторечии обэпэшник, водворился в офицерской палате как новый пациент. По желанию свести знакомство с Ирвингом или Вашингтоном и нежеланию досматривать письма – он отказался от этой унылой повинности на второй день – все сразу же поняли, кто он такой.
А вообще-то палата у них подобралась на славу, Йоссариан и Дэнбар никогда еще, пожалуй, в такой не лежали. Их соседом был, вопервых, двадцатичетырехлетний капитан с жидкими золотистыми усиками – летчик-истребитель, сбитый прошлой зимой над Адриатическим морем и даже не простудившийся. Сейчас-то стояло лето, но капитан, которого больше не сбивали, утверждал, что у него грипп. Справа от Йоссариана обессиленно покоился – всегда на животе – обомлевший офицер с малярийной инфекцией в крови и укусом комара на заднице. За проходом стояла койка Дэнбара, а возле Дэнбара лежал артиллерийский капитан, с которым Йоссариан отказался играть в шахматы. Игроком-то артиллерист был очень сильным, так что всякая партия превращалась у них в хитроумный поединок – хитроумный до идиотизма, как сказал Йоссариан, когда отказался с ним играть. А еще в их палате обретался образованный техасец, выглядевший героем цветного фильма, и патриотическое чутье подсказывало ему, что состоятельный, то есть достойный, человек должен иметь на выборах больше голосов, чем какой-нибудь бродяга, мошенник, недоумок, атеист или, допустим, шлюха, то есть люди несостоятельные, а стало быть, и недостойные.
В тот день, когда к ним в палату принесли техасца, Йоссариан деловито выламывал из писем смысловую основу. Это был самый обычный, по-госпитальному бестревожный и жаркий летний день. Жара, тяжкой ладонью придавившая крышу, глушила все мирные дневные звуки. Дэнбар неподвижно лежал на спине, уставившись, будто кукла, в потолок. Он усердно удлинял время жизни. Он добивался этого, углубляя скуку. Он так успешно удлинял время жизни, что казался Йоссариану мертвым. Техасца положили на койку, и вскоре он обнародовал свои взгляды.
– Во-во! – стремительно привскочив, гаркнул Дэнбар. – То-то я думал – чего, думаю, нам не хватает, не хватает, да и все тут! А теперь, значит, понял. – Он шмякнул кулаком по ладони и удовлетворенно заключил: – Патриотизма у нас нету.
– Верна! – гаркнул ему в ответ Йоссариан. – Верна, верна и верна! Дедовы капиталы… да свои домашние причиндалы – вот что все защищают! А кто, спрашивается, защищает достойных людей? Кто воюет за их голоса? Нет у нас патриотизма! И даже матриотизма нету!
– А и наплевать, – безучастно сказал младший лейтенант, лежащий слева от Йоссариана. Высказавшись, он перевалился на другой бок с намерением уснуть.
Техасец оказался редкостно благородным, благодушным и благонравным. Дня через три его уже никто не мог выносить.
При встречах с ним зуд унылого раздражения охватывал человека, словно въедливая чесотка спинного хребта, и все шарахались от него – все, кроме солдата в белом, у которого не было выбора. Солдат этот был водворен к ним в палату контрабандой, под покровом ночной темноты, и они увидели его только утром – горизонтальный гипсово-марлевый кокон и четыре странные конечности, задранные к потолку с помощью свинцовых противовесов, угрожающе застывших в воздухе над неподвижным туловом. Конечности казались лишними, особенно задни. А в гипсовую оболочку передних, с внутренней стороны на уровне локтей, были вставлены два шланга, по которым из прозрачного сосуда струилась вниз прозрачная жидкость. Между задними конечностями – там, где они отходили вверх от бедер, – в гипс была вмонтирована цинковая трубка, изогнутая плавной дугой и нисходящая к полу; недалеко от нижнего ее среза к ней примыкали две резиновые, для дренажа почек; объединенные таким образом отходы стекали в прозрачный сосуд, стоящий у койки на полу. Жизненный процесс длился непрерывно, и, когда верхний сосуд пустел, а нижний наполнялся, их быстро и неприметно меняли местами. Общую стерильность солдата в белом нарушало одно-единственное темное пятно – размухренное от дыхания отверстие надо ртом.
Солдат в белом лежал возле техасца, и тот, сидя боком на своей койке, весь день благожелательно журчал, растягивая слова с приятной ленцой американских южан. Его не смущало, что собеседник молчит.
Температуру им мерили два раза в сутки. Ранним утром и под вечер сестра мисс Крэймер входила в палату и, неторопливо двигаясь от койки к койке, наделяла каждого больного градусником. Солдату в белом она вставляла градусник туда, где под размухренной дырой в марлевой маске предполагался рот. Потом мисс Крэймер возвращалась к двери и делала второй обход, записывая температуру в карточки. И вот однажды, глянув на градусник, вынутый изо рта у солдата в белом, она обнаружила, что солдат умер.
– Убийца, – негромко проговорил Дэнбар.
На губах у техасца появилась неуверенная улыбка.
– Душегубец, – пояснительно обронил Йоссариан.
– О чем это вы, ребята? – с беспокойством спросил техасец.
– Ты убил его, – сказал Дэнбар.
– Погубил душу живу, – добавил Йоссариан.
– Да вы просто спятили, ребята, – пробормотал, отпрянув, техасец.
– Ты убил его, – повторил Дэнбар.
– Я слышал, как ты его приканчивал, – добавил Йоссариан.
– Ты убил его, потому что он черномазый, – сказал Дэнбар.
– Вы просто спятили! – выкрикнул техасец. – Нету здесь никаких черномазых! Их содержат отдельно.
– Сержант положил его сюда тайком, – сказал Дэнбар.
– Сержант-то, он ведь красный, – пояснил Йоссариан.
– И ты это знал, – заключил Дэнбар.
Младшему лейтенанту, левому соседу Йоссариана, было наплевать на солдата в белом. Ему на все было наплевать, и он обычно молчал, а если и заговаривал, то исключительно чтобы выразить вслух свое раздражение.
Накануне встречи Йоссариана с капелланом в госпитальной столовой взорвалась газовая печь, и огонь мигом охватил одну из деревянных стен. По госпиталю медленно поползла волна удушливого жара. Даже в палате Йоссариана, футов за триста от столовой, слышался рев пламени и сухой треск полыхающих досок. Минут через пятнадцать с аэродрома приехали аварийные машины, и пожарные больше получаса не могли одолеть разбушевавшийся огонь. А когда победа была близка, небо над госпиталем привычно взбухло монотонным гулом бомбардировщиков, которые возвращались с очередного задания, и бойцы аварийной команды, торопливо скатав пожарные рукава, умчались восвояси, чтобы быть наготове, если какой-нибудь самолет гробанется при посадке и вспыхнет. Все самолеты приземлились, однако, благополучно. Как только последний самолет сел, пожарные ринулись обратно в госпиталь. Когда грузовики одолели подъем – госпиталь стоял на холме, – оказалось, что пожар кончился, испустил дух сам по себе, и разочарованные пожарные, не отыскав ни одной головешки, которую стоило бы заливать, выпили остывший кофе, а потом долго слонялись по госпиталю, пытаясь утешиться с дежурными сестрами.
Капеллан появился на следующее утро. Йоссариан был погружен в работу – вычеркивал из очередного письма все, кроме любовных слов, – когда тот сел на стул между койками и спросил его, как он себя чувствует. Сел пришелец бочком, на краешек стула, и Йоссариан увидел поначалу только капитанские нашивки на вороте его рубахи. Не зная, кто к нему пришел, Йоссариан решил, что это новый врач или еще один сумасшедший.
– Прекрасно, – ответил он. – Печень слегка пошаливает и со стулом довольно туго, но в общем и целом я чувствую себя прекрасно.
– Это хорошо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это хорошо.
– Мне хотелось наведаться раньше, – снова заговорил капеллан, – да я неважно себя чувствовал.
– А вот это плохо, – сказал Йоссариан.
– Просто насморк, – поспешно уточнил капеллан.
– А у меня температура, – так же поспешно уточнил Йоссариан.
– Это плохо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это плохо.
Капеллан поерзал на краешке стула.
– Может, вам что-нибудь нужно? – спросил он.
– Да нет, – вздохнул Йоссариан. – Врачи, по-моему, делают все возможное.
– Да нет, – слегка зардевшись, проговорил капеллан, – я не про это. Я про книги… или там сигареты… или, к примеру, игрушки…
– Да нет, – отозвался Йоссариан. – Большое спасибо. У меня вроде все есть – все, кроме здоровья.
– А вот это плохо, – сказал капеллан.
– Да, – сказал Йоссариан, – это плохо.
Капеллан опять немного поерзал. Потом несколько раз огляделся по сторонам, поднял взгляд к потолку и посмотрел на пол. А потом глубоко вздохнул и сообщил:
– Лейтенант Нетли шлет вам привет.
Йоссариана огорчило, что у них есть общий знакомый.
Дело, значит, было не только в их обоюдной симпатии.
– Вы знаете лейтенанта Нетли? – разочарованно спросил он.
– Прекрасно знаю, – откликнулся капеллан.
– Он ведь немного того, правда?
Капеллан встревоженно улыбнулся.
– Вы думаете? – спросил он. – Я все же не настолько хорошо его знаю, чтобы об этом судить.
– Сомневаться тут не приходится, – уверил капеллана Йоссариан. – Он, как и все они, с большим приветом.
Капеллан веско помолчал, а потом вдруг отрывисто спросил:
– Вы ведь капитан Йоссариан, я не ошибся?
– У Нетли плохая наследственность. Он из хорошей семьи.
– Простите, бога ради, – испуганно сказал капеллан. – Возможно, я совершаю серьезнейшую ошибку. Вы действительно капитан Йоссариан?
– Да, – признал Йоссариан, – я действительно капитан Йоссариан.
– Из Двести пятьдесят шестой эскадрильи?
– Из Двести пятьдесят шестой боевой эскадрильи. И я не знаю другого капитана Йоссариана. Насколько мне известно, я единственный капитан Йоссариан, которого я знаю, и больше мне про Йоссариана ничего не известно.
– Понятно, – с несчастным видом сказал капеллан.
– А если б нас было двое, то, возведенные в восьмую степень, мы составили бы номер нашей эскадрильи, – добавил Йоссариан, – это я на тот случай, если вы собираетесь писать про нас символическую поэму.
– Да нет, – промямлил капеллан, – я не собираюсь писать про вас символическую поэму.
Внезапно Йоссариан подобрался и выпрямился: он заметил серебряный крестик на вороте рубахи у своего собеседника – справа нашивки капитана, а слева крестик. Ему никогда не доводилось разговаривать с капелланом, и он радостно обалдел от подобной возможности.
– Так вы, стало быть, капеллан! – восторженно воскликнул он.
– В общем, да, – откликнулся капеллан. – Так вы, стало быть, не знали, что я капеллан?
– В общем, нет, – сказал Йоссариан. – Я, стало быть, не знал, что вы капеллан. – Он зачарованно смотрел на собеседника и широко улыбался. – Я раньше ни разу не видел капеллана.
Капеллан вспыхнул и смущенно опустил взгляд. Это был худощавый человек чуть за тридцать, с узким бледным лицом, рыжеватыми волосами и застенчивыми карими глазами. На щеках у него виднелись невинные оспинки – следы юношеских прыщей. Может, он в чем-нибудь нуждается, участливо подумал Йоссариан.
– Может, вы в чем-нибудь нуждаетесь? – участливо спросил капеллан.
Йоссариан, по-прежнему улыбаясь, отрицательно покачал головой.
– Да нет, – сокрушенно сказал он, – у меня вроде есть все, что мне нужно. Решительно все. Я ведь вообще-то даже и не болен.
– А вот это хорошо, – сказал капеллан. Его смутили собственные слова, и, обеспокоенно хихикнув, он прижал к зубам костяшки согнутых пальцев, но Йоссариан промолчал, и капеллан смутился еще сильней. – Мне надо навестить всех наших однополчан, – с ноткой вины в голосе после паузы выговорил он. – Я скоро опять к вам наведаюсь… может быть, даже завтра.
– А вот это хорошо, – сказал Йоссариан.
– Непременно наведаюсь, – повторил капеллан. – Но только если я и правда вам нужен, – застенчиво опустив голову, добавил он. – Если я не буду вам в тягость… как многим другим.
– Не будете! – просияв от любовного расположения, заверил его Йоссариан. – Вы очень мне нужны, можете не сомневаться.
Лицо капеллана озарила благодарная улыбка, а потом он украдкой посмотрел на листок бумаги, который все время держал в руке, стараясь чтоб Йоссариан этого не заметил. Пересчитав койки – Йоссариан видел, как у него шевелятся губы, – капеллан неуверенно воззрился на Дэнбара.
– Вы не скажете, – шепотом спросил он, – это лейтенант Дэнбар?
– Да, – громко ответил Йоссариан, – это лейтенант Дэнбар.
– Благодарю вас, – прошептал капеллан, – благодарю вас, вы очень любезны. Мне надо поговорить с ним. Мне надо поговорить со всеми воинами нашего полка, которые попали в госпиталь.
– Даже с теми, кто лежит в других палатах?
– Даже с теми, кто лежит в других палатах.
– Будьте осторожны в других палатах, святой отец, – предостерег его Йоссариан. – Это психические палаты. Там полно психов.
– Меня не обязательно называть «отец». Я анабаптист.
– Будьте осторожны, – мрачно повторил Йоссариан. – И не надейтесь на помощь военной полиции: там служат бесноватые маньяки. Я бы проводил вас, да сам боюсь их всех до смерти. Безумие заразительно. Наша палата единственное место, где собраны нормальные люди. Единственное место в госпитале, а может, и на всей земле.
Капеллан поспешно встал и бочком, бочком отступил от койки Йоссариана. Потом смущенно улыбнулся и пообещал вести себя с должной осторожностью.
– А теперь мне надо к лейтенанту Дэнбару, – заключил он. Однако не сдвинулся с места, и вид у него был немного виноватый. – Как он, по-вашему? Ничего?
– Нормальный парень, – заверил его Йоссариан. – Уникальный тип, и что самое замечательное – никакой самоотверженности.
– Да нет, я не об этом, – снова перейдя на шепот, заторопился капеллан. – Он очень болен?
– Да нет, не очень. Он и вообще-то не болен.
– А вот это хорошо. – Капеллан облегченно вздохнул.
– Да, – вздохнул и Йоссариан, – это хорошо.
– Капеллан! – воскликнул Дэнбар, когда тот поговорил с ним и ушел. – Представляешь себе? Капеллан!
– А какова обходительность? – вопросительно утвердил Йоссариан. – Ему, пожалуй, должны дать не меньше трех голосов.
– Кто это ему должен? – подозрительно спросил Дэнбар.
В дальнем углу их палаты, за зеленой фанерной ширмой, трудился в поте лица своего на госпитальной койке представительный полковник лет сорока пяти, и его каждый день навещала миловидная молодая женщина со слегка волнистыми светло-пепельными волосами – не сестра милосердия, не дамочка из Красного Креста и не девица из Женского вспомогательного батальона, она тем не менее ежедневно приходила в госпиталь на Пьяносе, – грациозная молодая женщина в изящных платьях пастельных тонов, нейлоновых чулках с идеально прямыми швами и белых лодочках на невысоких каблучках. До болезни полковник был связистом, но и, заболев, трудился буквально с утра до вечера: получив очередной липкий рапорт о своем внутреннем состоянии, он методично запечатывал его в квадратный марлевый пакет и переправлял на низенький столик у койки, в белое ведерко с крышкой. Полковник этот поражал воображение. У него было темное, словно бы из тусклого серебра, лицо, провалившийся рот, впалые щеки и глубоко ввалившиеся, тоскливые, с мутной поволокой глаза. Он все время откашливался – негромко, сдержанно – и мешкотно, с привычным отвращением прижимал квадратики марли к бесцветным губам.
А вокруг волновалось море специалистов, которые специализировались на его недугах, пытаясь определить, в чем же с ним дело. Чтобы увидеть, как он видит, они высвечивали ему слепящими лучами глаза; чтобы почувствовать, как он чувствует, вгоняли в нервы иголки; а чтобы ощутить его ощущения – на латыни рефлексы, – лупили молотками по локтям и коленям. Психиатр исследовал у полковника психику, психолог – психологию, невропатолог – нервы, лимфатолог – лимфу, кистолог – кисту, а китолог – педантичный лысеющий доктор из Гарвардского университета, которого загребли на военную службу, потому что у компьютера в призывной комиссии сгорело сопротивление, и доктор биологии стал врачом, – пытался обсуждать с ним, хотя он едва дышал, художественность «Моби Дика».
Словом, обследовали полковника дотошно и всесторонне. У него не было органа, который укрылся бы от внимания врачей. Их все до единого высветили и выследили, прослушали и прощупали, продезинфицировали и унифицировали, проанализировали и заанестезировали, вскрыли, удалили, умалили и пересадили. Хрупкая, опрятная и стройная, словно тростинка, женщина, сидя рядом с ним на стуле, часто дотрагивалась узкой ладонью до его плеча, а улыбка ее лучилась воплощением царственной печали. Сам он был высокий, худой и сутулый, а встав, сгибался почти пополам и двигался вперед будто высохший вопросительный знак, медленно, дюйм за дюймом передвигая по полу подошвы почти не гнущихся в коленях ног. Под глазами у него темнели фиолетовые мешки. Посетительница разговаривала с ним очень тихо – даже тише, чем он откашливался, – и никто в палате не знал, какой у нее голос.
Да и опустела вскоре палата, потому что их всех разогнал техасец. Первым сломался артиллерист, положив начало массовому исходу. Дэнбар, Йоссариан и летчик-истребитель выписались одновременно. Дэнбара перестали мучить головокружения, Йоссариан окончательно понял, что печень у него совсем не болит, а летчик-истребитель вдруг напрочь избавился от насморка. Исцеление было всеобщим и безболезненным. Сбежал даже невозмутимый младший лейтенант. Меньше чем за десять дней техасец вернул их всех на боевые посты, к исполнению долга, – всех, кроме обэпэшника, который заразился от летчика-истребителя простудой и подхватил воспаление легких.
Глава вторая
Клевинджер
И все же обэпэшнику крупно повезло – ведь за пределами госпиталя продолжалась война. Люди обезумели и получали за это медали. По обе стороны линии фронта, рассекавшей мир, молодые парни шли на смерть – за родину, как им говорили, – и всем, похоже, казалось, что так и надо, особенно молодым парням, которые шли на смерть, не успев пожить. И не было, не предвиделось этому конца. Йоссариан-то, впрочем, предвидел конец – свой собственный; он мог бы отлеживаться в госпитале до второго пришествия, не явись туда техасец с его патриотизмом, взъерошенной башкой, почти упирающейся в пол челюстью и вечной, растянувшейся от уха до уха улыбкой. Ему хотелось осчастливить всех соседей по палате. Кроме Йоссариана с Дэнбаром. Больной, он и есть больной.
А впрочем, Йоссариан и сам не видел причин для счастья, так что техасец был тут ни при чем, он видел войну – и ничего веселого в этом не видел. За пределами госпиталя продолжалась война, но никто ее, казалось, не замечал. Только Йоссариан с Дэнбаром. А когда Йоссариан пытался открыть людям глаза, когда он хотел образумить их, они шарахались от него и называли безумцем. Даже Клевинджер, который мог бы кое-что понять, но не понимал, сказал ему перед его отправкой в госпиталь, что он безумец, псих.
– Ты псих! – заорал Клевинджер, с лютым ожесточением глядя на Йоссариана и вцепившись обеими руками в столешницу.
– Клевинджер, ну чего ты пристаешь к людям? – устало спросил его Дэнбар, перекрыв на мгновение невнятный гомон офицерского клуба.
– Псих, – упрямо повторил Клевинджер.
– Они стараются меня убить, – рассудительно сказал Йоссариан.
– Да почему именно тебя? – выкрикнул Клевинджер.
– А почему они в меня стреляют?
– На войне во всех стреляют. Всех стараются убить.
– А мне, думаешь, от этого легче?
Клевинджер уже дернулся, полупривскочил со стула – глаза мокрые, губы выцвели и трясутся. Как и обычно, когда начинался спор о святых для него принципах, он был обречен закончить его, яростно задыхаясь от негодования и смаргивая горькие слезы неразделенной веры. Клевинджера переполняла вера в святые принципы. Он был псих.
– Да кто «они»-то? – удалось все же выкрикнуть ему сквозь гневную одышку. – Кто, по-твоему, старается тебя прикончить?
– Каждый из них.
– Из кого «из них»?
– А как ты думаешь?
– Понятия не имею!
– А раз понятия не имеешь, так откуда ж ты знаешь, что они не стараются?
– Да ведь они… ведь я… – брызгая слюной, закудахтал было Клевинджер и безнадежно умолк.
Клевинджер искренне считал, что он прав, но Йоссариан опирался на неоспоримые доводы, поскольку совершенно незнакомые ему люди обстреливали его из зениток, стараясь прикончить, когда он сбрасывал на них бомбы, и в этом не было ничего веселого. Да и все остальное было не веселей. Ну можно ли веселиться, если живешь, будто бродяга, на диком острове, прижатый нагло раскорячившимися горами к безмятежно голубому морю, которое, однако, проглотит тебя при случае, так что ты и глазом не успеешь моргнуть, а потом выплюнет через пару дней на берег – распухшего, лилового, осклизлого и свободного от житейских невзгод, со струйкой воды из каждой холодной ноздри?
К палатке, в которой он жил, почти вплотную подступали заросли тусклого мелколесья, отделявшего их эскадрилью от эскадрильи Дэнбара, а вдоль стены деревьев тянулась траншея заброшенной железной дороги с временным бензопроводом, из которого заправлялись на взлетном поле бензовозы. Благодаря Орру, его соседу по палатке, их жилище было самым роскошным в эскадрилье. Всякий раз, как Йоссариан возвращался после отдыха в госпитале или отпуска в Риме, он обнаруживал новые роскошества – камин, водопровод, бетонный пол, – появившиеся стараниями Oppa, пока его не было. Место для палатки выбрал в свое время Йоссариан, а ставили они ее вместе – Орр, улыбчивый рыжий гномик с «крылышками» пилота и кудрявой густой шевелюрой, разделенной на прямой пробор, был главным распорядителем, а высокий, массивный, здоровенный и проворный Йоссариан покорно выполнял его распоряжения. Жили они вдвоем, хотя палатка вместила бы и шестерых. Когда настало лето, Орр поднял, скатав, боковые стенки, чтоб застоявшийся внутри горячий воздух выдувало ветерком с моря, который никогда не дул.
Ближайшим соседом Oppa и Йоссариана был Хавермейер, любитель козинака и ночной стрельбы по мышам: живя в двухместной палатке один, он еженощно пристреливал громадной крупнокалиберной пулей крохотную полевую мышь, для чего ему и понадобилось украсть у мертвеца из палатки Йоссариана пистолет сорок пятого калибра. Чуть дальше стояла палатка Маквота и Клевинджера, где Маквот коротал жизнь без прежнего напарника, потому что Клевинджер жил теперь отдельно – да его, впрочем, и не было, когда Йоссариан вернулся, – а переселившийся к Маквоту Нетли ухаживал в Риме за своей любимой сонной шлюхой, которой до смерти обрыдли и все мужчины вообще, и влюбленный Нетли в частности. Маквот был псих. Он летал над палаткой Йоссариана как можно чаще и как можно ниже – просто чтобы посмотреть, может ли его напугать, – а потом сворачивал, по-прежнему на бреющем, в сторону моря и с чудовищным, угрожающе близким ревом проносился над голыми солдатами, которые купались за песчаной косой возле деревянного плота, лениво покачивающегося среди волн на пустых бочках из-под бензина. Жить в одной палатке с психом не так-то просто, но Нетли плевать на это хотел. Он тоже был псих и в свободное время строил офицерский клуб, куда Йоссариан не вложил ни капли труда.
Вообще-то существовало множество офицерских клубов, куда Йоссариан не вложил ни капли труда, но клубом на Пьяносе он особенно гордился. Это был могучий – и нерукотворный, если говорить о Йоссариане, – памятник его решительной непреклонности. Пока клуб строили, Йоссариана там никто не видел, а когда строительство завершилось, его практически только там в свободное время и можно было увидеть: очень уж нравился ему этот приземистый и крытый щепой, но вместительный и добротный дом. Дом был построен на совесть, а главное, Йоссариан проникался горделивым чувством полновесного свершения всякий раз, как он подходил к нему и вспоминал, что туда не вложено ни капли его труда.
А когда они с Клевинджером обзывали друг друга психами, их было четверо за столиком в офицерском клубе. Они сидели в глубине зала, у стола для игры в кости, на котором Эпплби неизменно выигрывал. Эпплби так же искусно метал кости, как играл в пинг-понг, а играл в пинг-понг так же ловко, как делал любое дело. Ему превосходно удавалось все, за что бы он ни взялся, этому светловолосому парню из Айовы, который ухитрялся верить в Бога, Святое Материнство и Американский Образ Жизни, никогда не задумываясь о столь сложных понятиях, – причем каждый, кто его знал, относился к нему с искренней симпатией.
– Ненавижу поганца, – жалобно проворчал Йоссариан.
А спор с Клевинджером начался у них на несколько минут раньше, когда под руками у Йоссариана не оказалось пулемета. Народу было в клубе – не протолкнешься. К бару не протолкнешься, к столу для пинг-понга не протолкнешься, к столику для игры в кости не протолкнешься, а люди, которых Йоссариан хотел расстрелять из пулемета, беззаботно напевали, протолкавшись к стойке, старые чувствительные песенки – и никому, кроме него, эти песенки почему-то не надоедали. За отсутствием пулемета он со злобным сладострастием растоптал каблуком шарик для пинг-понга, подкатившийся ему под ноги.
– Ну Йоссариан, – ухмыльчиво перемолвились игроки и, покачав головами, достали из коробки другой шарик.
– Ну Йоссариан, – тотчас же отозвался Йоссариан.
– Йоссариан, – шепотом предостерег его Нетли.
– Понял, про что я толковал? – спросил Клевинджер.
– Ну Йоссариан! – с откровенным смехом и гораздо громче повторили игроки, услышав, как он их передразнил.
– Ну Йоссариан! – эхом откликнулся Йоссариан.
– Ну пожалуйста, Йоссариан! – умоляюще прошипел Нетли.
– Понял, про что я толковал? – спросил Клевинджер. – У него антисоциальный психоз.
– Да уймись ты, – сказал Клевинджеру Дэнбар. Ему нравился Клевинджер, потому что тот наводил на него тусклое уныние и время тянулось медленней.
– Так ведь Эпплби-то здесь даже нет! – с торжеством уязвил Йоссариана Клевинджер.
– А кому здесь нужен Эпплби? – спросил Йоссариан.
– И полковника Кошкарта нет.
– А кому здесь нужен полковник Кошкарт?
– Да какого же поганца ты ненавидишь?
– А кто из поганцев здесь есть?
– Нет, с тобой бессмысленно разговаривать, – решил Клевинджер. – Ты даже не знаешь, кого ненавидишь.
– Прекрасно знаю, – возразил Йоссариан. – Того, кто пытается меня отравить.
– Никто тебя не пытается отравить.
– Два раза уже пытались – неужто не помнишь? Когда мы штурмовали Феррару и Болонью.






