Лебединая охота Котов Алексей
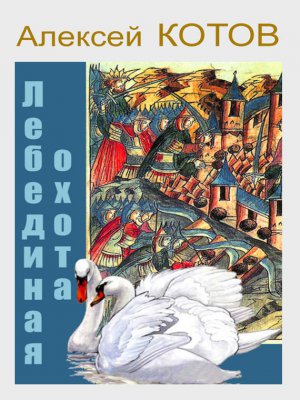
Лодка опрокинулась… Бату не сразу понял, что он оказался в воде, и вода, на вдохе, мгновенно хлынула в легкие. Отяжелевшая одежда потянула мальчика вниз, вокруг сразу стало темно и холодно. Свет уходил куда вверх, в сторону и быстро гас. Бату отчаянно сопротивлялся, но вода казалась вязкой, как болотная жижа.
«Воздух!..» – Бату буквально пронизывала одна эта мысль. Он забыл об отце, об охоте и обо всем на свете.
«Воздух!..»
Но воздуха не было, а свет уходил от него все дальше и дальше.
Когда он почти погас, сильные руки рванули его вверх. Мгновение спустя, Бату увидел восходящее солнце сквозь мокрые и слипшиеся ресницы. Оно было расплющенным, кроваво-красным и совсем не похожим на то, каким привык его видеть маленький Бату.
Мальчик закашлялся, его тут же вырвало. Держа сына на руках, Джучи пошел к берегу. Мимо проплыл мертвый лебедь, а вокруг него растекалось по воде красное, похожее на потухшее солнце, пятно.
Джучи положил Бату на траву и принялся протирать тряпкой правый глаз.
– Подлая собака!.. Тварь длинношеяя! – ругался он.
Второй лебедь – со стрелой в крыле – уплыл в камыши. Когда Бату немного пришел в себя и приподнялся на локте, он увидел его через редкую стену зарослей. Раненая птица пыталась выбраться на берег, но ей мешала рана и скользкая глина под красными лапками.
Бату слабо окликнул отца и показал на лебедя. Джучи шагнул было в воду, но, сделав пару шагов, провалился почти по пояс. Дальше было еще глубже, и Джучи вернулся на берег.
– Сам сдохнет! – зло сказал он сыну. – Ты как?.. Встать сможешь?
Бату встал… Его слегка покачивало и тошнило.
– Идти сможешь?
Мальчик сжал зубы и кивнул.
Джучи перевязал раненный глаз. Повязка получилось не очень умелой, и лицо отца вдруг показалось Бату смешным. Мальчик возмутился и тут же одернул себя.
Они возвращались домой молча. Бату несколько раз пытался взять отца за руку, но тропинка в камышах, идущая вдоль берега, к тому месту, откуда они начали охоту, была узкой и иногда уходила под воду. Мешало и то, что Джучи часто подносил правую руку к лицу, и хотя уже не ругался, но сердито ворчал что-то. А потом Бату увидел кровь на его длинных пальцах.
Бату хорошо запомнил спину отца: высокую, худую и чуть сутулую…
Джучи-хана убили через три дня. Из-за раненного глаза он слишком поздно увидел взмах сабли справа и когда Джучи схватился за рукоять своего меча, ему отсекли руку. Второй удар – в голову – был уже смертельным.
Маленький Бату видел расправу издалека – отец и присланные дедом Чингисханом воины стояли на берегу Енисея. Их фигуры были хорошо видны на фоне светлой воды. Рядом с Бату, чуть сзади, положив руки на его плечи, стояла его мать Уки-хатун.
– Пойдем домой, – тихо сказала она Бату, когда Джучи упал. Она резко развернула мальчика и подтолкнула его к юрте.
– Мама, нас тоже убьют? – спросил Бату.
– Нет.
– Почему?
Уки-хатун ничего не ответила. Бату шел рядом с матерью и пытался заглянуть ей в лицо. Оно показалось ему скорбным, темным и даже больным. Женщина что-то тихо прошептала, и Бату уловил обрывок фразы: «Я же ему говорила!..»
«Что говорила?» – подумал Бату.
Мысль о смерти отца была ужасной и огромной, как бездонный омут. Бату вдруг почувствовал страх… Он понимал, что если его мысли сделают только один шаг вперед, этот омут раскроет свои объятия и поглотит его, как хотела поглотить вода тогда, на озере. Бату оборвал свои мысли и молча смотрел на землю. Он старался не думать о смерти отца и не верить в нее.
Уки-хатун тихо, без слез заплакала. У нее дергалось лицо, и она прикрывала подбородок рукой.
Мимо и довольно низко пролетела стая лебедей. Судя по всему, они готовились к перелету на юг и издавали громкие, протяжные звуки. Гораздо ниже стаи летел один лебедь и словно рассматривал маленького Бату. Большая птица тяжело взмахивала крыльями и даже удаляясь, как казалось Бату, смотрела на него…
Сон отшатнулся и стал похож на прозрачную шелковую занавеску.
– Саин-хан!.. – окликнул Бату женский голос и тихо засмеялся.
Бату открыл глаза и долго смотрел во тьму. Болела голова. Пульсирующая и резкая боль, то стихала, то, словно протискиваясь через мозг ото лба к затылку и жгла острой, раскаленной иглой. Великого Хана мутило от выпитого, он вспоминал то недавний сон, то еще что-то, уже ускользнувшее из его памяти, что произошло перед тем, как он уснул.
Сон о далеком детстве уходил все дальше и дальше, а смутное воспоминание о недавнем событии словно задернули огромным куском дырявого войлока. Там, за завесой все еще что-то происходило, кружилось белыми, похожими на падающий снег красками, но отдельные крохотные картинки упрямо не складывались в единое целое.
Бату раздражало все: хаос и боль в голове, неудобная поза, темнота вокруг и даже полная тишина. В вытяжном окошке в центре юрты был виден крошечный кусочек неба. Один край окошка освещала яркая луна, и он красиво серебрился, как свежее пробитая во льду полынья.
Бату медленно, с заметным усилием сел. Боль в голове хлынула к затылку, и лоб покрылся холодной испариной. Великий Хан перетерпел боль. Он потер руками лицо и громко сказал:
– Эй!.. Кто там?!.. Свет сюда!
«Саин-хан…», – вспомнил Батый женский голос, позвавший его из темноты.
– Аянэ!
Никто не ответил.
Полог юрты поднялся, открывая сначала звездную ночь, а потом свет лампы в руках рослого кебтеула. Пахнуло свежим, чистым воздухом. Тень воина быстро заслонила ночь за порогом, и почти тут же исчезло ощущение свежести.
– Поставь… – Бату кивнул на лампу и показал глазами на низкий, китайский столик.
Воин поклонился и выполнил приказ.
Бату осмотрелся… Рядом с ним лежала мертвая девушка. Это была та, вторая пленница. У нее было белое, как мел и очень строгое лицо. Аянэ в юрте не было. Горло мертвой прикрывала подушка, Батый приподнял ее и увидел синие следы пальцев на шее.
Память возвращалась медленно. Куски войлока рвались с тихим шорохом, а картины, всплывающие в памяти, становились больше и ярче.
Бату не помнил причины убийства рабыни. Вспышка гнева пришла внезапно, и единственное, что всплыло в его памяти, была острая, пронизывающая сердце радость, когда он сжимал пальцы на тонком и теплом горе жертвы. Перед глазами вдруг промелькнул осколок сна: Джучи-хан держит за длинную шею бьющего крыльями лебедя… Мелькнул и исчез.
Бату перевел взгляд на кебтеула. Воин тут же опустил глаза.
– Хо-Чан где? – хрипло спросил Бату.
Воин кинул в сторону двери.
– Спит, что ли?
Воин снова кивнул.
– Позови его.
Воин вышел, и, как показалось Бату, почти тотчас вошел обратно и шагнул в сторону. За ним, сложив ладони у груди, стоял Хо-Чан.
– Убери, – Бату показал китайцу на мертвую девушку. Он с усмешкой рассматривал потемневшее лицо Хо-Чана. Чем большее раздражение и злость чувствовал Бату тем, казалось, меньше болела его голова. Боль словно растворялась в чем-то гораздо большем, чем она сама. К Великому Хану быстро возвращалась его привычная сила.
Хо-Чан подошел к девушке. Нерешительно оглядев труп, он обнял ее, как обнимают ребенка, и без особого усилия поднял перед собой. Какое-то время он смотрел на Бату, словно ожидая, что Великий Хан отменит свой нелепый приказ.
Бату потянулся к столику, взял чашу с кумысом и медленно выпил ее до дна. Боль в голове уходила с каждым глотком.
– Что стоишь? – усмехнулся Бату. – Меня ждешь?
У порога Хо-Чан едва не споткнулся о брошенную вещь, но его поддержал за плечо воин. Китаец механически поблагодарил, и та же рука тут же грубо вытолкала его из юрты.
Сразу за порогом, не сделав и трех шагов, Хо-Чан остановился.
– А куда ее нести? – виновато спросил воина.
Тот молча пожал плечами.
Хо-Чан растерялся… Лагерь монголов был огромным, он не знал, где хоронят убитых и умерших воинов, а просто бросить труп где-нибудь не было возможности. Вся территория лагеря была поделена на большие и маленькие куски, которые кому-то принадлежали, их охраняли от чужих, а при случае, защищали.
Хо-Чан пошел прямо. Он думал и не находил выхода из создавшейся ситуации. Нести девушку в рощицу, где расположились его рабочие, было слишком далеко. Кроме того, этот путь пересекал небольшой овраг, по которому Хо-Чан приказал откачать воду из крепостного рва. Воды в овражке уже не было, но его дно стало топким и илистым, как болото. А обходить овраг с ношей, которая становилась все тяжелее и неудобней, было бы трудно и для физически сильного человека.
На секунду в свете луны Хо-Чан увидел мертвое лицо девушки. Оно показалось ему удивительно тонким и красивым. Китаец быстро отвел глаза.
Он попытался поговорить со старым монголом, который вез на тележке огромный тюк войлока. Но разговора о кладбище и о тележке, которую Хо-Чан был согласен купить за очень большие деньги, не получилось. Во-первых, старый монгол был пьян, во-вторых, судя по гортанным крикам, которые он адресовал не китайцу, а кому-то за своей спиной, старик поссорился со своим старшим сыном и теперь, перебираясь к младшему, он мог думать только о своей обиде.
В конце-концов, Хо-Чан решил выйти за территорию лагеря и оставить мертвую девушку в поле. Дорога по кривым «улочкам» лагеря, да еще ночью, оказалось нелегкой. Несколько раз Хо-Чан попадал в тупики, возвращался, иногда отдыхал, осматриваясь по сторонам и пытаясь выбрать верный путь. Начинал он его с тяжелого, горького вздоха.
Чем длиннее становилась дорога Хо-Чана, тем короче становились его мысли. Он думал о Великом Хане (да продлит Небо его дни!) и, не понимал, чем был вызван ханский гнев, и почему именно ему была поручена работа рабов. Когда приходил страх, Хо-Чан успокаивал себя тем, что Бату не отнял у него серебряную пайцзу.
«Думай о том, что все могло быть хуже и станет легче», – не без горечи посоветовал он сам себе.
Больше всего на свете Хо-Чан любил две вещи: работу и свое вечернее одиночество. И первое, и второе занятие погружали его в мир привычных мыслей, в которых он великолепно ориентировался. По желанию Хо-Чана этот освещенный лампой мир мог быть крохотным – от локтя до свитка рукописи – или огромным, до самого неба, когда он устало закрывал глаза и размышления устремлялись куда-то далеко-далеко. Читая пятисотлетнюю рукопись или конструируя новую машину, Хо-Чан всегда находил в этом занятии удивительное чувство покоя. Но даже найденное им верное инженерное решение или философская мысль, способная поспорить с многовековой мудростью, вызывала в нем только кратковременную вспышку радости. И то и другое казалось ему закономерным итогом труда. Хо-Чан верил, что труд, как вода, способен разрушить горы и создать на их месте дворцы, а главное, подарить человеку ощущение спокойной гармонии. Мысль перетекала в труд, а труд – в новую мысль… Теперь же, на ночной дороге, даже облегчающая мысль о пайцзе, едва взгляд Хо-Чана наталкивался на лицо мертвой девушки, вдруг бледнела, привычный круг размышлений рвался и обнажал пугающую темноту вокруг. Темнота была реальной, она веяла обычным ночным холодом, пахла мокрой землей и в отличие от желтого круга, длиной от локтя до свитка рукописи, была вне власти Хо-Чана…
Китайский мастер все больше страдал от тяжести своей ноши. Его дыхание постепенно становилось прерывистым и шумным. Голова постепенно освобождалась от мыслей (что от них толку, если они не облегчают ношу?!) и только где-то там, совсем глубоко, и не в голове, а под сердцем, Хо-Чана беспокоила неясная догадка, что он забыл что-то очень важное.
Кое-как пробравшись едва ли не через стену из низких, бедных юрт, Хо-Чан, наконец, увидел огромное, вытоптанное лошадьми поле.
«Шагов бы тридцать еще, – простонал про себя мастер. – Если увидят, что хороню мертвую слишком близко к лагерю, и пайцза не поможет. Кто ее в темноте рассматривать будет?»
Хо-Чан успел насчитать двадцать один шаг, как вдруг его окликнули сзади. Он вздрогнул и обернулся – его догоняли пять или шесть монголов. Свет луны освещал не их лица, а только кончики носов и одинаковые выпуклости щек под черными глазными впадинами. Хо-Чан почувствовал, что от страха на его лысеющей голове зашевелились волосы.
«Вот что, оказывается, я забыл…» – подумал он.
Среди приближающихся монголов Хо-Чан легко узнал того, на которого жаловался Великому Хану.
Монголы окружили Хо-Чана и сдернули ношу с его плеча. Потом, снова молча, его повалили на землю. Хо-Чан почти не сопротивлялся. Во-первых, он сильно устал, а, во-вторых, любой из его противников был гораздо сильнее его.
– На спину его переверните, – сказал кто-то из монголов.
Хо-Чана послушно перевернули на спину. Он увидел луну, она была мутно-выпуклой и словно плыла в воде.
«Какая тоска!..» – успел подумать Хо-Чан.
Тот же голос, который отдал первый приказ, сказал, куда нужно бить. Хо-Чана ударили кулаком под сердце. Потом еще и еще раз… Били в одно и тоже место, сила ударов была примерно одинаковой, но боль в груди Хо-Чана росла как снежный ком.
«Тоска!..» – снова пронеслось в его голове.
Хо-Чан хотел закрыть глаза, но не смог. При каждом следующем ударе он открывал их и снова видел плывущую в светлой пленке слез луну. Она становилась все темнее, багровела и уходила куда-то за голову мастера…
14
Дядьку Илью, взявшего при постриге в монахи имя Тихомир многие в Козельске, кто старше двадцати лет от роду, знали и под другим именем – Лихарь Трещепа. Трижды жизнь круто ломала дядьку Андрея и валила его с ног.
Первую семью – жену и годовалого малыша – Илья потерял, когда ему не было и двадцати двух лет – на зимний обоз, шедший в Чернигов, налетели половцы. Перед этим Аннушка все просила мужа, отпусти, мол, к матери хоть на недельку, болеет она, может быть, уже и не увижу ее больше. Вот и не увидела… Из всего обоза в живых остался только раненный старик-возница. Половцы словно в насмешку не стали его добивать. Он и рассказал Илье, что увели Анну с ребенком в Дикое Поле.
Так стал Илья Лихарем… Пять лет жену искал. Любой поход в Дикое Поле без него не обходился. Дважды привозили его в Козельск чуть живого, но – Бог миловал – оживал Лихарь и со временем сильно изменился – словно стал выше ростом и шире в плечах. Бывало отрядом в полсотни человек и меньше, без воли князя, уходил он в далеко Степь – и на пять дней пути и на десять. Гуляли страшно!.. Ночью налетали на половецкие становья и если осиливали тех, кто мог держать саблю, то остальных рубили уже без разбора. Назад русских пленных приводили, но мало… Половцы торговали рабами, а если продавали их на Восток или в Византию – поди, отыщи там человека.
Через пять лет, поутих немного Лихарь – снова женился. В Дикое Поле если и ходил, то только по княжеской воле. А старому князю такие опытные воины были нужны больше золота. Через многое прошел Лихарь, и рядом с таким бойцом если выживали юнцы, то быстро превращались в настоящих воинов.
Через год жена Лихаря Милослава двойню родила. Жили хорошо и не бедно. Князь Лихаря жаловал, а тот без дела никогда не сидел.
Еще пять лет прошло, как-то раз пожаловал в Козельск на свадьбу дочери князя рязанский боярин Жирослав. Год назад у Жирослава жена умерла и через пару хмельных, свадебных дней потянуло его на откровенную гульбу. Посадил боярин в сани, запряженные тройкой горячих коней, пару веселых бабенок, возницу и – айда по улицам! Чуть сани замедлят, Жирослав возницу – кулачищем в спину: мол, гони!.. На крутом повороте не справился возница – сбили кони забор возле дома Лихаря и только у крыльца остановились. Милослава на улицу выскочила, глядь, а два ее сыночка – Владислав и Глеб – там, под санями. Не своим голосом взвыла женщина. Достали детей, Владислав – мертвый, а Глеб пару минут подышал и – к Богу отошел. Милослава умом повредилась, все понять не могла, как же, мол, так?!.. Только что были живы ее детишки, под окном снежную крепость лепили и вот – нет их.
Лихарь в то время в отлучке был – князь по делам послал, а вернулся – ни семьи, ни дома. Через день (не усмотрели соседи) сожгла свой дом Милослава и сама в нем сгорела.
Жирослав – сбежал. Откупные деньги за смерть детей и жены Лихаря – князю оставил. Возницу розгами до смерти засекли, и даже тем шалым бабенкам, что с боярином гуляли, немного досталось. Вот и весь суд…
Почернел лицом Лихарь. Какое-то время жил у брата и никто от него ни единого слова не слышал. Андрею тогда лет шесть было и одно ему в память врезалось – широченная, как печь, спина дядьки Ильи-Лихаря, лежащего на лавке лицом к стене. Только раз встретился маленький Андрей глазами с дядькой, и словно холодом окатило его с ног до головы.
Через неделю ушел от брата Лихарь и пропал. Слух был – с половцем Хамчей спутался. Среди половцев тоже разные люди бывают и не так уж редко какой-нибудь младший, но бойкий сын хана сам искал свое счастье, которое его отец полной мерой отвалил не ему, а старшему отпрыску. Сабля, конь да десяток отчаянных воинов – вот и все наследство «младшего хана». На Русь такие отряды совались редко – слишком уж малы были – уходили на земли других дальних родов и племен, там или поступали на службу другому хану, либо грабили и гибли без следа.
Чем Лихарь Хамчу сманил и как удалось ему повести его отряд к Рязани – никто не знал. Слух такой, да, был, но появился он только после того, как Жирослава, по дороге в одну из его деревенек, перехватил неизвестно откуда взявшийся половецкий отряд. Люди говорят, был среди них и Хамча. Короткой и злой получилась сеча, в которой полег весь отряд Жирослава сплошь состоящий из его многочисленной родни. А самого боярина, еще живого, привязали за руки и за ноги к хвостам необъезженных лошадей.
Десять лет о Лихаре не было ни слуха, ни весточки и в каких краях его носило – никто не знал. Правда, кое-кто говаривал, что будто бы видели его то в новгородской рати, то в северской – если новгородские и северские князья враждовали с Рязанью – а то опять с половцем Хамчей.
Вернулся Лихарь в Козельск с юной женой – совсем девчонкой. Говорили, еще крохотной девочкой Ольга в полон попала, жила сначала у половцев, потом – в Византии, там ее Лихарь и нашел. Русский язык она плохо знала, часто путала слова, а когда путала, вдруг улыбалась удивительно светлой и доверчивой улыбкой.
Лихарю в то время уже за сорок лет перевалило. Деньги у него были, поставил новый дом, зажил… Видно было – к своей юной жене всем сердцем привязался, потому и поостыл к своему разудалому житью. Если и улыбался он – только Ольге, если говорил какое-то ласковое слово – опять только ей.
Князь по старой памяти – о Жирославе уже забыли – Лихаря снова к себе позвал. Говорили они долго, а о чем люди только потом догадались – молодых бойцов учить. Всем умел биться Лихарь – мечом, копьем, палицей, топором, ножом и дай ты ему обыкновенную кургузую оглоблю, и та вдруг оказалась бы страшнее меча в его руках.
Через три года родила Ольга Лихарю мальчика, а еще через два унесла их обоих – и жену и сына – злая простуда. Хоронили мать и сына в одном гробу, так Лихарь приказал. Страшен он был в своем горе, так страшен, что слов утешения от людей не услышал – попросту боялись к нему подходить. Старухи шептали, мол, как бы умом Лихарь не тронулся. Не переживал он, а словно пережевывал свое горе кровоточащими, беззубыми деснами сердца, давился им, не в силах принять в себя, а отвергая, видел пустой дом, пустые детские полати и глох от страшной, беззвучной тоски.
Осел Лихарь… Не сам – горе придавило. Теперь кому мстить – Богу, что ли, спрашивается? А где Он?..
На третий день, утром, священник Успенского храма отец Сергий нашел Лихаря спящим прямо у порога церкви. Разметал руки богатырь, уткнулся лицом в землю и вроде как не дышит. У правой руки – потухшая смоляная тряпка на длинной палке.
Позвали людей, подняли Лихаря. Сначала замычал он что-то, оглянулся вокруг удивленно, а потом – глядь – вдруг заплакал как обиженный ребенок. И по седой бороде – слезы величиной с горошину. Люди молчат, а чем ему поможешь?
Только священник ему несколько слов сказал:
– Хочешь – уходи, хочешь – оставайся. Первое – твоя воля, вторая – Божья. Какую хочешь, такую и выполняй.
С тех пор и остался Лихарь при храме. Год прошел, на Пасху – постриг принял и имя Тихомир. Изменился так – не узнаешь. Похудел, поседел еще больше и вроде как меньше ростом стал, потому что в землю смотрел, а не на людей. Жил в домике, что от покойного дьяка остался, тихо, и так мирно, что даже собаки возле его дома не брехали, петух утром и тот кричал только трижды и смолкал сразу же.
Разные слухи о бывшем Лихаре и теперешнем Тихомире ходили. Самый главный, что, мол, в ту ночь, когда он церковь палить пошел, явился ему ангел и показал тот ад, который его ждет. Кое-кто из-за этих слухов шарахался от Тихомира, но сам Тихомир на это внимания не обращал. Любил на свете только одно – детей, а те – его. По вечерам, когда солнце на крепостную стену уходит, собиралось в его хатке (а если тепло – во дворе) по десятку и больше ребятишек, а он им сказки рассказывал. Разные сказки, бывало что и нерусские, какие он в чужих краях слышал. Но больше всех ребятня одну сказку любила – про Жар-Птицу. Мол, жил однажды человек, который мечтал о невиданном никем счастье под названием Жар-Птица. Однажды, в своем саду, увидел он ее, не растерялся и накинул крепкую сеть. Но тут же вспыхнула ярким огнем Жар-Птица и сгорела – один пепел от нее и остался. Растерялся человек… Пошевелил пальцем легкий пепел да и пошел домой. Только он дверь открыл, глядь, сзади него яркий свет. Оглянулся человек – а Жар-Птица опять на ветке сидит. Вот только поймать ее нечем – сгорела сеть. Покачал человек головой, вздохнул и говорит: «Хитра ты, Жар-Птица, ишь как ловко от меня освободилась». Та ему отвечает: «Глупый ты человек!.. Я каждый вечер сгораю и воскресаю из пепла. Если бы я в твоем доме сгорела, сгинул бы ты вместе со мной».
С приходом татар кончились сказки Тихомира, кончилась и мирная жизнь. Хоть и стар, а все равно ходил на стены монах, пока не задела его в плечо злая татарская стрела.
15
…Скрипнула не запертая дверь и Андрей сказал:
– Ну, здравствуй, дядя Илья.
Никак иначе Андрей никогда дядю не называл. А сам Тихомир с этим и не спорил.
– Попить бы… – Андрей оглянулся и увидел ковшик с водой на узком подоконнике. – Свежая?
– Крещеная, – улыбнулся Тихомир. – Увидел – пей.
– Для себя принес?
– Для тебя. Как снег пошел, понял, передышка будет. Зайдешь.
Андрей залпом выпил воду. Повертев ковшик в руке, он поставил его на место.
Тихомир сидел за столом и чинил старую сеть. Лучина давала мало света, старик подслеповато щурился, отчего казалось, что он улыбается своим мыслям.
– Поговорить я пришел, – глухо сказал Андрей, присаживаясь за стол напротив дяди.
– Вижу, – Тихомир кивнул.
– Второго дня… – Андрей запнулся. – В общем… Не знаю, как сказать… Еська Грудной своих детей порезал. Двух мы отбить успели, а остальных… – Андрей замолчал, уткнувшись взглядом в стол. – Не в себе Еська был… Кричит: лучше, мол, я сам, чем над ними татарва измываться будет. Ну, связали мы его… Жена Еськи, Болеслава, в истерике заходится, младший сынишка кровью исходит… Данила велел людей прогнать, чтобы не видели такого. Оно и верно. Днем все это случилось, я смотрю, а у меня в глазах темнеет… – Андрей долго рассматривал стол, а потом спросил: – Как жить, дядя Илья?
Старик отложил сеть и взглянул на потупленное лицо племянника.
– Когда татары в город войдут? – без выражения спросил он.
– Скорее всего, завтра. Данила всех наших утром за ворота поведет – камнеметы рушить и таран жечь, кое-кто на стенах останется…
– Не удержите город?
– Против такой силы – нет, – Андрей поднял глаза. – Времени мало осталось, может быть до завтрашнего утра, но и это время еще прожить нужно. Вот я и хочу тебя спросить, как и где Бог? Еську мы в сарае связанным оставили, он не успокоился и – грудью на косу. Я слышу, в сарае кто-то то ли хрипит, то ли плачет. Дверь приоткрыл, а Еська на коленях стоит и на косу, как жук на иголку, сам себя нанизывает. Кровью исходит, плачет, а на косу грудью давит. Я его трогать не стал… И, может быть, потому что впервые в жизни у меня сердце, как заячий хвост, задрожало.
Старик вздохнул, приподнял сеть и стал рассматривать ее ячейки. Он уже не щурился, а его темные глаза казались застывшими и незрячими, как у слепого. Андрей ждал ответа. Старик молчал.
– Дядя Илья…
– Что? – Тихомир положил сеть на стол, но не взял иглу, а смотрел на нее и думал.
– Давно спросить тебя хотел, вот ты говоришь, Бог… – уголок рта Андрея повела вверх кривая усмешка. – Ладно, я тебя не спрашиваю, где Он и почему все так в жизни происходит. Задавал я уже как-то раз такие вопросы попу Сергию, а он мне в ответ только: «На все воля Божья и никто не ведает промыслов Его». Отойти не успел, гляжу, к нему Бажена, дочка Ивана Смольняка, спешит. У нее трое детей, а мужа еще в начале осады убили. Короче говоря, бабенка вся слезами исходит, и тот же – мой! – вопрос задает: почему все так?.. как жить?! Сергий снова в ответ: «На все воля Божья». Если бы еще кто к нему сунулся, то поп…
– А что он еще сказать-то вам может? – оборвал племянника старик.
– Что, если Бог – един, то и ответ – один? – недобрая усмешка Андрея стала шире. – Завтра татарва моих детей, жену и ее мать резать начнут – и на то Божья воля?
– Нет.
– А чья тогда? – Андрей подался вперед и навалился грудью на стол. – Тебя жизнь трижды на землю валила, все отняла, а Бог где был? К тому же, Он ведь вроде как Троица, но хотя бы один из них тебе помог? Никогда не задумывался, а теперь спрошу: что это за Троица такая, а? И почему именно Троица? У нас зимой дети снежную бабу лепят: внизу большой снежный шар, посередке – меньше, а наверху, с морковкой и угольками вместо глаз – совсем маленький. И вроде как единым все у детишек получается, а одним словом – снежная баба. С Богом все так же, что ли, или сложнее?..
Тихомир молчал.
– Нет, ты мне объясни! Если я пойму, как Бог устроен, может мне легче станет? Может быть, я тогда пойму, почему Ждане с еще не рожденным малышом завтра умирать придется. Что это за такой Тройной Бог у нас, а?
Лучина на столе замигала, и Тихомир долго и осторожно поправил ее. В свете крохотного пламени задумчивое лицо старика казалось строгим и чистым.
– Я, Андрей, много на своем веку повидал: и людей, и мест, но как устроена Троица не знаю. А скажу тебе так, к примеру, на солнце можно и не смотреть, а понять, где оно – над головой или у горизонта, утро сейчас или вечер – любой человек может. Вот так и с нашей Троицей… Если по-человечески судить, Бог-Отец – как великое море. Ты его не видел, а это море жизнь всей земле дарит, потому что жизнью дышит. Дух Святой – как облака в небе, где прольется дождь – там и благодать. Утром пар над землей или туман видел?.. То и есть жизнь – ее Дух. Ни трава, не пшеница не поднимется, если земля паром исходить не будет, и облака не поплывут. Жизни вода нужна…
Андрей слушал, глядя в сторону и опустив глаза.
– Бог – как вода, значит? Ладно, воду я вижу. А Христос, по-твоему, где?
Старик чуть заметно улыбнулся:
– Ты когда ко мне пришел, воду пил?
– Ну, пил.
– То и есть Христос. Бога только снаружи не бывает. Ведь ты и страдаешь от того, что в тебе Бог есть. А не было бы Его, разве у тебя душа болела?
Андрей вскинул голову.
– А завтра?.. Может быть, ты мне еще сказку о Жар-птице расскажешь, чтобы мне полегчало? Или ты эту сказку только для себя придумал, чтобы забыть всех своих жен и детей, которых потерял?
– А терял ли я их, Андрюша?
Андрей отстранился от Тихомира. Он положил руки на стол, взявшись ими за углы, словно пытался удержать себя и не встать.
– Это как же так? – тихо спросил он.
– А так… Я же своих как любил, так и люблю. А тогда чего лишил меня Господь? Того, что их рядом нет?.. Но тогда почему они во мне жить продолжают?
– Временный рай в своей душе устроил, что ли? – недобро спросил Андрей. – Только кончится этот рай, дядя Илья, завтра на кончике татарской сабли. А как нам всем принять другой рай, небесный, после такого ада на земле, что нас завтра ждет?
– А есть ли он, этот рай на земле или небе, Андрей? Он ведь, если и есть, то, поди, забором обнесен. Вот только люди – как дети, все равно через него перелезут.
– Тогда во что же ты веришь, если не в рай? И что человеку нужно, если ему даже райский забор мешает?
– Бог нужен, Андрюша, а не забор. Если ты к огню руку протянешь, что будет? Обожжешься. А если к Богу – свою душу? Обожжешься или обожишься?.. Кто-то об этом не думает, кто-то – боится думать до времени, но если у бочки дно вышибить, куда вода потечет? На землю, потому что в земле рождена, а потом – Бог даст – она снова дождем на землю прольется. Уже и капли, и люди другими будут, но суть-то в них одна – Божья…
Андрей молчал, глядя на снова замигавшую лучину. Он сжал челюсти так, что было слышно, как скрипнули зубы. Рука потянулась ко лбу и стиснула его изо всей силы.
– Слова это только, дядя Илья… Слова!
– Мои – да. Но и Бог – Слово.
Андрей тяжело оторвал руку ото лба, протянул ее и счистил ногтем с лучины слой пепла. Она тут же радостно вспыхнула, освещая избу до самого темного угла. Пламя казалось удивительно чистым и светлым.
– Прорвется завтра татарва через наши стены и никому жизнь больше раем не покажется, – глухо сказал он.
Племянник потер лицо рукой, сгоняя с него остатки усмешки. Его взгляд вдруг подобрел, когда он взглянул на старика.
«Постарел он сильно за последнее время, – подумал Андрей о дядьке. – Жизнь прожил, а счастья не нашел… Вот и придумывает сказки».
…Андрей вернулся домой только поздно ночью. Ждана не спала, и, привстав на локте, с надеждой и болью смотрела на мужа.
– Что там, Андрюша? – спросила она.
– Все тихо… Я полежу немного, чуть светать начнет – растолкаешь.
– Разденешься? Я помогу… – Ждана быстро встала.
– Только кольчугу снять да сапоги… И смотри, не проспи.
Андрей лег рядом с женой, она прильнула к нему всем телом, и он почувствовал теплоту ее тела. В бок мягко давил большой живот Жданы. У Андрея сжалось сердце и как игла укололо острое чувство тоски. Тоска была серой и беспросветной, как болотный, больной туман.
– Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, – услышал он шепот Жданы. Он был совсем рядом, и Андрей ощущал теплое дыхание женщины. – Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас…
Слушая голос жены, Андрей немного успокоился, тоска отшатнулась и он подумал: «А может быть, прав дядя Илья? Если Бога нет, что тогда есть?.. Только татарва и смерть? Правда, про рай я с дядькой не соглашусь. Крепкий забор должен быть у рая, чтобы его ни черти, ни татарва не прорвала…»
Пришел сон. Уже сквозь его легкую пелену пробилась еще одна мысль: «Скоро уже…»
16
Бату проснулся еще до рассвета. В дымоходе было видно темно-серое, без звезд, небо. В юрте никого не было, и только огонек лампадки в углу освещал ворох одежды похожей на сжатое, темное лицо.
Великий Хан не стал никого звать. Он зажег несколько светильников от лампадки и оделся сам. Кряхтя и часто поводя плечами, (доспехи легли не очень ловко) он долго расхаживал по юрте, ища старые и удобные сапоги. Иногда Великий Хан что-то бормотал про себя, но еще ленивая, утренняя мысль тут же ускользал от него. Ругая слуг, Бату заставил себя злиться, и мысль постепенно окрепла. Она пошла дальше, к тому, что предстояло сделать сегодня. В теле постепенно прибавилось силы, а в голове ясности.
«Последний дни здесь, – подумал он. – В Степь пора… Там дел много. Не только Кадан и Бури волками на меня смотрят».
Мысль вдруг снова обрывалась и вернулась к необходимости найти куда-то пропавшие сапоги. Бату сел и оглянулся вокруг.
«Отдать бы «волкам» эти сапоги, пусть их рвут себе на забаву», – подумал он и через силу улыбнулся.
Великий Хан уже давно заметил, что на утро после буйного пира у него, как правило, резко падает настроение, подступает раздражительность, и именно поэтому он не позвал никого из слуг. Какая-то странная, тягучая и мягкая мука словно сжимала его сердце, беспокоила разум и не давала покоя. Она становилась сильнее, если захмелевшему хану снился сон о последней охоте с отцом, а это случалось не так уж редко. Давно исчезнувший мир манил его к себе, как бездонная пропасть; отталкивал, как покрытая пылью, сломанная детская игрушка и в тоже время был чем-то неуловимо похож на нежную руку матери. Одиночество уменьшало страдания Бату. По крайней мере, не нужно было соблюдать церемониал одевания и бестолковую суету слуг вокруг себя, никто не прикасался к нему бесконечное количество раз, поправляя что-то, и никто не шептал на ухо торопливые новости и не проверенные слухи…
Бату взглянул на свои босые ноги и пошевелил пальцами. Он вдруг подумал, что сейчас неплохо было бы и в самом деле отправиться на утиную охоту и подышать речным, чистым и влажным воздухом. Застоявшийся запах в юрте сочетал в себе и грубый дух военного лагеря, и китайские благовония, и ароматы женской одежды. Каждый из бесчисленных визитеров и гостей хана приносил свой запах, усиливая мешанину и делая ее еще более неприятной.
«А на озере сейчас хорошо, наверное…», – растерянно улыбнулся Бату, продолжая рассматривать свои ноги.
Он вдруг подумал о том, что отец убил одного лебедя, а второй, с простреленным крылом, ушел.
«Не мог он уйти! – оборвал себя Бату. – Сдох в камышах и не думай об этом. Идти пора…»
Если утром Бату собирался один, все знали, что Великий Хан появится на пороге своей юрты неожиданно, и будет выглядеть очень грозно. Бату начинал говорить сразу и это были жесткие приказы, поднимающие с места десятки тысяч человек. Одно слово Великого Хана переставляло с места на место многотысячные тумены и как ветер, поднимала отдельные отряды конницы. Жизнь в лагере начиналось со слова Великого Хана и, когда он этого хотел, замирала по тому же слову.
Бату поднял глаза и прислушался. За дверью уже раздавался тихий шепот и лязг оружия.
«Ждут…»
– Нохой! – громко позвал Бату.
Полог приподнялся, и в щель просунулось широкое лицо.
– Сапоги мои найди, – недовольно буркнул Великий Хан.
Воин нашел сапоги почти сразу – они валялись в углу и были прикрыты клочком женской одежды. Воин помог Бату одеть сапоги. Через пару минут процесс одевания великого Хана был завершен.
– Иди! – Батый кивнул Нохою на дверь.
Тот метнулся к двери с проворностью собаки (Нохой (монг.) – собака).
Хан посидел еще немного, окончательно собираясь с мыслями. За дверью уже не было слышно ни шепота, ни шороха.
Великий Хан встал. Снова на миг промелькнула было мысль об утиной охоте, свежем воздухе пропитанном озерной сыростью, но тут же погасла, как фитиль утопленный в плошке с маслом.
Великий Хан рванул полог юрты, сделал один шаг и остановился. Все были в сборе – Кадан, Бури, старший сын Субудай-богатура Октай, и командиры туменов. Взгляд Батыя остановился на шамане Нэргуе. Иначе его называли «вестником смерти» и он никогда не приходил просто так, особенно перед началом битвы.
– Что? – коротко спросил его Бату.
Нэргуэ молча поклонился. Уже выпрямляясь, он оглянулся на людей, неподвижно стоящих перед Великим Ханом. Те попятились, и Бату увидел на земле тело Хо-Чана. Почерневшее лицо китайца было искажено так, словно умирая, он думал о чем-то тоскливом и неприятном.
Бату подошел поближе. Он поднял серебряную пайцзу, которую кто-то положил на грудь Хо-Чана. Пайцза была уже без веревочки, на которой ее носил китаец.
– У Хо-Чана разорвалось больное сердце, – пояснил Батыю Нэргуе. – Китаец нес большую тяжесть, и его сердце не выдержало.
Шаман что-то тихо сказал на ухо своему помощнику. Тот присел возле мертвого и грубо, с треском, рванул синюю рубаху китайского мастера, заголяя ему грудь. На левой стороне тела все увидели огромный синяк.
– Так бывает всегда, когда лопается сердце, – сказал Нэргуе.
«А как же ты раньше этот синяк увидел, когда на покойнике была рубаха?» – подумал Бату.
Он нахмурился и молча, нарочито медленно, оглядел лица собравшихся. Все один за другим опускали головы. Бату задержал взгляд на лице Кадана. Тот почувствовал это, и Бату увидел, как заходили желваки на его широких, порозовевших щеках.
– Кто будет наводить катапульты на стены города вместо Хо-Чана и ремонтировать их? – без выражения спросил Бату.
Откуда-то сбоку, из-за спины командира тумена кара-китаев, шагнул маленький человек в длинной до пят, синей рубахе. Он сделал только один шаг и тут же опустился на колени.
– Я Лю-Чо, помощник Хо-Чана, великий Хан… – совсем тихо начал он.
– Говори громче, – брезгливо оборвал его Бату.
Китаец растерялся. Его взгляд вдруг стал жалким, он затравлено оглянулся назад. На него никто не смотрел. Закрыв глаза, китаец в ужасе прокричал:






