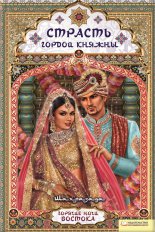Антропология повседневности Губогло Михаил
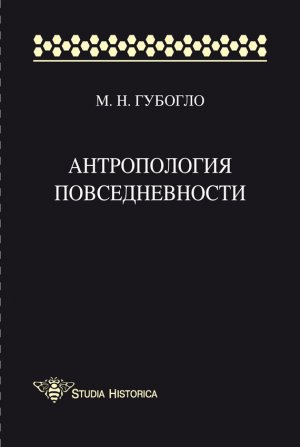
© Губогло М. Н., 2013
© Языки славянской культуры, 2013
Роберт Рождественский
- Ищут люди опору в том.
- Что было давно.
- Там, где проблемы мельче
- (если бы так всегда).
- Там, где машин – поменьше,
- Где подлинней – года.
- Там, где они не мелькают,
- Там, где светло и тепло…
- Прошлое успокаивает
- Тем, что оно прошло.
Историк не тот, кто знает.
Историк тот, кто ищет.
Люсен Февр.Бои за историю. М., 1991. С. 507
Предисловие
Академик В. А. Тишкое
К 75-летию М. Н. Губогло
На перекрестках ряда наук – истории, психологии, этнологии и филологии формируется новое междисциплинарное направление, в известной мере оппонирующее классическим наукам и номинирующее себя словами своих адептов то «антропологизацией авторства», то «лирической историографией», то «исповедальным стилем», то «сам себе этнолог». Суть этого новомодного течения состоит в смещении исследовательского фокуса с описания исторических и социологических фактов, событий, организаций и структур на анализ поведения конкретного человека и восприятия им самого себя в связи с исполнением функциональной роли.
М. Н. Губогло предлагает обратный ход: от описания конкретных поведений конкретных лиц и известных личностей к поискам смыслов их повседневной жизни во времена смены исторических этапов советской и российской истории. Он – свидетель поствоенного времени, когда страна в муках позднего сталинизма с трудом поднималась с колен, питаясь скорее духом победы и патриотизма, чем нарастающими мизерными шагами по обеспечению материальных благ. Его студенческие и аспирантские годы пришлись на хрущевскую оттепель, на истоки и на «расцвет» брежневского застоя. В пору академического периода жизни ему было дано вместе с Ю. В. Арутюняном, Л. М. Дробижевой стать одним из основоположников конкретно-социологических исследований повседневной жизни, культуры и быта народов, исследований, ставших основой этносоциологии как нового научного направления.
Очерки, помещенные в его новой книге «Антропология повседневности», свидетельствуют не об отречении от опыта и наработанных методов этносоциологии, а о продолжении ее новаторских традиций.
Здесь представляется уместным обратить внимание на тот факт, что важным фактором возникновения и развития этносоциологии как науки, связавшей этническое с социальным и социальное с этническим, выступило стремление науки и власти к достижению взаимного доверия. Это стремление было основано на том. что в 1960–1970-е гг. стареющая и морально хиреющая политическая и административная власть нуждалась в доброкачественной экспертизе состояния дел в сфере межэтнических отношений. Власть нуждалась в рекомендации по оптимизации этой сферы и в регулировании этногосударственных отношений на научной основе. Она чувствовала или знала, но опасалась обнародовать, что доктрина советской национальной политики дает сбой. Особенно в части таких ее аспектов, как в продолжении политики аффирмативных действий, в курсе на тотальное сближение наций, в политике выравнивания уровней экономического и социального развития народов, уровней жизни городского и сельского населения, умственного и физического труда. К концу 1990-х гг. о нелепостях, имеющих место в сфере межнациональных отношений, заговорила не только научная, но и художественная литература. О многом, в частности, говорит пассаж, приведенный в романе «Ложится мгла на старые ступени», публикация первых глав которой началась во второй половине 1990-х гг., в т. ч. в журнале «Знамя». Граждане Советского Союза, воспитываемые в духе интернационализма, понимали, что политика помощи «отсталым в прошлом народам», именуемая на Западе политикой аффирмативных акций, оказалась на практике несостоятельной. Она приводила к ускоренному росту социальных претензий и формировала негативные установки, в частности, к представителям титульных национальностей, которым предоставлялись какие-либо льготы в ущерб другим народам.
В классе был интернационализм, – вспоминает свои школьные 1940-е годы А. П. Чудаков, автор вышеназванного романа, – правда, представителей всех наций, кроме немцев, было по одному: кореец, каракалпак, эстонец, полька и даже китаец… – и далее следует убийственная фраза, обличающая суть такой национальной политики, когда приоритеты представителям одной нации создавались за счет каких-либо других. – Казашка также была одна – Джабагина, ей потом по рекомендации райкома дали серебряную медаль [Чудаков 2013: 276].
Академик Ю. А. Поляков, объездивший среднеазиатские республики вдоль и поперек, имел основание сделать вывод о том, что «выращенная при самом активном участии преподавателей и ученых России республиканская интеллигенция стала главной носительницей националистических, сепаратистских тенденций» [Поляков 2011: 363].
Понятно, что наука и образование в таких условиях нуждались в освобождении от идеологических пут, которые тяжелыми гирями мешали ее двигаться дальше, в стремлении не отставать от уровня мировых тенденций. В изначальных исследовательских проектах, разработанных Ю. В. Арутюняном, О. И. Шкаратаном, Л. М. Дробижевой, В. В. Пименовым и другими сотрудниками Института этнографии АН СССР, немедленно обнаружилась проблема доверия, имеющая многие смыслы, как в накоплении информации, адекватно отображающей реальные межэтнические и межязыковые ситуации, так и значения, придаваемые этническим явлениям неэтническими факторами.
Вместе с тем, главы и очерки книги М. Н. Губогло ориентированы не столько на воспроизведение «абсолютной объективности», сколько на достижение эффекта реальности, или, как сказал И. В. Нарский, солидаризируясь с Н. Н. Козловой, на достижение эффекта реальности, наглядности и даже ощутимости «ощущения подлинности воскрешенного прошлого» [Козлова 2005: 18; Нарский].
Вместо наполнения истории, прошлой и современной повседневной жизни тем или иным политическим, научным и художественным смыслом в соответствии с характерным для этносоциологии стремлением к отражению «объективной реальности», на передний план выступает раскрытие значимости интеллектуальных смыслов или событийной интриги. Через откровенное и искреннее самопознание авторской позиции и авторского образа жизни («исповедальная автоэтнография») прокладывается тропа к пониманию содержания и сути того или иного этапа истории в жизни окружающей среды и страны [Губогло 2008а: 76–87; 2012: 174–191].
Гарантией от прегрешений субъективного восприятия себя и стратегии поведения своих «антропологических» героев, в подходе, избранном М. Н. Губогло, служит его профессиональный долг и опыт этносоциолога-эмпирика, привыкшего ходить «по земле» и иметь дело с конкретными документами, данными ведомственной статистики, информацией об исторических событиях и нарративными текстами. Опора на личные воспоминания представляет собой не бунт этносоциолога, а пополнение арсенала новой науки дополнительными возможностями, не опровержение, а подтверждение этносоциологии, как части антропологии и ее потенциальных возможностей в деле осмысления истории и современной повседневной жизни.
Для того чтобы играть на скрипке, надо, во-первых, обладать музыкальным слухом, во-вторых, владеть определенными навыками, в-третьих, иметь знания и способности, и, наконец, в-четвертых, надо быть в настроении играть. Для того чтобы вспоминать свои детские и юношеские, студенческие и аспирантские времена и их культурные берега, извлекать из небытия события, личности и факты, раскрывать смыслы и значения увиденного и прочувствованного, надо иметь цепкую память, наработанные навыки этнографического описания, приемы этносоциологического толкования смыслов и способности доходчивого изложения. И, наконец, надо иметь настроение и социальную ответственность в создании правдивой картины прошлой повседневной жизни.
Настроение – дело наживное. М. Н. Губогло умеет настраивать себя на позитив. Иначе зачем воспоминания, как диалог с самим собой?
Обращение к автобиографии как к источнику и жанру этнологического исследования в известной мере корреспондирует с биографиями ученых, написанными их учениками, поклонниками, коллегами по цеху, по поводу тех или иных юбилейных дат. Могу напомнить получившую общественный резонанс серию «Портреты историков. Время и судьбы» [Портреты историков 2000–2010]. И хотя представленные в томах этой серии очерки не являются каноническими биографическими или аналитическими эссе, в них освещаются исследовательская практика и итоги по известным проблемам истории и культуры, в том числе по истории повседневной жизни народов России и других стран мира. В связи с актуализированной в последнее время тематикой, посвященной повседневности, особый интерес вызывает, например, творческое наследие замечательного русского историка второй половины XIX в. Ивана Егоровича Забелина [Портреты историков 2000–2010, 1: 65–77].
Попытки некоторых современных исследователей представить предметную область повседневности, как исключительно новомодное направление, пришедшее на рубеже XX–XXI вв. в Россию извне, представляются неубедительными в свете трудов И. Е. Забелина, неоднократно изданных во второй половине XIX в. [Забелин 1862–1869; 1872; 1895; 1915; 1918] и, к сожалению, оказавшихся неупомянутыми в фундаментальном историографическом обзоре «Истории русской этнографии» классика советской этнографии С. А. Токарева (см. «Указатель имен» в [Токарев 1966: 443]).
Отечественная этнология дореволюционного периода, в том числе в деле изучения повседневной жизни народов, развивалась в рамках общемирового процесса наравне или в опережающем режиме по сравнению с ведущими этнологическими и антропологическими школами Европы и США. Некоторые важные вопросы повседневности нашли освещение в трудах этнологов, что нашло отражение в ряде очерков серии «Портреты историков», в том числе о творчестве Ю. В. Бромлея, М. М. Ковалевского, С. А. Токарева, С. П. Толстого [Портреты историков 2000–2010, 4: 53–70, 257–281, 446–261, 462–484].
Хорошо, когда создание текста и текстов – это не только изнурительный будничный труд, но и праздник души, адекватное вдохновение для творчества. В противном случае вряд ли можно было бы ожидать от М. Н. Губогло написание около двух десятков книг. Вряд ли можно было бы ему осилить крупномасштабный проект «Национальные движения в СССР и постсоветском пространстве», состоящий из изданных 130 томов с аннотациями и комментариями документов эпохи развала Советского Союза на рубеже веков. Вряд ли в новое постсоветское время можно было бы вместе с коллегами создать 12-томную этнополитическую историю Удмуртии и 10-томную серию сборников «Курсом развивающейся Молдовы», не имея для этого достаточных материальных средств и полагаясь, главным образом, на энтузиазм и на обретенную свободу творчества.
Важнейшей заповедью профессионального антрополога является попытка нащупать с изучаемыми людьми общую почву.
Мы… говорим о некоторых людях – повторял за Витгенштейном К. Гирц, – что мы их видим насквозь. На этот счет важно, однако, заметить, что один человек может быть полнейшей загадкой для другого. Мы удостоверяемся в этом, когда попадаем в чужую страну с совершенно чуждыми нам традициями; более того, нас не спасает даже знание языка этой страны. Мы не понимаем людей (и вовсе не потому, что не слышим, что они друг другу говорят). Мы не можем нащупать с ними общую почву [Гирц: 20].
В поисках общей почвы, что составляет суть этнологического исследования, антропологи не стремятся, как считает К. Гирц, «ни превращаться в natives, местных жителей, ни подражать им» [Гирц: 21].
М. Н. Губогло в его новой книге не надо ни «превращаться» в тех современников или в тех личностей, о ком он пишет, ни «подражать» им. Восстанавливая дух, атмосферу и настроение прошлого, он сам является одним из них, и у него с большинством из его героев имеется общая почва. Инкорпорирование героев в контекст времени и ткань повседневности позволяет приподнимать завесу эпохи и пелену прошлого, подобно тому, как реставраторы за каждым слоем «черной доски» раскрывают на старой иконе лики и блики прошлого.
Предпринятое автором «путешествие в детство» в первой части его книги не навеяно его ностальгическим желанием реанимировать его изначальную этническую или раннюю социальную идентичность. Его воспоминания о поствоенном периоде продиктованы профессиональным интересом, что в конечном счете позволяет добавить новые краски к тому периоду советской истории, противоречивость которого до сих пор остается за пределами предметной области исторического знания [Тишков 2013: 291].
«Путешествие в прошлое» продолжается в двух других частях книги. Вспоминая своих друзей и коллег и рефлексируя по поводу их творческого наследия, М. Н. Губогло раскрывает мощную энергетическую силу мотивированности молодежи 1970–1980-х гг. социализацией и адаптацией к внешней среде и вызовам времени. При этом красной нитью через ряд очерков проходит освещение и характеристика великой роли русской культуры в деле социализации молодых поколений и в деле становления литератур и культур младописьменных и бесписьменных в прошлом народов.
Чем объяснить появление необычной книги? В основе новейших течений с обостренным вниманием к авторским мотивам и интенциям лежит возникшая в постсоветский период неудовлетворенность концептуальным арсеналом и методическим инструментарием классической исторической науки. Она по инерции в ряде случаев обращается к безымянным массам, социальным слоям, структурам, к немым статистам «великой истории», общественно-экономическим формациям, в ущерб исследованиям «маленьких людей» и безымянных героев. Между тем впечатляют новые инициативы и исследовательские проекты, посвященные этнической истории народов, происхождению и развитию условий жизнедеятельности и жизнеобеспечения человека, его ментальности, стратегий поведения и их толкований.
Вместе с тем, предлагая и инициируя новые повороты в исторической науке второй половины XX в., радикально настроенные неофиты адресовали неоправданные упреки историкам и, понятное дело, рикошетом к этнологам, обвиняя их в тривиальном пересказе данных, извлеченных из источников, без стремления распутывать узлы истории, разгадывать мотивы и локомотивы, двигающие целеполаганием и целедостижением людей. Нет сомнения, что интерес к судьбам отдельных людей значительно расширяет горизонты гуманитарного знания, в том числе путем исторических и этнополитических исследований [Горизонты… 2008].
В очерках М. Н. Губогло видное место наряду с фактами и событиями депортированного времени, совпавшего с его школьными годами, занимают социально-художественные образы, воссозданные памятью и воображением. Одним из таких образов выступает мост через реку Миасс. На берегах этой тихой речки, круто, во весь горизонт, разливающейся в пору весеннего половодья, прошло его детство и первые годы социализации и вступления во взрослую жизнь. Поэтому он умеет запрягать лошадь, сажать, полоть и копать картошку, лепить пельмени, жарить семечки конопли, кормить поросят, пасти овец и поить корову, косить траву и колоть дрова.
К символике, семантике и многозначным смыслам Каргапольского моста он прибегает неоднократно в ряде очерков, в том числе в длившейся 40 лет дружбе и переписке с любимой учительницей Ульяной Илларионовной Постоваловой. В реальности мост, соединяющий районный центр Каргаполье на левом берегу Миасса с вереницей сел на правом берегу, представлял собой деревянную конструкцию с примыкающими ледоколами (быками), как летящий в небо шедевр архитектурной мысли. По местным преданиям, этот мост был построен белогвардейцами в 1918 г и был разрушен накануне развала Советского Союза. В воспоминаниях М. Н. Губогло Каргапольский мост – это космическая точка на евразийском пространстве, соединяющая прошлое и настоящее, домашний очаг и дороги, поэтику духовности и прозу картофельного поля, радость встреч и горечь расставания. Мост – это магнит, сильно притягивающий к себе молодежь и стариков, притягивающий сильнее, чем сельский клуб, чем стадион или спортивный зал. Мост, определяющий дистанцию между своим и чужим, между малой родиной и внешним миром, между региональной и гражданской идентичностью, помогающий порой выяснить подростковые отношения между обитателями правого и левого берега Миасса. Мост, подобно Великому Шелковому пути, соединяющий мир Запада и Востока. Мост, вобравший в себя этапы социализации и обретения смыслов жизни, в то же время наделен символом и безысходности, и надежды, и выдает в М. Н. Губогло скорее оптимального оптимиста, чем опального пессимиста и адепта отчаяния [Губогло 2008а].
Саморефлексия профессионалов, обратившихся к своим воспоминаниям в проектах автоэтнографии, приобретает не только особую привлекательность, но и источниковедческую ценность.
Обращаясь к изучению своей собственной профессиональной среды, – как поясняла свою мысль российская исследовательница Т. Б. Щепаньская, – мы получаем возможность протестировать этнографические методы, обычно применяемые для изучения символически отдаленных традиций, на материале, максимально знакомом и близком для большинства коллег. Это позволяет этнографу, как исследователю и одновременно носителю описываемой традиции, наглядно проследить трансформации материала, которые происходят в результате его полевой фиксации и последующей текстуализации [Щепаньская 2003а: т. IV, № 2: 166].
В разделах второй части, посвященных выдающимся личностям, в том числе обучавшимся и работавшим в Институте этнографии АН СССР, друзьям и коллегам по МГУ, раскрывается их вклад в осмысление повседневности, а также отдельных этносоциальных процессов и идей или научных направлений. Выбор героев для своих очерков и россыпи жадных воспоминаний далеко не случаен. С каждым из них связана та или иная этническая концепция, теория адаптации или парадигма формирования идентичности или структуры повседневности и образа жизни.
Проникновению в духовный мир основоположника гагаузской художественной литературы Д. И. Кара Чобана и С. С. Курогло способствуют переводы их стихотворений и осмысление внутренних мотивов их творчества. Впервые в молдавском литературоведении раскрываются истоки творчества гагаузских поэтов, вдохновленных знаменитыми произведениями российской «деревенской», «фронтовой» и «интеллигентской» литературы, практикой собирательства икон и старины, получившей распространение с легкой руки Владимира Солоухина.
Этнологический анализ произведений указанных поэтов, друзей М. Н. Губогло, позволяет выявить общие тенденции приобщения более чем 200-тысячного двуязычного гагаузского населения, исповедующего православие, к культурному наследию русского народа и других народов к русскому миру. Историческое значение этого вывода заключается в том, что в становлении и жизнеутверждении русского мира наряду с различными вариантами диаспор немаловажную роль сыграло добровольное вхождение некоторых этнических групп, изначально не идентифицирующих себя с русской или российской идентичностью, но выработавших в своей ментальности ориентации на русскую историю и культуру. Исследования состояния языковой ситуации в Республике Молдова, проведенных в ходе реализации ряда научно-исследовательских программ, нашли отражение в ряде коллективных монографий, подготовленных по инициативе и под руководством М. Н. Губогло [Молдаване 2010; Гагаузы 1993; Гагаузы в мире… 2012].
На конкретном эмпирическом материале и на основе личных наблюдений М. Н. Губогло в них показано, что оснований думать о дерусификации гагаузского населения и об усыхании русскоязычия и культурологического тяготения гагаузов к русскому миру и русской культуре нет. Скорее имеет место, о чем с сожалением пишет М. Н. Губогло, ослабление поддержки языковой ситуации в Молдове со стороны России и русского мира в деле сохранения русскоязычия.
Труды двух ближайших друзей – Юрия Борисовича Симченко и Юрия Исраэловича Мкртумяна, наделенных большим талантом этнографов-полевиков, вошли в золотой фонд отечественной и армянской этнологии. Научные и художественные тексты Ю. Б. Симченко стали библиографической редкостью подобно, в свое время, трудам М. А. Булгакова, О. Э. Мандельштама, А. И. Солженицына и других авторов, не сразу получивших выход к широкому читателю.
Советское общество, вопреки имеющему широкое хождение на Западе мнению о железном занавесе, было открытым обществом в том смысле, что социальная и социально-профессиональная карьеры не покупались за деньги, а строились на личной инициативе граждан, в том числе благодаря доступности высшего образования. Рассказывая еще о двух своих друзьях, ставших известными профессорами в элитной среде московских историков – об Александре Степановиче Руде и Сергее Кулешове, М. Н. Губогло вспоминает о восприятии бывшими провинциалами стратегий адаптации в повседневную жизнь Москвы и о самоидентификации в качестве москвичей и граждан Советского Союза.
На протяжении двух постсоветских десятилетий исследования повседневности расширяли предметную область этнологии, имеющей вкус к этой тематике в России еще с середины XIX в. Повседневная жизнь открыта и неисчерпаема. Сохраняя культурное наследие народа и, вступая в диалог с вызовами времени, она увлекает специалистов многих направлений гуманитарного знания. Значительный вклад в ее изучение внесли своими организационными усилиями и исследовательской деятельностью академик РАН, Ю. В. Бромлей, член-корреспондент РАН Р. Г. Кузеев, а также член-корреспондент АН Республики Молдова В. С. Зеленчук. Возвращаемое прошлое и конституированное будущее, – как показывает М. Н. Губогло в очерках о каждом из них, – едва ли не главные тренды, по которым двигалась исследовательская мысль крупномасштабных ученых. Оба направления отражены в их трудах, в том числе в этногенетических сочинениях и в разработке методологических основ этнографии.
Один из ближайших друзей М. Н. Губогло, рано ушедший из жизни В. Н. Шамшуров, талантливый музыкант, один из тех, кто стоял у истоков этносоциологии, участник многолетней советско-вьетнамской этносоциологической экспедиции, заместитель министра по национальной политике – стал героем одного из очерков, включенных в книгу.
В познании повседневности важно не только исследование креативной деятельности человека, но и личности ученого, поэта, художника. Каждый из героев очерков был одержим творчеством и любовью к своему делу, народу и своей земле. Все они любили часто ездить, гореть желанием желаний, уметь много хотеть и добиваться, дружить и помогать. Они могли, не теряя сегодняшний, ценить завтрашний день и прошлые времена, привыкая одновременно к ускоряющимся темпам жизни и сохраняя преданность и любовь к своему делу.
В заключительной части книги в центре внимания М. Н. Губогло – повседневная жизнь, изображаемая в современной живописи Гагаузии.
За сравнительно короткий по историческим меркам срок новоявленная живопись уверенно шагнула на сцену высокого изобразительного искусства, опираясь на ценности традиционной культуры гагаузского народа и на мощные художественные корни русского, европейских и других народов евразийского пространства.
Векторы становления и вызревания изобразительного искусства Гагаузии основаны на изображении и осмыслении повседневности. Возникновение и развитие совпали по фазе с частью этнополитической жизни гагаузского народа. Тем не менее отраженная в ней проблематика связана скорее с изображением повседневной, чем политической жизни. Основная тематика связана с бытовой экологией, с запечатленными временами года и суток, воспеванием красоты родного края и основ традиционной культуры. Ее историческая миссия состоит в укреплении самосознания, этнической и гражданской идентичности.
Раскрытие образов Времени через автобиографию и биографии своих коллег и друзей представляет собой новый, относительно малоизвестный в этнологии прием с целью изучения акторов этнической истории и социальной жизни. В текстах о поствоенном и постсоветском времени, а также о временах оттепели и застоя, научный анализ сочетается с художественно выраженными стилистическими кусками. Такой подход напоминает подготовку обычной научной монографии или романа в виде отдельных самостоятельных рассказов или очерков с автономными ссылками и автономным научным аппаратом. Однако, в отличие от романа, в предлагаемых текстах о времени и замечательных представителях эпохи нет места для вымысла. В них речь идет только о фактах, событиях и действиях в потоке реальной действительности.
В заключение надо отметить новаторский характер источниковой базы, на которой основана книга М. Н. Губогло. наряду с автобиографическими очерками, в ней представлены произведения художественной литературы и живописи, в том числе такой малоизвестный источник, как дарственные надписи на книгах, подаренных известному молдавскому этнографу, поэту и общественному деятелю – С. С. Курогло.
Всем известно, М. Н. Губогло – неисправимый романтик. Поэтому его воспоминания основаны на противопоставлении двух миров – возвышенного и низменного. Однако подготовленные тексты его новой книги данной антитезой не исчерпываются. Ему, познавшему путь в лихолетье депортационного режима, присуща острая социальная чувствительность, скрытая до поры до времени под жестким идеологическим прессом и деликатно проявляемая в современном деидеологизированном обществе. В годы становления этносоциологии как нового научного направления он был скорее очевидцем и регистратором процессов и событий, чем радикальным критиком и хулителем времени. Он не обижен на мир, он радуется жизни.
Введение
Нам надоело быть не нами.
Велимир Хлебников
Замысел трилогии «Смыслы повседневности», включенной в данное издание, возник из позднего вопроса о том, как соотносятся между собой концептуальные решения одного и того же по сути явления реальности. Аспекты и грани повседневной жизни можно отображать многими путями: социологическим измерением в научных исследованиях, поэтическими образами в литературе, живописными произведениями в изобразительном искусстве. Всех возможных подходов, пожалуй, и не счесть… Я ограничился трехмерным видением. В основу первой книги были положены главным образом личные воспоминания и литературные источники о поствоенной повседневности на примере сопоставления реалий домашнего очага и школьной социализации во времена на рубеже 1940–1950-х гг.
Несмотря на то что время на рубеже 1940–1950-х гг. наполнено сложными и противоречивыми социально-экономическими процессами, ход которых во многом определил последовавшую хрущевскую оттепель и брежневский застой, и далее в какой-то мере повлиял на развал Советского Союза, до сих пор остается относительно малоизученным периодом советской истории второй половины XX в. Однако «это время заслуживает своего анализа, в том числе и с точки зрения процессов в сфере общественного сознания». Выдвигая эту задачу В. А. Тишков имеет «в виду в данном случае верхушечную идеологию, которая в тоталитарном обществе того времени была важна для формирования устремлений и настроения людей, их ценностных ориентиров» [Тишков 2013: 291].
Названная тема, безусловно, может занять видное место в предметной области этнологии и антропологии повседневности, так как в послевоенном периоде, во-первых, не утихла боль от жертв, принесенных народами на алтарь победы, во-вторых, не исчезла коллективная травма, полученная некоторыми народами в результате насильственных депортаций, в-третьих, вопреки тому, что тяготы и лишения военного времени носили всеобщий характер, среди граждан страны зрела надежда на улучшение жизни, в том числе условий повседневности.
В центре внимания второй книги трилогии – отображение реалий повседневной жизни в процессе становления новой профессиональной поэзии на примере творчества гагаузских поэтов Д. Н. Кара Чобана и С. С. Курогло. Становление гагаузской поэзии знаменательно тем, что изображение повседневности в ней совпало по фазе с исключительно важным взлетом русской и литературы народов СССР в 1960–1980-е гг. на примере произведений, тематически посвященных деревенской и городской жизни и фронтовым будням. Великая русская литература второй половины XX в. вошла в золотой фонд культурного наследия Советского Союза и России и одновременно стала социокультурной основой зарождения и взросления молодой по историческим меркам гагаузской поэзии и прозы.
В третьей книге «Повседневная жизнь в зеркале живописи» раскрывалась синхронность становления профессиональной гагаузской живописи, встающей на ноги вместе с этнополитическим движением гагаузского народа к самообретению, самоопределению и самодостаточности.
Таким образом объект, предмет и проблематика исследовательского интереса в каждой из трех книг, как и в данном издании, представлена единой темой: повседневной жизнью двуязычного (гагаузско-русского) народа, исповедующего православие. В широком смысле в лоне этой темы включены два крупных, взаимосвязанных сюжета, один из которых посвящен «Грамматике жизни», выраженной в ментальности народа, в нормах и принципах традиционной культуры, в таких, например, как обряды, институт общественного мнения и пантеон культов.
Всеохватность и безбрежность темы ограничивается проблемами гостеприимства, как индикатора коллективизма и доверительности, без которых нет ни полноценного социального капитала, ни оптимального существования социума, в том числе социума в форме этнической общности в составе многоэтничного сообщества.
Все разделы книги, связанные единой предметной областью, можно читать как вместе, т. е. последовательно одну за другой, так и в автономном режиме. Более того, в сюжетах, идеях, мотивах творчества отдельных поэтов или художников нетрудно разглядеть как общие, так и индивидуальные особенности отображения практик повседневности в произведениях профессионального искусства.
В книгах почти нет этносоциологических сведений о том, как читатели и зрители воспринимают произведения своих кумиров и каковы сами кумиры в повседневной жизни. Однако, смею думать, что о самих поэтах и писателях можно судить по их произведениям. Так, например, некоторые читатели и зрители больше любили знаменитость того или другого поэта, чем самих поэтов. Один из них слыл чудаковатым, не от мира сего, другой – недосягаемым из-за своей учености и многогранного таланта. Люди воспринимали их творчество, как будто читали партитуру, но не слышали музыку. Другие, наоборот, наслаждались ритмами и рифмами, не вникая в грамматику норм и правил и в глубину мыслей. И то и другое приходит со временем. Надо, чтобы это время скорее наступило.
В повседневной жизни так много труда, красоты, а порой и горечи, что разные люди по-разному видят небо и Бога, солнце и любовь. Словом, тема повседневности неисчерпаема, как неисчерпаем мир.
На одном из заседаний Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН повис в воздухе концептуальный вопрос, заданный докладчику: «Что такое повседневная жизнь, и как она соотносится с образом жизни?»
Новая отрасль междисциплинарных исследований, шумно номинированная в истекшее десятилетие как новейшее изучение «повседневности» или «истории повседневности», на заре нового тысячелетия становится важным направлением в системе гуманитарного знания [Пушкарева 2004; 2010; Орлов 2010; Фицпатрик 2001; Лебина 1999; Моисеева 2008; Зарубина 2011; Касавин, Щавелев 2004]. Между тем оказывается, что в бесконечном потоке публикаций, посвященных повседневности, трудно найти аналитически взвешенное определение ее дефиниции, позволяющей соотнести основные сферы повседневности с проблематикой и со сферами образа жизни. Не предаваясь утомительным выборкам цитат, раскрывающих смысловое содержание каждого феномена, ограничимся рабочей схемой № 1. В ней заштрихована часть круга, означающего «быт» и «вторгающегося» в пространство трех других кругов – «труд», «культура» и «общественная активность», означает проблематику предметной области повседневности, если при этом к каждому кругу подходить как к статическому, так и динамическому явлению.
По накалу страстей, неоднозначности подходов и по нарастающей численности адептов повседневности ее проблематика не уступает еще одному новому направлению, в предметной области которого форсированно множатся публикации, посвященные обретению и развитию одних и размыванию других идентичностей. В концентрированной форме новейшие идеи и итоги исследований, в том числе выполненных этносоциологами, нашли, в частности, отражение в книге «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании» (М., 2011), изданном к 70-летию академика В. А. Тишкова, одного из инициаторов выдвижения проблематики идентичности на передний план предметной области этнологии [Тишков 2001; 2003].
Этносоциологическое обращение к повседневной жизни индивидов путем фиксации их трудовых карьер и ценностных ориентации, а также ключевых индикаторов бытовой жизни, семейных и межличностных отношений, начатое во второй половине 1960-х гг. и успешно продолженное в 1970–1980-х гг., в известной мере корреспондировало с параллельно идущими процессами в художественной литературе в деле освоения повседневности в произведениях, типологически и тематически сходных с нашумевшими книгами «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Другая жизнь» (1975) Юрия Трифонова. Вместе с тем нельзя сказать, что время послевоенной и хрущевско-брежневской «оттепели» и «застоя» изучено с исчерпывающей полнотой.
Выбор хронологических рамок исследования и воспоминаний предопределен тем, что ни в одном активно развивающемся новейшем направлении «истории повседневности» и «идентификации идентичности», ни в литературе, посвященной Великой Отечественной войне, за редким исключением [Снежкова 2011], не исследована ее роль в формировании государственно-гражданской идентичности.
С точки зрения интересующего меня постсоветского периода, для меня вдохновляюще прозвучал тезис о том, что «не менее важным для формирования советской солидарности и патриотизма были разнообразные социальные и культурные практики повседневности» [Тишков 2013: 278].
Зависимость между повседневной жизнью и патриотизмом и гражданской идентичностью проявила себя в том, что практики повседневности внесли свой вклад в достижение победы в годы Великой отечественной войны, а победа в войне в свою очередь оплодотворила постсоветскую повседневную жизнь гордостью за свою страну и за свой народ, самоощущением самодостаточности, способностью выживания и стремлением к процветанию.
Между тем в только что увидевшей свет фундаментальной монографии В. А. Тишкова в специальной главе «Отечественная война и советский патриотизм» (с. 277–299) неоднократно обращается специальное внимание на необходимость изучения поствоенной повседневности, в условиях и в недрах которой формировались чувство патриотизма и гражданская идентичность как сопричастность к своей Родине.
Великая отечественная война, – утверждает В. А. Тишков, – со всей очевидностью подтвердила приверженность большинства советских людей, независимо от их этнической, конфессиональной и социальной принадлежности, ценностям духовно-нравственного свойства, центральное место среди которых занял патриотизм [Тишков 2013: 279].
В условиях острого финансового дефицита этносоциология медленно делала разворот в сторону нового прочтения старых источников и новых методов их прочтения. Еще раз можно повторить, перефразируя Люсьена Февра: «Этносоциолог не тот, кто знает, он – тот, кто ищет».
Список использованной и ассоциированной литературы
(к Предисловию и Введению)
Антропология… 2008 –Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г. А. Комарова, М.: ИЭА РАН, 2008.
Антропология… 2010 – Антропология академической жизни: междисциплинарные исследования. Т. II / Отв. ред. и сост. Г. А. Комарова, М., 2010.
Костомаров, Забелин 2012 – Костомаров Н. И., Забелин И. Е. Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях. М., 2012.
Гагаузы в мире… 2012 – Гагаузы в мире и мир гагаузов: В 2 т. Кишинев, 2012.
Гагаузы 1993 – Гагаузы. Исследования и материалы // Российский этнограф. Вып. 17. М., 1993.
Гирц – Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретивной теории культуры // URT: интернет-ссылка http://hghltd.yandex.uct/yand6tm7text
Горизонты современного гуманитарного знания 2008 – Горизонты современного гуманитарного знания: Сб. статей к 80-летию академика Г Г. Гамзатова. М.: Наука, 2008.
Готлиб 2004 – Готлиб А. С. Автоэтнография (разговор с собой в двух регистрах) // Социология. М. 2004. № 18.
Губогло 2008а – Губогло М. Н. Сам себе этнолог. Из автобиографических записей // Revista de etnologie si cultorologie. Vol. IV Chisinau, 2008.
Губогло 20086 –Губогло М. Н. Сполохи прошлого. Автобиографические затеей. Кишинев, 2008.
Губогло 2012 – Губогло М. Н. Автобиография как этнологический источник // Общественная мысль Приднестровья. Тирасполь, 2012.
Забелин 1862–1869 – Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XIX и XVII столетиях: В 2 т. М., 1862–1869.
Забелин 1872 – Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории: В 2 т. М., 1872–1873.
Забелин 1895 – Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XV–XVII вв. М., 1895.
Забелин 1915 – Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст. 2 части. 4-е изд. доп. Т. I. Ч. I. М., 1915.
Забелин 1918 – Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI–XVII ст. 2 части. 4-е изд. доп. Т. I. Ч. П. М., 1918.
Забелин 1990 – Забелин И. Е. Домашний быт русских царей. Кн. I. Государев двор. М., 1990; 2-е изд. М., 2008.
Забелин 1999 – Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. М., 1999; 2-е изд. М., 2005.
Забелин 2001 –Забелин И. Е. Дневники. Записные книжки. М., 2001.
Зарубина 1998 – Зарубина Н. Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. М., 1998.
Зарубина 2011 – Зарубина Н. Н. Повседневность в контексте социокультурных трансформаций российского общества // Общественная наука и современность. М., 2011. № 4.
Касавин, Щавелев 2004 – Касавин И. Т., Щавелев С. П. Анализ повседневности. М., 2004.
Козлова 2005 – КозловаН. Н. Советские люди. М., 2005.
Лебина 1999 – Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. Нормы и аномалии. 1920–1930. М., 1999.
Молдаване 2010 – Молдаване / Отв. ред. М. Н. Губогло, В. А. Дергачев. М.: Наука, 2010.
Моисеева 2008 –Моисеева Т. Б. Информационные технологии как средство трансформации повседневной жизни человека: философско-антропологический анализ. М., 2008.
Лакшин 1989 –Лакшин В. Я. Открытая дверь. Воспоминания, портреты. М., 1989.
Любимова 2012 – Любимова Г. В. Сибирская природа в зеркале крестьянской мемуаристики (особенности экологического сознания сельского населения Сибири) // Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 2.
Нарский 2012 –Нарский И. В. Антропологизация авторства (Приглашение к «лирической историографии») //НЛО 2012. 115. № 3.
Нарский – Нарский И. В. Антропология авторства // URL: интернет-ссылка http://www. nlobooks.ru/node/2254
Нарский 2011 – Нарский И. В. Возвращение автора: приглашение к лирической историографии», или Об одной тенденции в современном историописании // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков: Сб. статей. Челябинк, 2011.
Орлов 2010 – Орлов Б. Библиография 1958–2010. 2-е изд. М., 2010.
Поляков 2011 – Поляков Ю. Минувшее: фрагменты: воспоминания историков. 2-е изд. М.,2011.
Портреты историков 2000–2010 –Портреты историков. Время и судьбы. Т. 1. Отечественная история. Т. 2. Всеобщая история. М.; Иерусалим, 2000; Т. 4. Новая и новейшая история. М., 2004; Т. 5. Средние века. Новая и новейшая история. М., 2010.
Пушкарева 2004 –ПушкареваН. Л. «История повседневности» и «история частной жизни»: содержание и соотношение понятий // Социальная история. Ежегодник. 2004.
Пушкарева 2010 – Пушкарева Н. Л. Женская и тендерная история: итоги и перспективы развития в России // Историческая психология и социология истории. Т. 3. 2010. № 2.
Снежкова 2011 – Снежкова И. А. Конфессиональная ситуация на Украине: история и современность. М., 2011.
Тишков 2001 – Тишков В. А. Этнология и политика. Научная публицистика. М., 2001.
Тишков 2003 – Тишков В. А. Реквием по этносу. Исследования по социальной и культурной антропологии. М., 2003.
Тишков 2013 – Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М., 2013.
Токарев 1966 – Токарев С. А. История русской этнографии. Дооктябрьский период. М., 1966.
Фицпатрик 2001 – Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001.
Чудаков 2013 – Чудаков А. П. Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. М., 2013.
Щепаньская 2003а – Щепанъская Т. Б. Полевик: фигура и деятельность этнографа в экспедиционном фольклоре. (Опыты автоэтнографии) // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. IV. № 2.
Щепаньская 20036 – Щепанъская Т. Б. Антропология профессий // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. IV. № 1.
Щепаньская 2005 – Щепанъская Т. Б. Заметки об автоэтнографии // Антропологический форум. 2005.
Coffey 1999 – Coffey A. The Ethnographic Self. London: Sage, 1999.
Часть I
Антропология поствоенной повседневности
Раздел I
Повседневная жизнь и идентичность в системе этнологического знания
1. Социальные функции повседневности в поствоенном периоде
Становление гражданской идентичности, как осознаваемой принадлежности к данному государству и отечеству обеспечивающему права и свободы и ожидающему от граждан исполнения долга и обязанностей, с малых лет происходит под целенаправленным и/или стихийным воздействием ряда объективных и субъективных факторов. Особую роль играют атмосфера семейных отношений, система школьного воспитания и чтение художественной и исторической литературы, а также воздействие средств массовой информации, театра, интенсивности и качества коммуникативных межличностных связей. Немаловажное значение при этом имеет среда обитания, круг друзей и коллег, наконец, социально-экономическое и этнополитическое состояние общества.
Немаловажную роль в развитии и укреплении гражданской идентичности играют исповедуемые обществом нормы и ценности, характеризующие состояние культуры и социологии повседневной жизни. Перечисленные и многие неупомянутые здесь факторы и аспекты исследуются скорее порознь, чем комплексно в некоем единстве. Между тем «Великий завет бытия» (К. Бальмонт), т. е. повседневная основа гражданского самоощущения и сопричастности, «обслуживает» относительно безболезненный способ приспособления к трансформациям, особенно в переломные периоды истории. Такие периоды наступают после войн, социальных катастроф, революций и других экстремальных событий и акций, которые затрагивают важные циклы человека, формируют интересы и стимулы поведения людей.
Исходной предпосылкой воспоминаний и рассуждений служит понимание социальных функций и функциональной значимости повседневной жизни в деле воспитания гражданской идентичности и патриотизма. Выведение ее программатики и тематики за пределы предметной области этнологии и этносоциологии означало бы пренебрежение ролью повседневной жизни в конструировании гражданской идентичности и в накоплении социального капитала (Френсис Фукуяма), без которого плохо или очень плохо действуют стабильные формы и нормы жизнедеятельности и соционормативные основы бытия и витальности общества.
Обосновывая социальную востребованность и право «истории повседневности», представляя новую междисциплинарную отрасль знания, ее сторонники и сторонницы сопровождают эту цель стремлением дистанцироваться от широко распространенных в 1970–1980-е гг. в социологии и этносоциологии массовых опросов и количественных методов обработки крупных массивов информации. Справедливо ли это? В исследовательских стратегиях повседневности, как новой отрасли знания, предпочтение отдается индивидуальным рассказам, биографиям и автобиографиям. Безусловно, каждый индивид, как уникум, представляет интерес для этнологии. Однако провозглашаемая и манифестируемая новизна и оригинальность «истории повседневности» не вполне соответствует историографическому дискурсу и реальному состоянию дел в изучении этой самой повседневности. Обратимся, в частности, к опыту этносоциологов, деятельность которых в лоне отечественной этнологии продолжается почти полвека. Информационная база этносопиологических исследований создавалась и издавалась вкупе с многочисленными статистическими и нарративными источниками. Информация накапливалась не обычными анкетами, а специально разработанными «Опросными листами», представляющими принципиальную часть методико-инструментального аппарата этносоциологического обследования. Они составлялись таким образом, чтобы, заполняя их (с помощью подготовленного интервьюера), респондент (опрашиваемый) мог бы последовательно, шаг за шагом, рассказывать свою семейную, социальную, культурную и психологическую биографию.
В поле зрения этносоциологов находились представители социально-профессиональных групп, представляющие тот или иной народ, являющийся, как в пушкинской драме «Борис Годунов», носителем и выразителем повседневности. При таком подходе событийная сторона социальной истории виделась глазами отдельных личностей, анонимных, без фиксированных инициалов, но с конкретными анкетными данными, в том числе с этническими, тендерными, региональными идентичностями и исповедуемыми ценностями. На карту их жизнедеятельности заносились не помпезные и широкомасштабные события и образы происходящего, не навязываемый им идеологический «букет», а прежде всего проблемы собственного участия в повседневной жизни и отношения к ней.
«Опросный лист», – как характеризовал его руководитель авторского коллектива первого крупномасштабного этносоциологического проекта, родоначальник советской этносоциологии, как нового междисциплинарного направления Ю. В. Арутюнян [Междисциплинарные исследования… 2005: 3–25], построен таким образом, что отвечающий как бы рассказывает о своей жизни» [Арутюнян 1972: 11].
Такое «биографическое» построение «Опросного листа» не только делало интервью «естественным и легким», но оказалось предтечей методико-инструментального оснащения для последующих исследований образа жизни, истории и культуры повседневности в формате нарративов в жанре грядущего постмодерна.
Десятки тысяч индивидуальных социальных биографий позволяли в конечном счете составлять представительные портреты советского тракториста или агронома, рабочего или инженера, учителя или врача, руководителя среднего или высшего звена, работающих в повседневной сельской или городской производительной сфере. Результаты обработки «Опросных листов» служили информационной базой для немаловажных открытий в системе гуманитарного знания, что весомо расширило представления не только о ткани и трендах повседневности, но и ее творцах, носителях и участниках.
Массовые этносоциологические источники позволили успешно реализовать замыслы по характеристике людских судеб, домашних очагов и жизненных путей-дорог, события и факты истории малой родины и большой истории, сохранение и изменение исповедуемых ценностных ориентации и культурных запросов, а также векторов межличностных взаимодействий в производственной, досуговой и домашней сферах повседневного бытия [Социально-культурный облик… 1986; Русские… 1992; Губогло 2003; Губогло, Смирнова 2006].
Отсутствие инициалов анкетных данных респондентов в «Опросных листах» или же занесение их в бланк по добровольному волеизъявлению опрашиваемых не мешало, во-первых, выделять при анализе измеряемые параметры и показатели этнических, тендерных, религиозных, имущественных и других идентичностей, во-вторых, позволяло выявлять проявление индивидуальных особенностей в системе обыденной жизни у представителей различных этнических и социально-профессиональных групп, в-третьих, вглядываться в повседневность, как в выразительный предметно-содержательный, развивающийся антипод событийного и публичного, продиктованного официозом и его идеологической доктриной.
Трудно переоценить заслуги этносопиологии, ранее других отраслей гуманитарного знания зафиксировавшей в относительно тихое «застойное» время подземные толчки в сфере межэтнических отношений, проявляющихся, в частности, в виде так называемых «сельского» и «интеллигентского» национализма [Арутюнян 1969].
Желание и готовность представить модных сегодня «историков повседневности» первооткрывателями и пионерами свежей проблематики и новейшей тематики исследований приводит порой к не вполне корректным оценкам трудов предшественников, к забвению или нежеланию упоминать опыт предшественников, даже вопреки тому, что их труды стали классикой и получили высокую оценку научного сообщества.
…Нужно отдать должное родоначальникам этого направления (К). В. Арутюнян, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижева), – резюмировал итоги становления этносопиологии В. А. Тишков, – которые утвердили это направление в такой степени, что оно стало почти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии и социологии [Тишков 2011: 91].
В одной из влиятельных публикаций, в которой анализируются сходства и различия в этнографическом изучении быта и в изучении «истории повседневности», можно прочитать о становлении самостоятельного научного направления в рамках «новой социальной истории». Приведем сначала одно из высказываний, имеющее с историографической точки зрения важное значение, а затем обратимся в качестве примера к некоторым книгам с более чем сорокалетней историей.
…Именно историки повседневности, – утверждается в статье, – сделали изучение каждодневных обстоятельств работы, мотивации труда, отношений работников между собой и их взаимодействий (в том числе и конфликтных) с представителями администрации и предпринимателями темой «новой рабочей истории» и новой истории труда, ставших впоследствии самостоятельными «историями» [Пушкарева 2005: 32].
Классик советской социологии – сценарист, режиссер и «постановщик» одного из первых социологических исследований повседневности в производственной сфере В. А. Ядов в инициированном им проекте «Человек и его работа» ориентировал коллектив авторов на изучение мотивации и отношения к трудовой деятельности как результатов взаимодействия социальных факторов. В ходе реализации проекта были выявлены и изучены объективные и субъективные показатели, раскрывающие отношение конкретных людей к труду, раскрыты факторы, обуславливающие уровень удовлетворенности и неудовлетворенности работой, охарактеризована обусловленность мотивов трудовой деятельности и их связь с характером и содержанием труда [Человек и его работа 1967].
Листая страницы этого сочинения, на котором учились несколько поколений советских социологов, нетрудно заметить, что проведенным исследованием в середине 1960-х гг. была охвачена значительная часть проблематики повседневности, которая сегодня не вспоминается, но выдается за модное новое направление, как «история повседневности» или как часть модной, пришедшей с Запада социальной истории.
Еще одним незаслуженно выведенным за скобки предметной области современной «истории повседневности» может служить знаменитое исследование социальных проблем быта и внерабочего времени, в том числе с анализом на достаточном по количеству и надежном по качеству материале проблем повседневного поведения, образе жизни, времени, как средстве описания повседневного поведения, особенностей быта и бытовой жизни на этапах жизненного цикла человека, изменений параметров и показателей повседневной жизни под влиянием материальных условий и образовательного фактора [Гордон, Клопов 1972].
Нецивилизованное культивирование повседневной жизни ведет к деградации ментальности, порождает аномальные образцы поведения. Так, например, в постсоветский период пренебрежение к традициям и соционормативным основам жизни в одних случаях вело к аномальностям, проявляющимся в дебилизации, быдлизации и пауперизации, к расширению масштабов социального дна, в других случаях – в куршевилизации образа жизни узенькой прослойки так называемых новых русских [Свобода… 2007: 247; Зарубина 2011: 58].
Переломные периоды в истории многовековой царской и двухсотлетней императорской России, Советского Союза не единожды повышали планку гражданского самоощущения. Так, в частности, складывалась жизнь, что едва ли в начале каждого столетия народам России приходилось воевать, а потом залечивать раны и вместе с горечью потерь наполнять душу чувством собственного достоинства. Таковы были десятилетия после смуты в начале XVII в., реформы Петра после его побед над шведами. Так было в первые два десятилетия после победы над Наполеоном в начале XIX в. и над Гитлером в середине XX в.
Запоздалое, через века, признание общественной значимости преодоления «смутного времени» России в связи с изгнанием предками польских интервентов в 1612 г. и объявление 4 ноября Праздником Единства могут служить запоздалым пониманием важной роли освобождения для формирования гражданской идентичности потомков.
Победы или поражения России на полях сражений на протяжении последних четырех веков оказывали противоречивое влияние на повседневную жизнь, катализируя повышение, реже – понижение «градуса» гражданского самосознания и патриотического самоощущения. Так, например, после завершения трагической Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. советские люди столкнулись с хозяйственной разрухой, бедностью и оскудением повседневной жизни. Однако время залечивало раны и горечь потерь. Вместе с тем, улучшение условий жизни способствовало совершенствованию системы жизнеобеспечения и привнесению элементов комфортабельности в быт.
Важную роль в гуманитаризации культуры повседневности и в повышении градуса гражданского самосознания в первые поствоенные и далее в годы Хрущевской «оттепели» играли три мощных потока художественной литературы: «деревенская» (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин), «городская» (А. Битов, Ю. Трифонов) и «военная» (В. Астафьев, Г. Бакланов, В. Быков, Ю. Бондарев, К. Воробьев, Б. Васильев и др.) проза.
В каждом потоке повседневность реалистично изображалась как тяжелая работа, в том числе на войне, как работа, требующая в жертву тысячи человеческих жизней. На этих трех литературных течениях, исследующих уроки повседневной жизни в разных ее ипостасях и проявлениях, воспитывалось первое поколение послевоенных правозащитников.
Надо отдать должное литераторам и литературе в формировании национального достоинства и самоуважения советских людей. Они являли собой одновременно и причину и результаты подъема национального духа.
Мне, ребенку депортированных родителей, на рубеже 1940–1950-х гг. довелось быть свидетелем витальности повседневной жизни сельских жителей Зауралья в деревнях, оставшихся без взрослых мужчин, и наблюдать медленное нарастание материальных и более ускоренное приумножение параметров духовных аспектов повседневной жизни сибирского села.
После черных лепешек из прошлогодней мерзлой картошки, приготовленных вперемешку с порыжевшими отрубями, первые буханки белого хлеба из натуральной пшеничной муки казались олицетворением изобилия и грядущего материального благополучия. Каждое лето накануне учебного года очаровывали новенькие учебники, упоительно пахнущие свежей типографской краской.
Вполне осязаемые и заметные показатели улучшения повседневности прочно отложились в памяти и сподвигли задуматься о том, какое влияние оказывали блистательные победы и горькие поражения на состояние духа и духовности народов, и как они отражались на состоянии гражданского самосознания и на появление ростков оптимизма.
Встал профессиональный вопрос, как соотносятся в историческом (этнологическом) процессе событийный исторический опыт и этнопсихологический опыт самосознания. Мои воспоминания о постсоветском времени второй половины XX в. не претендуют на уровень выявления смысла исторического или историографического процесса. Хотя вслед за Л. П. Карсавиным думается, что… Не из будущего исходит историк и не из прошлого, но из настоящего и прежде всего из самого себя. Он ориентирует познаваемое им историческое бытие и развитие к тому, что наиболее полно и ярко выражено в его эпохе и культуре [Карсавин 1922: 254].
Таким образом, возникла двуединая задача. С одной стороны, попытка представить свои воспоминания в качестве субъективного взгляда и как источник для антропологического анализа повседневности, а с другой – уловить некоторые тенденции в развитии общественного сознания, обреченного на взлет активности или на социальную апатию и психологическую пассивность в противоречивый период поствоенной истории Советского Союза.
Биографически сконструированные «Опросные листы», ставшие базовым источником этносоциологических исследований, навели на мысль об автобиографии, как этносоциологическом источнике, о чем подробнее будет сказано ниже.
2. Повседневная жизнь в зеркале автобиографии
Инна Лиснянская
- Рукой слезу останови,
- Не бойся горестного знанья.
- Проходит время для любви,
- Приходит для воспоминанья.
В относительно юной, по историческим меркам, этносоциологии, которая моложе своих родителей – этнографии и социологии, ориентированных больше на изучение групповых, чем личностных явлений, биографический, а тем более автобиографический метод редко привлекался для осмысления взаимосвязей этнических и внеэтнических явлений и процессов. Между тем перспективы активизации и широкого внедрения в научный оборот этого специфического источника представляются заманчивыми и привлекательными. В основе актуализации интереса к личности и ее индивидуального жизненного пути лежат те трансформационные процессы и связанные с ними изменения, которые сегодня, в ходе перемен, смещают акцент от коллективизма и массовости к индивидуальности и личности.
Раскрепощение духа бывших советских людей, признание и защита прав и свобод постсоветского человека, порождает интерес не только к ключевым моментам в его жизненной судьбе, но и попыткам самоосмысления, в том числе выраженных путем описания своей судьбы в связи с судьбой своей молодой родины.
Известный скепсис одного из создателей советской этнографической школы С. А. Токарева к воспоминаниям и мемуарной литературе, понятно, был предопределен господством той идеологической атмосферы, когда корпоративные интересы коллектива, общества и государства ставились выше интересов индивида. «Мемуары и разные биографические и автобиографические произведения, – помнится, учил студентов кафедры этнографии исторического факультета МГУ в 60-е годы прошлого века С. А. Токарев, – интересуют историографа этнографии лишь в одном случае, когда они относятся к лицам, оставившим свой след в развитии этнографической науки, и дают о них биографические сведения» [Токарев 1966: 8].
Речь, как видно, идет, во-первых, только об историографической стороне дела, когда не исключается обращение к автобиографии как к историческому источнику, в том числе и в исследовании этнологической проблематики. Во-вторых, не отрицается тот факт, что во многих мемуарах – ив «Житии» Протопопа Аввакума, и в «Записке» Андрея Болотова, и у различных новейших мемуаристов – как объяснял свою позицию С. А. Токарев, – можно найти немало ценных для этнографа бытовых черточек», хотя это «черточки» по мысли автора учебника по историографии этнографии, «как правило, характеризуют лишь собственную среду мемуариста» [Токарев 1966: 8].
Современные этнокультурная и этнопсихологическая ситуации в регионах России и в странах ближнего зарубежья, во многом определяемые этнополитической атмосферой, в наше время, т. е. на заре нового века, характеризуются нарастающим интересом к проявлению различных форм идентичности: от тендерной до гражданской, от этнической до имущественной и от религиозной до региональной. Ответом на этот интерес выступают интеллектуальные усилия в виде расширяющихся рефлексий по поводу связей человека с культурно-историческим пространством и национальным достоянием своего и других народов. Вслед за первой волной смещений этнического из сферы материальной в духовную и далее в политику и обратно из политики в сферу психологии [Губогло 2007: 275–283] происходит вторая волна смещения из, по крайней мере, внешне монолитного советского общества и его продукта – коллективистски настроенного советского человека в сторону повседневного существования простого индивида с изображением ключевых узлов и перекрестков его жизненного цикла, в том числе его маргинальности.
Соответственно, это находит выражение в расширении предметной области этнологии и ее составной части – этносоциологии.
Автобиография, как этнологический источник, проявляет свою ценность тем, что, будучи формализованной схемой жизненного пути, раскрывает внутренние переживания и противоречия индивида, как его культурно-личностной саморефлексии.
Биографические очерки, издания в честь юбилеев, мемуары, воспоминания современников о классиках науки позволяют раскрывать не только биологическую, но и творческую судьбу ученого. (См., например: [Благодарим судьбу… 1995; Гутнова 2001; Междисциплинарные исследования… 2005; Репрессированные этнографы 1999; Репрессированные этнографы 2003; Академик Ю. В. Бромлей 2003; Этносоциология и этносоциологи 2008]; Р. Г. Кузеев, В. А. Тишков, М. Н. Губоглу Ю. А. Поляков, Ю. Б. Симченко.)
Современный специфический интерес к индивиду представляет, прежде всего, интерес к антропологии человека, как носителя изменяющейся культуры и как субъекта самоидентификации. Ответом выступают интимные письма, дневники (для себя), автобиографии, в которых делается попытка, известная с античности, уяснить самому себе, каким образом реагируют на вызовы внешней среды душа и поступки человека на разных этапах жизненного цикла. При этом предполагается, что, во-первых, характерные для жанра автобиографии «чейные» события и факты не менее важны для читателей и исследователей, чем «ничейные».
А, во-вторых, сдвиги в самоощущении в структурировании идентичностей происходят тогда, когда «возникают стимулирующие внешние условия» [Баткин 2000: 160–161].
Этнологический аспект автобиографического текста состоит в фиксации культурных изменений и тем самым показывает созвучие разных эпох и место человека в культуре.
И сегодня, в век освоения космоса и всемогущества Интернета, сидя перед экраном компьютера, имея возможность общаться с коллегами на любой точке земного шара, мне странно вспоминать комнату в глубинке Курганской области, в которой не было ни газа, ни электричества, ни телефона, ни телевизора. Длинными зимними вечерами можно было читать только при свете керосиновой лампы, от струйки дыма которой покрывались темным налетом обледенелые стекла двойной оконной рамы. Удивительно, как писал Вадим Шефнер, что человек, оставаясь «все тем же», за короткую жизнь успевал повидать так много, что не рассказать об этом он просто не может [Шефнер 1976: 75].
Между тем анализ текстов автобиографий, даже несмотря на их субъективность, имеет свою поучительную историю в социально-психологической литературе.
Стоит вспомнить, что еще в 40-е гг. прошлого столетия, проанализировав крупный корпус литературных источников, один из крупнейших психологов XX в., основоположник психологии личности, как особой предметной области психологии, Гордон Олпорт составил впечатляющий список мотивов, побуждающих иных людей к написанию автобиографических текстов:
1) самозащита или самооправдание в своих глазах или перед окружающими;
2) эгоистическое стремление показать себя. Классическим примером этого типа автобиографии может служить, в частности, известная «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо;
3) стремление привести в порядок свою жизнь путем записи событий и собственных действий; 4) поиск эстетического удовлетворения в писательской деятельности; 5) осмысление перспектив собственной жизни, отчет о пройденном пути, начало «новой жизни», рассуждение по поводу своих достоинств и возможностей; 6) разрядка внутреннего напряжения в период жизненного кризиса, иногда перед самоубийством, стремления показать свои внутренние конфликты; 7) к написанию автобиографии часто прибегают люди, находящиеся на пути возвращения в общество, например преступники, покончившие со своим прошлым; 8) люди могут писать автобиографии, считая, что их записи имеют ценность как исторический источник, психологический или социологический материал; 9) иногда люди ведут дневники или пишут мемуары, считая, что это их долг перед обществом или будущими поколениями, которым они хотят подать пример или сообщить информацию, имеющую большое моральное значение; 10) мотивом может быть стремление к бессмертию, увековечиванию собственной личности, протест против забвения.
Наряду с перечисленными десятью внутренними мотивами Олпорт называл следующие внешние: желание получить деньги за публикацию или премию за участие в конкурсе, поручение написать автобиографию, например с научными целями, для публикации, либо передачи родственникам, потомкам. В учебных целях профессор может дать такое поручение своим студентам.
Люди, попавшие в беду или страдающие психическими расстройствами могут писать автобиографии по рекомендации врачей, чтобы помочь им в диагностике и лечении, а также для разрядки внутреннего напряжения [Allport].
Моим воспоминаниям не подходит ни один из перечисленных мотивов из реестра, составленного классиком социальной психологии Гордоном Олпортом. Я беру на себя смелость обращаться в первом разделе своей книги к своей памяти с единственной целью: осмыслить величие адаптационного подвига спецпереселенцев – безвинно наказанных людей, сумевших найти в себе силы, чтобы, потеряв свой дом и поля, сады и виноградники, лошадей и овец, домашнюю птицу и домашний скарб, заново конструировать свою жизнь с нуля, приспосабливаясь к новому укладу жизни.
Автобиографии, созданные россиянами в разные периоды истории России, как особый литературный жанр, имеют поучительную историю. Как отмечалось в литературе, первые письменные автобиографии, появившиеся в конце XVII в., отражали духовный путь личности, стремившейся к религиозному идеалу. Автобиографии XVIII в. отражали наличие эмоциональных настроений, что позволяло отражать формирование противоречивой личности. В XIX в. автобиографии представляли уже не только автопортрет самого автора, но и его попытки объяснить природу своих социально-психологических свойств и характеристик путем соотнесения себя и своих личностных качеств с мнением и состоянием других. Начавшаяся в XX в. самообнаженность и склонность к прозрачности достигла сегодня, на заре XXI в., особой выразительности.
В художественной литературе одаренные от природы люди приступают к написанию своего жизнеописания, отвечая на вызовы настоятельной потребности самовыражения. Импульсы идут от острого желания проманифестировать творческий потенциал своей идентичности, адаптироваться во внешнюю социальную среду путем фиксации декларируемого образа себя.
Я слышала, – с пронзительной откровенностью пишет в своей автобиографии Агата Кристи, – что любой человек рано или поздно приходит к этой настоятельной потребности. Совершенно неожиданно такое желание овладело и мной… Мне хочется наугад запустить руку в собственное прошлое и выудить оттуда пригоршню воспоминаний. Жизнь, мне кажется, состоит из трех периодов: бурное и упоительное настоящее, минута за минутой мчащееся с роковой скоростью; будущее, смутное и неопределенное, позволяющее строить сколько угодно интересных планов, чем сумасброднее – тем лучше… и прошлое, фундамент нашей нынешней жизни, воспоминания, разбуженные невзначай каким-нибудь ароматом, очертаниями холма, старой песенкой[1].
Некоторые сюжеты моих воспоминаний были написаны и частично опубликованы, когда увидели свет воспоминания выдающегося советского и постсоветского историка, академика Ю. А. Полякова и автобиографический роман «Ложится мгла на старые ступени» крупного российского филолога А. П. Чудакова (1938–2005) [Поляков 2011; Чудаков 2013].
Несть числа новейшим автобиографическим жизнеописаниям. Трудно было бы их перечесть. Здесь не стоит задача подробных рефлексий о многих из них, которые вызывают сходные, или сложные ассоциации в связи с изображением личности самого мемуариста и его способности отображать в аналитической или художественной форме свою профессиональную карьеру, образ Советского Союза или России в разные периоды существования страны.
Книга воспоминаний Ю. А. Полякова интересна тем, что в ней отражена важная часть повседневной жизни его коллег – историков, взлеты и падения исторической части российского гуманитарного знания, в лоне которой складывалась и моя профессиональная карьера. На одном дыхании я «проглотил» воспоминания А. П. Чудакова в формате автобиографического романа «Ложится мгла на старые ступени». Прежде всего поражает найденная им метафора ностальгического изображения своего жизненного цикла классическим образом: «старые ступени».
Как будто в своих воспоминаниях автор, обладающий феноменальной памятью, спускается по старым ступеням в страшные, но по-своему счастливые годы детства и юности, создавая через события и картины собственной биографии образы довоенного и поствоенного времени, образы «подлинной России в ее тяжелейшие годы, в том числе в труднейших ситуациях, в которые попадали ее репрессированные граждане».
Однако оба российских мыслителя, и Ю. А. Поляков и А. П. Чудаков, в отличие от сумрачных гениев Запада, таких, например, как Кант, Гегель и иже с ними, обладали неистощимым чувством юмора. В аннотации к роману А. П. Чудакова указаны ее главные достоинства: «Книга гомерически смешная и невероятно грустная, жуткая и жизнеутверждающая, эпическая и лирическая» [Чудаков 2013: 4].
Со многими из героев Ю. А. Полякова я был знаком, слушал их лекции, посещал семинары, участвовал в конференциях и симпозиумах. Особая точка пересечений интересов в лекционной деятельности, связанной с обществом «Знание», в руководстве которого Ю. А. Поляков играл важную роль, а мне посчастливилось побывать во многих регионах Советского Союза с лекциями по заданию Всесоюзного общества «Знание». Подробнее речь пойдет в очерке, посвященном памяти моего друга-сокурсника по историческому факультету А. С. Рудя, а на самом деле о поколении советской молодежи, провинциалов, осваивающих ритмы жизни и образы Родины и особенности повседневной жизни, попав в столицу из городов и сел обширной, но единой страны.
Я неоднократно испытывал на себе невероятное чувство юмора, неистощимый оптимизм Ю. А. Полякова, в том числе во время совместной поездки в г. Вильнюс, когда на рубеже 1980–1990 гг. над Литвой начали сгущаться грозовые тучи конфликта с Центром. Вместе с литовскими коллегами мы размышляли о текущем моменте, обсуждали проблемы национальных меньшинств в системе обновляемой национальной политики. О нашем визите благожелательно поведала местная газета на польском языке, поместив мою фотографию, видимо, в знак признательности за концептуальную поддержку правового статуса польского меньшинства в Литве.
Читатели легко поймут меня. Прочитав объяснительный запевный «фрагмент» из «воспоминаний историка» в вводной главе «О чем рассказывать», уже нельзя было ни остановиться, ни оторваться от чтения. Не откажу себе в удовольствии привести двойную цитату из Пушкина и комментарий Ю. А. Полякова.
Пушкин в дневнике записал рассказ об одном незадачливом мемуаристе. «Генерал Волховский, – сообщает Пушкин, – хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! Ты о чем будешь писать?» – Что я видел? – возразил Волховский. – Да, я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет. Начиная с того, что я видел голую… государыню (Екатерину II, в день ее смерти)» [Пушкин 1978, 8: 40; Поляков 2011: 5].
Мои дела с воспоминаниями – пишет далее знаменитый академик Ю. А. Поляков с непередаваемой иронией и брызжущим юмором, – обстоят значительно хуже, чем у генерала Волховского. Я не могу похвастать не только тем, что видел голую задницу скончавшейся императрицы, но даже Ельцина или Гайдара в плавках. Я не встречался лицом к лицу и не перемолвился ни единым словом ни с одним из генсеков, ни с одним президентом». Более того, продолжает свой безобидный сарказм Ю. А. Поляков, «я не встречался с вождями партии и народа, с лидерами перестройки, ни с другими гениальными поэтами-песенниками, не общался с великими мастерами кожаного мяча и несравненными звездами эстрады, то есть со всеми теми, кто оставил такие заметные вехи в нашей истории [Поляков 2011:5–6].
Насчет оставленных или неоставленных «вех» в истории – это, конечно, зря. Вряд ли участники банкета в честь избрания В. А. Тишкова академиком РАН смогут забыть самый остроумный и искрометный тост, произнесенный Ю. А. Поляковым с бесподобной интонацией эстонского акцента, не уступающей ни М. Галкину, ни другим популярным юмористам и пародистам.
Я не помню – в отличие от Ю. А. Полякова – похороны И. В. Сталина, не видел танки на Садовом кольце в июне 1953 г., когда (как) низвергали Лаврентия Берия и требовалось обезоружить охрану в его доме возле Кудринской площади [Там же: 6–7]. Но я хорошо помню Каргапольскую восьмилетнюю школу, когда мы, ученики 6-го класса, выстроенные в обширном темном коридоре, рыдали вместе с учителями в связи с кончиной «вождя народов».
Хорошо помню, что плакал вместе со всеми, поддавшись ощущению общего горя. Однако, вернувшись домой, я обнаружил, что родители и родственники, а также соседи из числа депортированных, имевшие все основания ненавидеть И. Сталина, не сильно оплакивают и совсем не страдают по поводу смерти вождя. Наоборот, обсуждают новые надежды на послабление комендантского режима, на дальнейшее улучшение жизни и даже на возможность возвращения в родные края в связи с амнистией или реабилитацией.
Только через несколько лет, став студентом МГУ, и, проживая в общежитии на Стромынке, я впервые услышал о чудовищной трагедии, случившейся в Москве в дни похорон И. Сталина и закончившейся человеческими жертвами. После разоблачения культа личности об этой трагедии открыто писали в прессе, в научной и художественной литературе. Тем не менее наиболее сильное впечатление на меня произвели воспоминания о днях похорон академика Ю. А. Полякова, который вместе со своим другом, будущим академиком Ю. А. Писаревым, был не только свидетелем и очевидцем великой давки, но даже сумел прорваться к гробу в Колонный зал.
Приведу два фрагмента – аналитический и описательно-событийный – из текста его воспоминаний. Он обратил, в частности, особое внимание на тот факт, что
…кроме неоспоримо масштабного значения физической смерти, означавший конец сталинской диктатуры, имело место еще одно обстоятельство, делающее март 1953 г. столь памятным. По его впечатлениям и размышлениям – это гибель сотен людей во время прощания с вождем в результате смертоубийственной давки, обусловленной многими причинами. Поразительное скопление народа, губительный хаос, неожиданно обнаружившаяся расхлябанность, растерянность партийно-советской машины, массовость смертей и травм – все это было производным от смерти генералиссимуса [Поляков 2011: 296].
Потрясение, вызванное психозом толпы, психозом стадности вылилось в чеканные строчки воспоминаний о том, что и как происходило в дни мартовского столпотворения.
Человек, – в анализе Ю. А. Полякова, – попавший в водоворот, беспомощен. Он может проклинать себя за неосторожность, он может кричать, рыдать, стонать, пытаться прибиться к берегу. Но каждый, находившийся рядом, также беспомощен, каждый не принадлежит себе. Каждый – частица огромного целого и, не желая быть этой частицей, подвергаясь смертельной опасности, пытается противиться, каждый подчиняется движениям целого, ибо он сам вольно или невольно неотъемлемая составная этого целого [Там же: 311].
В этом описании толпы, достойном войти в антологии и учебники по социальной психологии, я верю каждому слову Ю. А. Полякова. Позволю себе очень коротко вспомнить о том, что происходило на Манежной площади, когда по радио сообщили о полете Ю. Гагарина в космос.