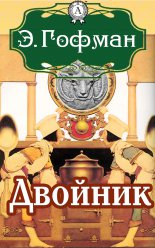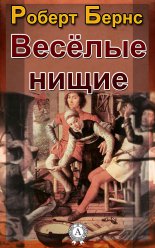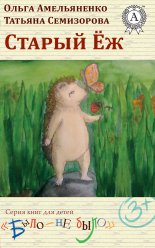Солдаты последней войны Сазанович Елена
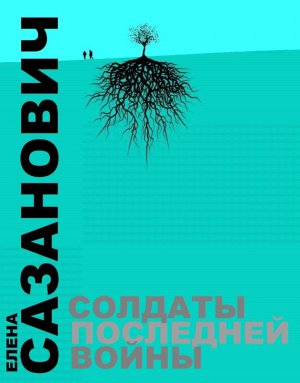
– Боже, Шурочка, – мне, пожалуй, было еще тяжелее, чем ему. Я чувствовал себя виноватым за всю медицину на свете. – Ты же знаешь, я не кардиохирург. А операция на сердце… Тяжелая операция…
– Кира, ты мне поможешь! Слышишь! Ты мне поможешь! Ты… Ты же мой друг! Ты мне поможешь! – уже кричал на меня Шурочка, со всей силы тряся за грудки. Его очки сползли на нос. Лицо покрылось пятнами. А в глазах столько было боли, что мне ничего не осталось, как тихо и покорно ответить.
– Да, я тебе помогу.
И я вновь пытался что-то делать. Я пошел на прием к человеку, которого давно знал и которого давно ненавидел. Еще со студенческой скамьи. Я вновь пошел на поклон к шестерке, подхалиму и тупице – главному врачу самой престижной и оснащенной по всем западным меркам кардиохирургической больницы Погоцкому Виктору Михайловичу. Проще – к Редиске, как звали его в институте. Вот она ирония (или подлость) судьбы! Человек, лечащий других, человек, от которого зависит – будет ли биться сердце пациента, сам был без сердца. И к такому человеку я пошел на прием и на поклон. Уже в который раз. И в который раз знал, что напрасно. И в который раз он нудно и бесстрастно объяснял мне так называемое положение дел. Что он – подневольный человек, что в его больнице работают выдающиеся специалисты со всего мира, с которыми заключены договоры на баснословные суммы, что каждая операция стоит десятки, если не сотни тысяч долларов, и он не имеет права просто так взять их из бюджета клиники, что возможна и бесплатная операция, но очередь бесконечна… Было тысячи логически обоснованных, грамотно аргументированных «что».
– Я только прошу, – в который раз повторял я. – Я только прошу чуть-чуть времени. Черт побери! В рассрочку!
Какое страшное слово. В рассрочку. И это – человеческую жизнь. Словно речь идет о каком-то товаре. Но не о живом человеке. Но не о Галке.
– В рассрочку, – он усмехнулся и оглядел меня с ног до головы, словно прицениваясь. – Не считай меня идиотом. Ты таких денег никогда не заработаешь. Если только удачно ограбишь банк. А у меня обязательства…
– Ты давал обязательства перед Гиппократом! Перед Господом Богом, в конце концов! Или ты забыл эту клятву! – я со всей силы сжал кулаки, готовый броситься на него и растоптать.
– Нет, не забыл, – спокойно ответил Редиска. Круглый, румяный, ни одной морщинки на гладком лице. – Но теперь я дал другую клятву. А она очень многого стоит. И ни Гиппократ, ни Бог за меня не рассчитаются. Я должен рассчитывать лишь на себя.
– Клятву дядюшке Сэму? И сколько человеческих жизней ты ему обещал? И сколько он должен тебе?
В его взгляде застыли ненависть и злоба. А еще тысячи, миллионы зеленых бумажек. Это была цена Галкиной жизни.
Резкий телефонный звонок прервал нашу «беседу». Редиска взял трубку. Помолчал. И глядя мимо меня куда-то вдаль, избегая моего взгляда, глухо выдавил.
– Впрочем… Впрочем, Кирилл, уже не о чем спорить…
Я вздрогнул. Я все понял. И бросился к выходу.
– Кирилл! – его дрожащий голос остановил меня. Трусливый, дрожащий голос, но не более. – Погоди, ты, надеюсь не думаешь, что это я… Ну, во всем виноват…
И вновь трусливый взгляд. Зеленые бумажки на мгновение съехали в уголки глаз. Появились трусость и подобие сочувствие. Но не раскаяния. Я бросился вон. И уже на улице, переведя дух, сообразил, что не сделал главного. Не плюнул ему в лицо… Я шел не чувствуя ливня. Не замечая грязи и луж под ногами. Не слыша рева автомобилей и гула толпы…
На углу у «Нумизмата» я внезапно заметив знакомую фигуру. Это был Поликарпыч. Рядом с ним стоял здоровенный детина в темных очках. Маленький хроменький старик дрожащими руками протягивал ему что-то блестящее. Недоброе предчувствие заставило вмиг очнуться. И я подскочил к ним.
Так и было. Этот недобитый гад выторговывал у Поликарпыча орден «За оборону Сталинграда». Сердце готово было разорваться, как снаряд с последней войны, прямо здесь. И я закричал. Пожалуй, не будь у меня такого сумасшедшего вида, безумных глаз, дикого рева, детина мог бы запросто прихлопнул меня на этом же месте. Но он испугался.
– Сволочь! – бешено орал я. – Быстро вернул орден! Или я задушу тебя собственными руками!
Он торопливо бросил орден в лужу и запрыгнул в машину, огрызаясь уже на ходу.
– Чокнутый! Шваль подзаборная!
Шестисотый «мерс», сверкая пуленепробиваемыми стеклами, бросился с места. И я не без удовлетворения подумал, что нас еще боятся.
Поликарпыч поднял орден, бережно вытер его краем пиджака и поцеловал. В луже осталась валяться десятидолларавая бумажка.
– Прости меня, Кирюша. Сам знаешь, для чего я… Для Галки.
– Я все знаю, Поликарпыч. Все знаю. Но уже поздно… Но даже не в этом дело. Дай мне слово, милый Поликарпыч: чтобы ни случилось – землетрясение, голод, смерть, никогда не продавай ордена. Никогда! Ведь это одно из немногого, что у нас еще осталось. И мы не имеем права…
Я взял орден из рук Поликарпыча и прицепил ему на грудь.
– Пошли, старый солдат! Пройдемся гордо мимо этих блестящих витрин. И помни, что здесь когда-то гуляли Пушкин и Горький, что здесь строились храмы науки и храмы души. Ведь именно здесь ты вместе со своими товарищами прошел в конце концов победным маршем в 45-м. И мы имеем право гордо пройтись по нашим улицам. Потому что они всегда будут наши.
– Я воевал за то, чтобы жила Галка. А не такие, как этот… – прохрипел Поликарпыч, глотая старческие слезы.
– Мы будем жить за нее, милый мой друг. Мы будем жить…
– Да… Но как? Кирка, ответь, как?
Я не ответил. Я крепко обнял маленького Поликарпыча. И он, опираясь на палочку, пошел рядом со мной. Гордо вскинув голову. И на его груди вызывающе блестел орден «За оборону Сталинграда».
Потом Шурочка меня спросил об одном.
– Скажи, Кира. Честно скажи. Если бы все случилось лет десять назад, ее можно было бы спасти?
Я честно ответил.
– Во всяком случае, операцию сделали бы немедленно. А уж потом полагались бы на Бога.
– Значит, у нее был шанс. Значит, она могла бы жить, – тихо, но твердо сказал Шурочка. – Значит, ее просто убили.
– Знаешь, сколько бы могло жить… – я махнул рукой. – Впрочем, как на войне.
– Странная война, Кира. Односторонняя. Ведь никто даже не сопротивляется. Что с нами сделали, Кира?
Шурочке я тоже ничего не ответил. Потому что ответа не знал никто из нас…
Вскоре после смерти Галки на моего друга посыпались новые беды. Его родное КБ практически остановило работу, прекратив почти всю исследовательскую деятельность. Шурочкину научную группу попросту расформировали за нерентабельностью и полной ненадобностью стране. Профессионал, блестящий ученый и просто умница, мой товарищ Шурочка оказался на улице. Впрочем, после смерти жены он просто не воспринимал происходящее. И ничто уже не принимал за трагедию. Ему уже нельзя было сделать больнее.
Впрочем, как и Петька, Шурочка старался не забывать кто он. И поэтому не бросился организовывать сомнительные фирмы, не бросился воровать и спекулировать. Но поскольку достойной работы уже не предвиделось, он махнул на все рукой и решил стать продавцом книг.
– Во всяком случае, я не буду торговать тряпками, – оправдывался он. И успокаивал сам себя. – Все-таки книжки. Понимаете, ко всему прочему, я хоть имею возможность их читать. Это уже кое-что…
Вскоре Шурочка переключился на торговлю словарями и разговорниками. Потихоньку изучая иностранные языки. Однажды я его увидел за «любимой» работой. Бывший отличник учебы, бывший дипломированный инженер, бывший изобретатель и руководитель лаборатории одного из самых престижных НИИ, стоял под проливным дождем, согнувшись от холода в три погибели и бубнил себе под нос иностранные слова. Изредка доставая из кармана бутылку, чтобы согреться. А по радио бодрый дикторский голос радостно вещал об огромных возможностях, открытых нынче перед молодежью. Когда каждый запросто может иметь дополнительный заработок…
И вот сейчас мы втроем сидели на кухне, закусывая воспоминания солеными огурчиками. Мы праздновали свое поражение. Грузчик, продавец и без пяти минут гувернер. Бывший учитель, бывший инженер и бывший врач. Бывший поэт, бывший ученый и бывший музыкант. Три представителя некогда самых почитаемых профессий. «Из бывших…» – с горечью подумал я. Мы даже не могли позволить себе такую роскошь, как любимое дело. Мы даже не могли позволить себе такую роскошь, как любовь… Я уже не был женат, потому что развелся. Шурочка уже не был женат, потому что овдовел. А Петька не был женат, потому что уже просто не хотел. Мы все были свободны и от работы, и от любви. Но никто из нас не чувствовал счастья от этой свободы, потому что прекрасно знали ее цену… Наконец-то сбылась американская мечта по-русски. Когда уголовники и номенклатурщики превратились с бизнесменов и политиков, а из учителей, ученых, военных сделали мелких торговцев, грузчиков и нищих… Так мы отпраздновали свое поражение.
А утром, несмотря на свой вчерашний внутренний протест, я все-таки решил заделаться гувернантом. И тщательно побрился, проклиная себя. От этого стало легче. К тому же я успокаивал себя тем, что в любой момент могу плюнуть и уйти. Успокаивал себя, тем, что мне нужен хоть какой-то, пусть – временный, заработок для жизни и поиска более достойной работы. В конце концов, я же буду не слугой, а учителем музыки. Окончательно успокоившись, я поехал на свою новую работу.
Выйдя из электрички, я огляделся. И с жадностью вдохнул чистый утренний воздух. Когда еще я мог себе позволить каждый день бывать на природе! Гулять по березовой роще, любоваться влажной от утренней росы листвой, прикасаться к молочной коже стройных гибких деревьев, слушать веселый щебет птиц и щуриться от играющих на мокрых можжевельниковых кустах солнечных бликов. Когда еще я мог себе позволить вот так, просто наклониться к дереву, разгрести руками листву и аккуратно срезать подберезовик вместе с запахом леса и детства. Когда я еще мог позволить себе думать только о красоте мира, просто о земле и просто о небе. И обманываться, представляя, что в мире есть только земля и небо. И на земле лишь растут деревья и цветы. И в небе лишь летают птицы, да светит солнце… А все остальное – неправда и чья-то злая выдумка…
Сталлоне исходил лаем, злобным и истеричным. Я подумал, что ему нет места в мире его собратьев. И мысленно вычеркнул его из списка достойных… Эта привычка осталась еще с детства, когда я придумал один список достойных мира сего и второй – соответственно – недостойных. Когда меня кто-то раздражал, то я тут же мысленно заносил его в «черный» список. И тогда мне становилось легче. С таким человеком я разговаривал уже более спокойно, поскольку он был всего лишь ошибкой нашего мира. С которой лишь нужно было мириться, ведь мир без ошибок невозможен.
На пороге дома меня ждала Майя. При свете только что просыпающегося утра она выглядела еще неожиданней и прекрасней. Хотя на ней было одето такое же длинное простенькое ситцевое платьице. Разве что огненно-рыжие волосы были убраны под платок. Если бы она еще и улыбнулась, то мне было бы легче смириться со своим подневольным положением. Но, как и накануне, маска меланхоличного равнодушия по-прежнему застыла на ее бледном лице. Я протянул ей полную пригоршню только что собранных грибов, перепачканных землей и пахнувших свежим ароматом леса.
– Это вам, – вместо приветствия сказал я. – Вы не бойтесь… Я хорошо разбираюсь в грибах… Для супа они очень даже пригодны.
– Не бойтесь? – недоуменно повторила она. – Разве можно бояться грибов?
Я пожал плечами. Либо она была дурой, либо пыталась сделать идиота из меня.
Мы молча вошли в дом. У меня сложилось впечатление, что большую часть своей жизни она вообще молчит. И чтобы сгладить намечавшуюся паузу, я поинтересовался где Павел.
– Павел? А он вам разве нужен? Я думала, вы будете учить моего сына, а не мужа.
Ну, это уже слишком! За кого она меня принимает?!
– Ваш муж прекрасно разбирается в музыке, поэтому мне придется хоть чему-нибудь обучить вашего сыночка! – грубо отрезал я.
Она скользнула по мне бесстрастным взглядом. И так же бесстрастно ответила.
– Я очень люблю своего сына… И не позволю никогда и никаких грубостей по отношению к нему.
– Может, мне сразу уехать? – уже подчеркнуто вежливо спросил я.
– А вы что, грубиян?
– Пока за мной подобного не водилось. Но я знаю наверняка, чего не будет точно.
– И что же?
– Лакейства. Возможно, я себя не люблю. Но, поверьте, уж точно – уважаю. Поэтому со своей стороны требую того же и от других.
– Уважение нужно заслужить.
– А я думаю, что само понятие – учитель – уже подразумевает уважение. И если этого нет… Нам больше не о чем говорить. А заслуживать в вашем доме я ничего не собираюсь.
– Где, кстати, вам щедро намереваются платить.
О, уже откровенная ирония! Не такая уж она, беспристрастная леди. И вывести ее из себя не составило большого труда. И прежде чем уйти (что я уже намылился сделать), решил во чтобы то ни стало ее огорчить.
– Боюсь, вам придется платить кому-то другому. Я сегодня совершил огромную ошибку, приехав в ваш дом. Что ж, ошибкой больше, ошибкой меньше. Дело не в количестве ошибок, а в умении их вовремя исправлять. Здесь я уж поднаторел.
– Похоже, ваша вся жизнь – сплошная ошибка.
– Что вы знаете о моей жизни? – сквозь зубы процедил я. Эту дамочку я уже почти ненавидел. – Зато про вашу я могу многое рассказать. Подобные вам встречались, к сожалению, в моей жизни. И, к сожалению, с каждым годом встречаются все чаще.
– Подобные мне? Это уже интересно.
– Напротив, это неинтересно вовсе. Настолько неинтересно, что я с вашего позволения я поспешу откланяться.
– Вы же, насколько я знаю, пришли зарабатывать деньги. И насколько я понимаю, вас не волнуют хозяева.
– Хозяева? – я презрительно усмехнулся. – Вы… Вы – хозяева?! Кто вам сказал?! Кто?!
– Раз вы позволили себе прийти сюда, значит вы с этим согласны. Или вы мне сейчас начнете рассказывать о своем безвыходном положении? Может, оно и без выхода. Но… Разве не вы допустили все это? Разве не вы избрали для себя такой путь. Не оставив другого выбора: либо кланяться хозяевам, либо тихо умирать. Ведь третьего не дано.
Мне определенно не нравился такой разговор. Не нравился ее язвительный тон. Ее невозмутимость и спокойствие. И если минуту назад мне хотелось во что бы то ни стало ее разозлить, то теперь захотелось поскорее сбежать. От ее ироничных слов, от ее серьезного взгляда, от ее близости, которая волновала и отталкивала одновременно. И я бросился к выходу. Но тихий умоляющий детский голос заставил остановиться.
– Кирилл, пожалуйста, не уходи.
Я оглянулся и столкнулся взглядом с Котиком. Он стоял, прислонившись к дверному косяку соседней комнаты. Похоже, что он все слышал.
– Ты же обещал научить меня музыке. Ведь обещал, правда?
Это было правдой. С некоторых пор неустроенность жизни превратила меня в мнительного и неуверенного типа. При чем тут Майя, при чем ее муж, при чем в конце концов хозяева и слуги? Все гораздо проще. Я пришел научить музыке одного неплохого рыженького паренька. И я остался.
Уже в детской Котик сказал.
– Она не такая… Честное слово, Кирилл. Она не такая. Она добрая. Просто она все время от кого-то защищается.
О доброте Майи я бы поспорил. Но только не с ее сыном.
– Конечно, Котик. Я знаю, что твоя мама добрая. Я знаю.
– И еще… Можно вас попросить… Не обижайтесь, если она вас станет обижать. Хорошо? И, пожалуйста, не уходите…
– Неужели ты вдруг влюбился в музыку? – я потрепал мальчишку по рыжей шевелюре.
– Пока еще нет. Но… Но вдруг случится?
– В таком случае, с чего начнем? И каков ваш, молодой человек, запас знаний?
– Поиграй, Кирилл, что-нибудь. Ну, как бы для вдохновения.
Скорее всего, мальчишка лукавил. Ему явно не хотелось заниматься. Но взглянув на его печальное, не по-детски серьезное лицо, я сдался. И опустил руки на клавиши. И заиграл «Лунную сонату» Бетховена. Мне показалось, что именно эта музыка сейчас наиболее подходящая… Я воображал себя перед огромной аудиторией и постарался передать и печаль лунной ночи, и трагедию не наступившего утра, и бессмысленность ушедшего дня. Я играл вдохновенно. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось, чтобы паренек восхитился моей игрой. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось, чтобы он меня уважал. Чтобы он привязался ко мне по-настоящему. Мне вдруг захотелось быть кому-нибудь нужным. Мне захотелось кому-нибудь помочь. И в помощь я призвал Бетховена с трагизмом его «Лунной сонаты»…
Я опустил руки. И глубоко выдохнул. И оглянулся. Котик сидел на диване, поджав ноги, и смотрел куда-то мимо меня. За окно. В его глазах я ничего не увидел. Ни восхищения, ни удивления, ни уважения. В его глазах была отрешенность и пустота. Таким его я и встретил вчера. И таким он был сейчас. Бетховен мне не помог. Но я почему-то не разозлился, а просто вдруг почувствовал огромную усталость. И мне вдруг захотелось домой. Все здесь вновь стало чужим и нелепым. И громоздкий старомодный рояль, мимо которого по-прежнему шествовали толстые глупые утки, словно ухмыльнулся черно-белым оскалом. И я разозлился на себя, что дал слово не уходить.
– Ты здорово играл, – тихо сказал он и отвел взгляд. Он еще не научился лгать.
– Да, – ответил я. – Я действительно играл здорово. Жаль, что ты этого так и не услышал.
– Не обижайся на меня… Пожалуйста, – он поднял на меня глаза, полные мольбы.
– Ну хорошо, Котик. Давай немножечко поговорим. Слова иногда тоже нужны музыке. Согласен? Только честно, надеюсь, между нами все будет по-честному, так?
Он не ответил. Я и не ждал, потому что не хотел, чтобы Котька в очередной раз соврал.
– Котик, ты только скажи, тебя что-нибудь интересует? Например, литература? У меня, кстати, есть друг, он настоящий поэт.
Котик отрицательно покачал головой.
– Ну, в таком случае, может, ты мечтаешь стать изобретателем? Может, тебя интересует техника или что-то в этом роде. Кстати, мой второй друг – настоящий ученый. И если я его попрошу…
Котик вновь отрицательно покачал головой. Я уже начинал злиться.
– Но так не бывает, черт побери! В двенадцать лет так просто не может быть. Ну, не может и точка! Ну, ладно еще я могу позволить себе на все махнуть рукой! В конце концов, годы мне уже позволяют. Хотя какие это годы в иное время! Но сегодня… Сегодня количество разочарований тысячекратно превысило количество моих лет. Но и то! И то сегодня утром я вдруг обнаружил, что по-прежнему люблю собирать грибы. И не смейся, пожалуйста. Иногда именно такие мелкие, казалось бы, детали возвращают нас к жизни. Уж это я знаю точно. Так что подумай. Прошу тебя, подумай. Черт побери, что-то ведь ты должен хотеть и о чем-то мечтать!
– Мне мечтать не о чем, – опять его бесстрастный голос. – У меня все есть.
– А ты разве, милый мальчик, не знал, что мечты это совсем другое. Им нельзя назвать цену. И они не определяются чем-то, выраженным в деньгах и вещах! Ну, же, подумай?!
– Ну, хорошо, – Котик отвел взгляд. – Я мечтаю досконально изучить анатомию.
– Что? – изумился я, не ожидая такого поворота. – Странный выбор. Впрочем…Ты, как я понял, мечтаешь стать врачом?
– Нет… Наверное, нет… У меня не получится. Я боюсь крови.
– Тогда я не понимаю.
– Ну, в общем… Я хочу понять, почему умирают люди.
– Может, в таком случае тебе следует обратиться к религии?
– Не знаю, – Котик опустил взгляд. – Я хочу знать, почему умирают хорошие люди?
– Котик, – я приподнял слегка его подбородок вверх и посмотрел прямо в глаза. – Ты хочешь что-то сказать?
Котик резко дернул головой.
– Я ничего не хочу сказать, – буркнул он. – Вы сами прицепились ко мне со своими дурацкими вопросами.
– Хочешь. Я поговорю с твоими родителями, и они отстанут от тебя. И тебе не нужно будет заниматься больше музыкой.
– Нет!.. Пожалуйста, нет… К тому же тогда они найдут другого учителя. Так лучше уж вы. Правда. И потом, даже если вы не научите меня играть… Вы сможете меня научить любить музыку…
В обед Майя накормила нас грибным супом. Который пах все той же березовой рощей и приближающейся осенью. Уже уходя, я задержался в дверях и тихо обронил:
– Кстати, ваш сын мне сказал, что вы очень добрая, Майя.
– Ну, как сын, он имеет право на преувеличение. Разве не так, – ехидно ответила она.
Я слегка поклонился. И, решив не начинать новый виток напряженности, развернулся и вышел.
Времени у меня было уйма, и я решил прогуляться по поселку. Очень хотелось узнать, в каком все-таки доме работаю. Заметив издалека вывеску «Аптека», я поспешил туда. Тем более, меня не покидало чувство, что Котик что-то скрывает. Ведь не зря он обмолвился об анатомии и о смерти. Меня тяготило подозрение, что мальчишка болен. А опровергнуть или подтвердить это могли здесь только в аптеке. Главное – умело спросить.
Я открыл тяжелую дверь и очутился в чистеньком, стерильном, пахнущем дорогими лекарствами, помещении. За прилавком сидела такая же чистенькая и стерильная молоденькая аптекарша. Она была увлечена своими ногтями, ловко действуя пилочкой, и даже не подняла головы, когда я вошел.
– Здравствуйте, – громко выкрикнул я.
Она подняла глаза и оглядев меня с ног до головы и, тут же сообразив, что я не из местных миллионеров, не удосужилась даже дежурно улыбнуться.
– Я вас слушаю, – лениво пропищала она.
Девушка была очень молоденькой, очень хорошенькой и очень ухоженной. И что сразу было видно – не одинокой. И отлавливать кавалеров не считала нужным. Мне же ничего не оставалось, как назвать первое на ум пришедшее название лекарства.
– Надеюсь, в такой прекрасной аптеке найдется маленький флакончик валерьянки.
Она тут же назвала цену. И выжидающе на меня посмотрела. Да уж, цена валерьянки превосходила все возможные достоинства лекарства и превышала все мыслимые размеры.
– Ну и? – усмехнулась она.
– Что, ну и? – не выдержал я.
– В городе вам купить, думаю, будет проще, не так ли?
– А вас давно, милая девушка, научили заглядывать в чужие карманы? – я решил принять другую тактику. Поскольку с подобными разбалованными и наглыми девицами следовало разговаривать в другом тоне. – Так что побыстрее меня обслужите, ведь ваша профессия, смею заметить, в том и заключается. Не более. Мне жаль, что мой лучший друг дал вашей аптеке такую хорошую рекомендацию. Думаю, он ошибся. Кстати, на ваше место найдется много желающих.
В ее хорошеньких пустых глазенках мелькнул неприкрытый испуг.
– Друг? Извините, за любопытство…
– Извиняю. Мой друг Павел Ледогоров.
– Паша! – воскликнула она и тут же покраснела. И тут же в ее глазках испуг пропал. И она облегченно улыбнулась. И пришла моя очередь удивляться. Паша! Как трогательно. И явно неспроста.
– Надеюсь, не ему понадобилась валерьянка, – уже дружелюбно, почти фамильярно спросила она. И хихикнула.
– Правильно надеетесь, – я не сбавлял темпы. Удача плыла мне в руки. И я надеялся вскоре что-то узнать. – У Пашки крепкие нервы.
– Что не скажешь о его милой женушке, – она мне подмигнула.
Упоминание о Майе, да еще таким тоном, мне не понравилось. Но пришлось подыграть.
– Да уж, не скажешь.
– Бедненький, как он с ней мучается, – вздохнула притворно аптекарша. – И позор-то какой… При его положении…
– Ну, милая, я не знаю подробности. Мы с Павлом друзья детства. А поскольку я лишь вчера вернулся из Швейцарии, где жил долгие годы…
Она вновь недоверчиво оглядела меня с ног до головы, не понимая, почему такое носят в Швейцарии.
– И как приятно вновь оказаться на родине, – перебил я ее взгляд. – И вновь, вот так просто, с самого раннего утра отправиться по грибы… Какие здесь чудесные места!
Чудесные места ее явно меньше всего волновали. Но она облегченно вздохнула, сообразив, что по швейцариям я в таком виде не разгуливал.
– Так вы, говорите, вам нужна валерьянка? – уже более почтительно спросила аптекарша. – Уж не для Майи ли?
– Неужели она нуждается в валерьянке? – я вновь решил направить разговор в нужное русло.
– Нет, думаю в валерьянке она не нуждается, – язвительно ответила продавщица. – Ей, наверняка, нужны успокоительные посильнее.
– Неужели ее дела так плохи? – в моем голосе послышались нотки тревоги.
– Ну, когда молодая женщина три раза пытается покончить с собой…
Покончить с собой! Неожиданно! И я вспомнил Котика, бросающегося под автомобиль. Нет, таких совпадений не бывает.
– Покончить с собой, – задумчиво протянул я. – И вы, милая, безусловно, знаете причину столь неординарных поступков?
– Причину? Какую причину! Ясно, что она сумасшедшая. Тут все говорят об этом. Какой дурак наложит на себя руки при таком богатстве.
Я внимательно посмотрел на аптекаршу. Глупая, пустая кукла. Уж она точно на себя никогда не наложит руки. Скорее вопьется другому в горло, чтобы не упустить свое. Но высказать вслух столь лестные для нее мысли я не мог, поскольку во что бы то ни стало хотел добыть информацию.
– Ну, она надеюсь, хотя бы лечилась…
– Лечилась? Может быть… Но они все держат в такой тайне…
– А я то думал, что у Паши от вас нет никаких тайн.
– А от вас? – усмехнулась она. – Кстати, не думаю, что ему понравится, когда он узнает, что вы тут все вынюхиваете про его милую женушку.
– Но еще менее ему понравится, милая, когда он узнает, что все сплетни о его семье распускаете именно вы, – я премило улыбнулся ей в ответ.
– Но ведь он никогда ничего не узнает? – она настороженно впилась в меня своими пустыми глазками.
– Умница вы моя, – и я даже позволил себе привольный жест и потрепал ее по румяной щечке. И она резко отпрянула. И скривилась.
– Кстати, девушка, – я не выдержал и уже в дверях задержался. – Часто ли в вашем благополучном поселке болеют?
– А вам зачем? – удивленно спросила аптекарша.
– Да так… Просто хотелось узнать, насколько быстро разоряются обитатели столь престижных коттеджей. От всей души вам желаю хорошего бизнеса.
Громко хлопнуть дверью на прощание мне так и не удалось. Двери нынче везде одинаково тяжелые и трудно открываемые…
В город я приехал в прескверном настроении. То, что удалось узнать, вселяло тревогу и опасение. Я много думал об Майе. Мне много приходилось видеть на своем веку людей с отклонениями психики. И я практически всегда безошибочно мог определить диагноз. Но Майя… Нет, тут что-то было не так. Я вспоминал ее холодный, отрешенный взгляд. Ее ироничные фразы, ее желание все время защищаться, как правильно заметил Котик. Да, именно защищаться. От внешнего мира, от встречных людей, пожалуй, и от себя. Но нарушений… Явных нарушений здесь не было. Конечно, депрессивное состояние вполне можно допустить. Но я в жизни бы не сказал, что эта женщина готова наложить на себя руки. Подобных больных я изучил, и с суицидальным синдромом сталкивался не один раз, когда еще практиковал в клинике. Впрочем, я уже давно не практикую, и начал уже терять профессиональные навыки. Может, этим и объяснялось то, что я не определил характерные признаки нарушения психики. Черт побери! Ведь не один же раз она собиралась наложить на себя руки. Если бы один-то вполне могла быть определенная причина. Но три раза… Это уже очень серьезно. И, если она где-то лечилась, то только в самой престижной клинике. А самой престижной и дорогой на сегодняшний день была моя бывшая. И я не раз шутил по этому поводу. Едва я ее покинул – там сразу же дела пошли на лад. Хотя, все было, конечно, гораздо проще. Ее просто купили с потрохами, как и моего давнего приятеля-главврача, любителя симпатичных девушек и симпатичной музыки… Пожалуй, пришло время обратиться к нему.
С этими обнадеживающими, хоть и невеселыми мыслями я решительно шел по направлению к своему подъезду и даже поначалу не услышал, как меня окликнули.
– Ну же! Кира! Ты что – глухой! – наконец услышал я позади себя капризный писклявый голосок. И оглянулся.
И увидел высокую, здоровую девицу, развязно облокотившуюся о крыло новенького спортивного Альфа-Ромео. Яркая блондинка, вызывающе накрашенная, в коротком ярко-красном блестящем платье, явно надетом под цвет такого же ярко-красного автомобиля. Естественно я ее не узнал.
– Ну же, Кира, – протянула она с каким-то неопределенным акцентом. – Ты что, старых подружек не узнаешь.
Ну, если мои старые подружки такие, куда я вообще тогда качусь, с тоской подумал я. И нехотя приблизился к девушке. Вблизи, несмотря на дорогое оперение и вызывающий окрас, я наконец-то ее узнал. И мне оставалось разве что громко присвистнуть.
– Ты что ли, Санька?!
Она в ответ обиженно надула свои накрашенные полные губы.
– Не Санька, а Сандра, пора бы тебе знать.
Ого! Уже Сандра! И этот дорогущий автомобиль, и этот лоск, конечно, чертовски вульгарный, но тем не менее… Да, денежным купюрам все-таки пора поставить памятник. Что они вытворяют! Если из такого чучела, такой дурнушки что-то удалось слепить.
Сколько я жил, столько я знал Саньку. Она выросла с нами в одном дворе. И все ее ужасно жалели. Пожалуй, она была самая некрасивая девчонка в нашем доме. Толстая, высоченная, неуклюжая и к тому же самая глупая. Только из жалости учителя переводили ее из класса в класс, и она с горем пополам закончила восьмилетку. Потом долго работала на швейной фабрике и наконец, когда ее мать с гордостью сообщила о том что она выходит замуж, все облегченно вздохнули. Этого никто не ожидал. Насколько я помню, он был поваром какого-то захудаленького кафе. Куда она иногда забегала с девчонками после работы. Видели мы его один раз на свадьбе. Одного с ней роста, мордоворот с ужасно тупым взглядом, он все время что-то жевал и в перерывах что-то бессмысленно мычал. В общем, все тут же решили что они будут счастливы. После свадьбы они съехали на какую-то квартиру, и о них практически ничего не было слышно. Иногда Санькиной маме, одинокой и нелюдимой Анне Гавриловне, соседи задавали вежливые вопросы, но вразумительного ответа так и не получали. И про Саньку как-то потихоньку стали забывать. Пока однажды, то есть сегодня, она не появилась на красном новеньком лимузине, перекрашенной блондинкой. Даже похудевшая и похорошевшая. И я мысленно в очередной раз пропел дифирамбы зеленым бумажкам. Они на сей раз и впрямь сделали невозможное.
– Значит ты уже Сандра! – с явным сарказмом переспросил я. Но Санька как всегда ничего не поняла.
– Ну! – она с гордость встряхнула крашеными волосами. – Именно, Сандра!
И она даже умудрилась покрутиться на месте, чтобы я оценил ее вид по достоинству.
– Неужели бросила своего повара? – я не унимался язвить.
– Ха! Как бы не так! Напротив, я теперь его ни за что не выпущу.
И она показала свои по-прежнему здоровенные кулаки. И я понял, что бедный повар попался.
– И с каких пор жены кулинаров так хорошо живут.
– Кулинаров! – Санька презрительно скорчила свою мину. – Как бы не так! Тоже мне – кулинаров! Да если хочешь знать, он теперь ресторанный маг… маг… маграт! Вот!
И она облегченно выдохнула, справившись с непонятным иностранным словом.
– Ты хочешь сказать – магнат?
– Именно! Он теперь хозяин целой сети самых модных столичных ресторанов! Может, слышал – «Пицца-хват»?
– Вот так-так! – с притворным восхищением я округлил глаза. – И как это удается выпускникам кулинарного техникума?!
– А вы у нас ума наберитесь, интеллигентики, – она презрительно оглядела меня с ног до головы. – То же мне, щеголяли своими знаниями. Я то помню, все передо мной умников корчили, стишки читали, музычку сочиняли! Ну и где ваши стишки и музычка! Я вижу на тебе джинсы, которые ты еще в своем дурацком институте носил!
Пожалуй, если бы я услышал такое от кого-то другого, то обиделся и въехал по уху. Но Санька… Чучело и тупица… Она была настолько ничтожна, что серьезно относиться к ней я просто не мог.
– Ну ничего, Санька, теперь-то ты нам отомстила, – почти дружественно ответил я ей.
Если Бог и хотел для наглядности создать пример совершенного идиотизма, то с Санькой у него все получилось на славу. И я огляделся, чтобы придумать какой-нибудь предлог. И заметил Василия Николаевича, соседа по подъезду, старенького учителя-пенсионера. Он в который раз прогуливался вдоль мусорных баков взад-вперед, смущенно оглядываясь по сторонам. Я знал, что ему ужасно стыдно копаться в мусоре, но иначе на свою – честно заработанную – пенсию ему просто-напросто не прожить. Что ж, плата за добродетель, ум и талант оказалсь слишком высокой… И я повернулся спиной к учителю, сделав вид, что ничего не заметил. И вновь столкнулся нос к носу с женой кулинара, разодетой тупоголовой идиоткой, развязно опирающейся своей мускулистой рукой на шикарный автомобиль. А ведь Василий Петрович был ее учителем долгие годы. Именно он хлопотал за нее, чтобы с горем пополам переводить ее из класса в класс. Санька перехватила мой взгляд и наконец удостоила вниманием своего учителя.
– Получил свое, старый придурок, – удовлетворенно хмыкнула она. – Представляешь, он мне не раз при всем классе заявлял, что я сильная и здоровая, поэтому смогу стать достойным представителем рабочего класса. И свое будущее смогу обеспечить, ежегодно по бесплатным путевкам отдыхая в какой-нибудь захудалом Крыму, а лет через пять получу жалкую однокомнатную квартирку. Ну и будущее же он мне нарисовал! Как бы не так!.. Вот пусть и копается в мусорных баках. А я только вчера вернулась из Лос-Анжелеса! Ха! И он еще мне постоянно указывал, что я никак не могла отличить Америку от Азии! А я между прочим полсвета объездила и до сих пор не могу отличить! И мне глубоко наплевать! А он, прекрасно разбираясь в своей географии, пусть сейчас покопается в дерьме. Может, подойти, поздороваться к нему, а?
Я схватил ее за руку и до боли сжал ее. Так, что Санька вскрикнула.
– Не смей к нему подходить! Тебе говорю – не смей!
– Фу, дурак, отпусти! Не пойду я к нему, больно нужно! Еще помрет от зависти!
– Допускаю, что он может умереть, увидев тебя. Особенно ему горько будет за годы, потраченные на таких, как ты. И откуда вы такие взялись, ответь мне, Санька?
– Мы просто, в отличие от вас, прекрасно разбираемся в жизни. А вы всего лишь разбирались в искусстве и науках. А жизнь и без искусства, и без наук может запросто идти своим ходом. А вот науки без жизни… Вот вы теперь и прозябаете, а мы просто живем. И, кстати, неплохо. Можешь сам убедиться. Приглашаю в гости! По-настоящему тогда поймешь, чего я стою! Мы новый домище отгрохали! Полмира объездили, чтобы мебель себе выбрать! Кстати, оформили в английском стиле! Представляешь, я сама придумала – золотая люстра, ну как у Людовика, и черные в золотые цветы занавески. Правда, красиво! А мне какая-то дура сказала, что не соответствует! Завидует!
– Поэтому у тебя такой акцент? Английский стиль требует?
– А ты что, хочешь, чтобы я с волжским болтала! Дудки! Я вращаюсь в высших кругах общества!.. Все завидуют!
– Ну, конечно! Завидуют, точно! Только я не пойму при чем тут Людовик? Насколько я помню, он был королем в Париже?