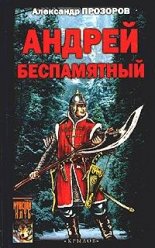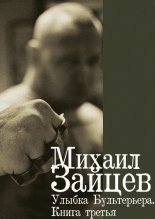Нехорошее место Кунц Дин

Именно так действовал на Томаса приезд Джулии.
«Черт, да и на меня она действует точно так же», – подумал Бобби.
Чуть наклонившись, Джулия обняла брата, когда он подошел к ней, они постояли, прижавшись друг к другу.
– Как ты? – спросила она.
– Хорошо, – ответил Томас. – У меня все хорошо, – говорил он невнятно, но понять его не составляло труда, потому что язык у него не столь деформировался, как у некоторых больных СД[7]. Он был чуть больше, чем следовало, но не трескался и не вываливался изо рта. – У меня действительно все хорошо.
– Где Дерек?
– В гостях. В комнате по коридору. Он вернется. У меня действительно все хорошо. А у тебя?
– И у меня, сладенький. Все отлично.
– И у меня отлично. Я люблю тебя, Джулия! – радостно воскликнул Томас, потому что с Джулией он напрочь лишался застенчивости, которой хватало при общении с кем-либо еще. – Я так сильно тебя люблю.
– Я тоже люблю тебя, Томас.
– Я боялся… может, ты не приедешь.
– Но я же всегда приезжала.
– Всегда, – согласился он. Наконец-то отпустил сестру, высунулся из-за нее. – Привет, Бобби.
– Привет, Томас. Ты отлично выглядишь.
– Правда?
– Чтоб мне умереть, если я вру.
Томас рассмеялся. Сказал Джулии: «Он такой веселый».
– Меня тоже обнимут? – спросил Бобби. – Или я так и буду стоять с распростертыми руками, пока кто-то не примет меня за вешалку?
С неохотой Томас отошел от Джулии. Обнялся с Бобби. Даже после всех этих лет Томас все еще не чувствовал себя комфортно в компании с Бобби, и не потому, что они недолюбливали друг друга или между ними пробежала черная кошка. Просто Томас не любил перемен и привыкал к ним очень уж медленно. По прошествии семи лет замужество сестры оставалось для него переменой, к которой он все еще продолжал привыкать.
«Но он меня любит, – подумал Бобби, – возможно, так же сильно, как я – его».
Любить больных СД не составляло труда, особенно после того, как человек переступал через жалость, которую они вызывали, потому что в большинстве своем их отличали наивность и простодушие, которые располагали к себе. Если исключить застенчивость, вызванную осознанием, что они не такие, как все, больные СД обычно более прямолинейны, более честны, чем здоровые люди, не способны на социальные игры и интриги, которые так портят взаимоотношения «обычных» людей. Прошлым летом здесь же, в «Сиело виста», мать одного из пациентов сказала Бобби: «Иногда, наблюдая за ними, я думаю, что есть в них какая-то мягкость, какая-то особая доброта, благодаря которой они ближе к Богу, чем любой из нас». И Бобби чувствовал правоту ее слов, обнимая Томаса и глядя сверху вниз на его доброе обрюзгшее лицо.
– Мы помешали тебе сочинять стихотворение? – спросила Джулия.
Томас отпустил Бобби и поспешил к столу, где Джулия смотрела на журнал, из которого в момент их прихода он вырезал картинку. Открыл альбом, с которым работал, четырнадцать других, заполненных его произведениями, стояли в книжном шкафу у его кровати, и указал на двухстраничный разворот, полностью заклеенный вырезанными фотографиями, которые были расположены группами по нескольку рядов, как стихотворные строфы.
– Это вчерашнее. Закончил вчера, – объяснил Томас. – Отняло у меня много времени, давалось очень трудно, но зато получилось… как надо.
Четырьмя или пятью годами раньше Томас решил, что хочет стать поэтом, таким же, как какой-то человек, которого он увидел по телевизору и пришел в восторг. Степень умственной неполноценности среди больных синдромом Дауна сильно разнилась, от легкой до полного слабоумия. Томас был, конечно, умнее многих, но не мог научиться читать, а писал, да и то с трудом, только собственное имя. Но его это не остановило. Он попросил бумагу, клей, альбом и много старых журналов. Поскольку он редко о чем-то просил – а Джулия сдвинула бы горы, лишь бы ее брат получил все, что ему требовалось, – очень скоро пожелания Томаса были выполнены. «Разные журналы, – сказал он, – с красивыми картинками… но и со страшными тоже… со всякими». Из «Тайм», «Ньюсуик», «Лайф», «Хот рок», «Омни», «Севентин» и дюжины журналов других наименований он вырезал целые картинки и части картинок, раскладывал и приклеивал их так, словно они были словами, создавая некие последовательности образов, которые значили для него что-то важное. Некоторые «стихотворения» состояли из пяти картинок, на другие уходили сотни, причем, приклеенные, они действительно напоминали целые поэмы, написанные белым стихом.
Джулия взяла у него альбом и отошла к креслу у окна, чтобы сосредоточиться на его последнем сочинении. Томас остался у стола, озабоченно наблюдая за ней.
Его стихотворения в картинках не рассказывали какую-либо историю, не создавали некую последовательность образов, но при этом и не возникало ощущения, что Томас бездумно клеил в альбом все подряд. Шпиль церкви, мышь, красивая женщина в изумрудном вечернем платье, поле маргариток, банка с колечками ананаса в сахарном сиропе компании «Доул», горка сдобных булочек, рубины, сверкающие на черном бархате в выставочном стенде, рыба с раззявленным ртом, смеющийся ребенок, молящаяся монахиня, женщина, плачущая над убитым на бог знает какой войне, пачка леденцов «Лайф-сейверс», щенок с обвисшими ушами, одетые в черное монахини с накрахмаленными белыми апостольниками… из этих и из тысяч других картинок, которые лежали в коробках, Томас выбирал элементы для своих композиций. С самого начала Бобби видел какую-то сверхъестественную правильность многих из выбранных Томасом сочетаний, ощущал в них какой-то глубокий и одновременно наивный, пусть и недоступный ему смысл, улавливал какой-то загадочный ритм, но, увы, на том все и заканчивалось. Тем не менее Бобби мог поклясться, что с годами стихотворения становились лучше, мастерство Томаса, несомненно, росло, хотя сам он по-прежнему ничего в них не понимал и не мог объяснить, на каких основаниях делал такой вывод. Наверное, срабатывала не логика, а интуиция, если не сказать шестое чувство.
Джулия оторвалась от двухстраничного стихотворения.
– Это прекрасно, Томас… Когда я смотрю на него, мне хочется… выбежать из дома на траву… стоять под бездонным небом и, может, даже танцевать. Или просто откинуть голову назад и смеяться. Это стихотворение заставляет меня радоваться тому, что я живу.
– Да! – воскликнул Томас и хлопнул в ладоши.
Она передала альбом Бобби, и он присел на край кровати, чтобы «прочитать» последнее творение Томаса.
Самая удивительная особенность стихотворений Томаса заключалась в том, что они неизбежно вызывали эмоциональный отклик. Ни одно не оставляло читателя безучастным, как оставили бы бездумно собранные воедино образы. Иногда, глядя на работы Томаса, Бобби смеялся, случалось, они так трогали его, что он едва сдерживал слезы, бывало, испытывал страх, грусть, сожаление, удивление. Он не знал, почему именно так реагировал на то или другое стихотворение; эффект никакому анализу не поддавался. Композиции Томаса воспринимались на каком-то первичном уровне, находя отклик в еще более глубинных областях разума, чем подсознание.
Последнее стихотворение не стало исключением. Бобби почувствовал то же самое, что и Джулия: жизнь прекрасна, мир прекрасен, сам факт существования – радость.
Он поднял голову и увидел, что Томас ждет его комментариев с тем же нетерпением, с каким ждал комментариев Джулии, то есть мнение его для Томаса так же важно, как и ее, пусть он еще и стеснялся крепко и долго обнимать его, как обнимал сестру.
– Вау! – мягко ответил Бобби. – Томас, от этого стихотворения возникает такое теплое, трепетное чувство… Действительно, так и хочется выбежать на траву.
Томас заулыбался.
Иногда Бобби смотрел на брата жены и думал, что этот, увы, деформированный череп делят два Томаса. Томас первый, идиот, милый, но слабоумный, и Томас второй, такой же умный, как все нормальные люди, но занимал он только малую часть поврежденного мозга, который делил с Томасом первым, центральную часть, откуда у него не было прямого контакта с окружающим миром. Все мысли Томаса второго фильтровались через ту часть мозга, что принадлежала Томасу первому, и на выходе они не отличались от собственных мыслей Томаса первого. Вот почему мир мог узнать о существовании Томаса второго лишь благодаря стихотворениям-картинкам, квинтэссенции которых удавалось сохраниться даже после фильтрации через часть мозга, принадлежащую Томасу первому.
– У тебя такой талант. – Бобби говорил серьезно… почти завидовал.
Томас покраснел и опустил глаза. Поднялся и, волоча ноги, поспешил к мягко жужжащему холодильнику, который стоял у двери в ванную. Кормили пациентов в общей столовой, где по их просьбам подавали прохладительные напитки и закуски, но тем пациентам, умственные способности которых позволяли содержать комнаты в чистоте, разрешалось иметь собственные холодильники, наполненные любимыми напитками и закусками. Самостоятельность и независимость пациентов, насколько позволяли их возможности, в интернате только приветствовались. Он достал три банки коки. Одну дал Бобби, вторую Джулии, с третьей вернулся к рабочему столу, сел, спросил:
– Вы ловили плохишей?
– Да, продолжаем наполнять ими тюрьмы, – ответил Бобби.
– Расскажите мне.
Джулия, сидевшая в кресле, наклонилась вперед, Томас пододвигал к ней стул с прямой спинкой, пока их колени не соприкоснулись, после чего она рассказала о событиях, происшедших прошлой ночью у здания «Декодайн корпорейшн». В ее рассказе Бобби показал себя куда большим героем, чем на самом деле, свою роль она несколько приуменьшила, не из скромности, но для того, чтобы не пугать Томаса слишком уж красочным описанием опасности, которой подвергалась. По-своему Томаса тоже отличал сильный характер. В противном случае он бы давно лежал на кровати, свернувшись калачиком, уставившись в угол и отказываясь подняться. Но потерю Джулии он бы не перенес. Сама мысль о ее уязвимости стала бы для него страшным ударом. Поэтому об автомобильной атаке и стрельбе она рассказывала с юмором, и реальные события в ее изложении превращались в фильм с обязательным счастливым концом. Бобби ее версия позабавила ничуть не меньше, чем Томаса.
Но какое-то время спустя Томас более не мог воспринимать тот поток информации, который продолжала изливать на него Джулия, и рассказ для него стал уже не забавным, а утомительным.
– Я наполнился, – сказал он.
Фраза эта означала, что он пытается переварить услышанное, но для продолжения места в его голове уже не осталось. Томаса притягивал мир за стенами «Сиело виста», часто ему хотелось стать его частью, но одновременно он находил этот мир слишком громким, слишком ярким, слишком многокрасочным, чтобы воспринимать его в больших дозах.
Бобби достал из книжного шкафа один из альбомов, сел на кровать, читая стихотворения-картинки.
Томас и Джулия сидели, как прежде, соприкасаясь коленями, отставив банки коки, взявшись за руки, иногда глядя друг на друга, иногда нет, ощущая близость друг к другу. Джулии эти ощущения требовались никак не меньше, чем Томасу.
Мать Джулии погибла, когда ей исполнилось двенадцать лет. Ее отец умер восемь лет спустя, за два года до того, как Бобби и она поженились. Ей тогда было только двадцать, она работала официанткой, чтобы иметь возможность оплачивать обучение в колледже и однокомнатную квартиру, которую снимала на пару с другой студенткой. Родители ее не были богатыми, хотя и оставили Томаса дома. На его содержание и ушли практически все их небольшие накопления. Когда умер отец, Джулия не могла снимать квартиру для себя и Томаса, не говоря уже о том, чтобы оплачивать дорогостоящие услуги по уходу за ним, поэтому ей пришлось отдать брата в интернат для умственно неполноценных детей, который содержался на средства штата. И хотя Томас ничем не выражал своей обиды, сама она рассматривала принятое ею решение как предательство.
Джулия собиралась защитить диплом по криминалистике, но на третьем году обучения ушла из колледжа и перевелась в академию шерифов. Четырнадцать месяцев проработала помощником шерифа, прежде чем встретила Бобби и вышла за него замуж. Жила она, перебиваясь с хлеба на воду, совсем как какая-то бомжиха, экономя каждый цент, в надежде скопить сумму, достаточную для покупки дома, в котором могла бы жить с Томасом. Вскоре после их свадьбы, когда частное детективное агентство сменило название, из «Дакота инвестигейшнс» превратилось в «Дакота-и-Дакота», они перевезли Томаса к себе. Но нормированного рабочего дня у них не было, работали они, сколько требовало то или иное расследование, а больным СД, пусть они что-то и могли делать самостоятельно, требовался постоянный присмотр. Стоимость трех квалифицированных сиделок оказалась даже выше, чем стоимость содержания в таком первоклассном интернате, как «Сиело виста», но они предпочли бы сиделок, если б смогли найти надежных и квалифицированных. Когда окончательно стало ясно, что работать, иметь личную жизнь и обеспечивать Томасу должный уход невозможно, они привезли его в «Сиело виста». И хотя трудно было представить себе более комфортабельный интернат, Джулия сочла, что вторично предала брата. А тот факт, что в «Сиело виста» он был счастлив, буквально расцвел, не уменьшало ее чувство вины.
Одна часть Мечты, немалая часть, состояла в том, чтобы иметь свободное время и достаточные материальные ресурсы, позволяющие забрать Томаса из интерната и перевезти домой.
Бобби оторвался от альбома, когда Джулия спросила:
– Томас, ты не хотел бы погулять с нами?
Томас и Джулия по-прежнему держались за руки, и Бобби увидел, как при словах Джулии напряглись пальцы Томаса.
– Мы могли бы съездить к океану. Погулять по берегу. Поесть мороженого. Что скажешь?
Томас нервно глянул на ближайшее окно, за которым синело чистое небо и летали морские чайки.
– Снаружи плохо.
– Немного ветрено, сладенький.
– Я не про ветер.
– Мы отлично проведем время.
– Снаружи плохо, – повторил он и начал жевать нижнюю губу.
Иногда он стремился выйти в мир, но случалось, что боялся его, словно в воздухе за пределами «Сиело виста» распылили сильнейший яд. Переубедить Томаса, когда у него возникал приступ агорафобии[8], не представлялось возможным, и Джулия более не настаивала.
– Может, в следующий раз.
– Может. – Томас смотрел в пол. – Но сегодня там действительно плохо. Я… это чувствую… плохое… у меня по коже бежит холод.
Какое-то время Бобби и Джулия пытались заговаривать на разные темы, но Томас не откликался. Молчал, не шел на визуальный контакт, не подавал вида, что слышит их.
Наконец в комнате повисла тишина, которую Томас разорвал лишь через несколько минут:
– Не уходите пока.
– Мы не уходим, – заверил его Бобби.
– Если я не могу говорить… это не значит, что я хочу, чтобы вы ушли.
– Мы это знаем, малыш, – ответила Джулия.
– Я… вы мне нужны.
– Ты тоже мне нужен. – Джулия подняла одну из рук брата, с толстыми пальцами, и поцеловала костяшки.
Глава 16
Купив электрическую бритву в аптечном магазине, Фрэнк Поллард побрился и умылся в туалете автозаправочной станции. Потом остановился у торгового центра, купил чемодан, нижнее белье, носки, пару рубашек, джинсы, разные мелочи. На автомобильной стоянке у торгового центра, где украденный «шеви» раскачивало порывами ветра, уложил все покупки в чемодан. Поехал в мотель в Ирвайне, снял номер на имя Джорджа Фарриса, воспользовавшись одним из двух комплектов документов, расплатился наличными из-за отсутствия кредитной карточки. Зато наличных хватало с лихвой.
Он мог бы остаться в окрестностях Лагуны, но чувствовал, что подолгу задерживаться в одном месте нельзя. Возможно, его осторожность основывалась на опыте, который дался дорогой ценой. А может, он бежал так долго, что, останавливаясь, более не чувствовал себя в своей тарелке.
Номер мотеля оказался большим, чистым, у дизайнера интерьера был хороший вкус. Белое дерево, светло-синяя и персиковая обивка стульев, светло-зеленые занавески. Общий стиль был подпорчен разве что коричневым в крапинку ковром, выбранным лишь потому, что хорошо скрывал пятна. В результате создавалось ощущение ирреальности, казалось, что легкая, воздушная мебель не стоит на темном ковре, а парит над ним.
Запершись в номере, Фрэнк просидел на кровати, подложив под спину гору подушек. Телевизор он включил, но не смотрел на экран. Вместо этого пытался заглянуть в черную дыру собственного прошлого. Старался изо всех сил, но не мог вспомнить ту часть своей жизни, что предшествовала его пробуждению в темном проулке прошлой ночью. Какой-то странный и крайне враждебный образ формировался на границе воспоминаний, и Фрэнк с неохотой начал склоняться к мысли, что, возможно, в его случае потеря памяти – счастье.
Ему требовалась помощь. С учетом дорожной сумки, набитой долларами, и двух комплектов документов он полагал, что к властям обращаться неразумно. Взял с одного из прикроватных столиков увесистый том «Желтых страниц», просмотрел раздел частных детективов. Но слова эти, «частный детектив», вызывали в памяти фильмы с Хэмфри Богартом[9] и казались анахронизмом в этот современный век. Как человек в длинном пальто и широкополой шляпе сумеет помочь ему вернуть память?
В конце концов под завывания ветра Фрэнк вытянулся на кровати, чтобы компенсировать хотя бы часть сна, которого его лишили прошлой ночью.
А несколько часов спустя, примерно за час до наступления темноты, внезапно проснулся, вскрикивая, жадно ловя ртом воздух. Яростное биение сердца грозило разнести грудную клетку.
Сев и перекинув ноги через край кровати, он увидел, что руки его влажные и алые. На рубашке и джинсах появились пятна крови. Часть крови, но, несомненно, не вся была его собственной, потому что на обеих руках кровоточили глубокие царапины. Саднило лицо, и в ванной в зеркале над раковиной он увидел две длинные царапины на правой щеке, третью – на левой, а четвертую – на подбородке.
Он не мог понять, как такое могло случиться с ним во сне. Он сам поцарапал себя в снящемся ему кошмаре? Но он не помнил никакого кошмара, и никто другой не мог подобраться к нему и так расцарапать, потому что он бы сразу проснулся. Получалось, что он бодрствовал, когда все это произошло, а потом вновь улегся на кровать и заснул, полностью забыв про этот инцидент, точно так же, как полностью забыл свою жизнь до того момента, как очнулся в проулке прошлой ночью.
В панике он вернулся в спальню, обошел кровать, заглянул в стенной шкаф. Не знал, что искал. Возможно, труп. Не нашел ничего.
Сама мысль об убийстве вызывала у него тошноту. Он знал, что не способен убить, разве что при самозащите. Тогда кто расцарапал ему лицо и руки? Чья на нем кровь?
Фрэнк вновь прошел в ванную, снял испачканную одежду, скрутил и связал в тугой узел. Вымыл лицо и руки. Вместе с другими бритвенными принадлежностями он купил кровоостанавливающий карандаш и воспользовался им, чтобы остановить кровотечение.
Когда встретился взглядом с отражением собственных глаз в зеркале, в них стоял такой страх, что он тут же отвернулся.
Фрэнк переоделся в чистое, схватил с комода ключи от автомобиля. Он боялся того, что может обнаружиться в салоне или багажнике.
У двери, открывая врезной замок, отметил, что ни дверная коробка, ни сама дверь в крови не измазаны. Если бы он провел какую-то часть второй половины дня вне номера, а потом вернулся с залитыми кровью руками, он точно не стал бы оттирать дверь, прежде чем улечься на кровать. И потом, он не видел в номере окровавленных полотенец или салфеток, которыми мог бы стирать с двери пятна крови.
Над головой висело чистое небо, яркое солнце подобралось к самому западному горизонту. Кроны растущих у мотеля деревьев гнулись и трещали под холодным ветром.
На бетонной дорожке, которая вела к двери его номера, крови не было. Как и в салоне автомобиля. Как и в багажнике.
Стоя у открытого багажника, Фрэнк смотрел на залитый солнечным светом мотель, на стоянку. В трех номерах от него мужчина и женщина лет двадцати пяти вынимали чемоданы из их черного «понтиака». Еще одна пара и их дочь-школьница спешили по крытой дорожке к ресторану мотеля. Фрэнк осознал, что он не мог выйти из номера, совершить убийство и вернуться незамеченным при свете дня и залитый кровью.
В номере он подошел к кровати, занялся изучением смятых простыней. Да, алые пятна на них были, но простыни не пропитались кровью, как обязательно случилось бы, если б кого-то убили на этой кровати. Конечно, если бы вся кровь была его, она бы в основном попала на рубашку и джинсы. Но он по-прежнему не мог поверить, что расцарапал себя во сне (одна рука царапала другую, обе – лицо), не пробудившись.
А кроме того, его расцарапали острыми ногтями, тогда как у него ногтей практически не было, он обгрыз их до кожицы.
Глава 17
К югу от интерната «Сиело виста», между Корона-дель-Мар и Лагуной, Бобби загнал «самурай» в угол автомобильной стоянки общественного пляжа. Вместе с Джулией спустился к воде.
Поверхность моря напоминала синевато-зеленый, с прожилками серого мрамор. Между волнами вода темнела, ближе к гребню, наоборот, светлела, пробиваемая лучами большущего заходящего солнца. Волна за волной накатывала на берег, большие, но не огромные, с шапками пены, которую то и дело срывал ветер.
Серфингисты в черных гидрокостюмах руками гнали доски в океан, навстречу большой волне, чтобы до наступления сумерек прокатиться на ней в последний раз. Другие, тоже в гидрокостюмах, стояли кружком, пили что-то горячее из термосов или газированное из банок. Для загара день выдался слишком холодным, поэтому, кроме серфингистов, на пляже никого не было. Бобби и Джулия нашли небольшой холм, достаточно далеко от воды, чтобы до них не долетали брызги от волн. Сели на жесткую траву, которая островками росла на песчаной, с избытком соли почве.
– В таком месте, – первой заговорила Джулия. – С таким видом. Не очень большой дом.
– Большой и не нужен. Одна гостиная. Спальня для нас, вторая – для Томаса, может, уютный кабинет-библиотека с книжными стеллажами.
– Нам даже не нужна столовая, но я хотела бы большую кухню.
– Да. Кухню, в которой можно жить.
Джулия вздохнула:
– Музыка, книги, настоящая домашняя еда вместо той, что мы перехватываем на ходу, много времени, чтобы сидеть на крыльце и наслаждаться открывающимся с него видом… и мы трое, вместе.
Это была последняя часть Мечты: домик у моря, простая, неприхотливая жизнь и финансовые ресурсы, позволяющие уйти на пенсию на двадцать лет раньше положенного срока.
У Бобби и Джулии было много общего, и среди прочего – четкое осознание, что жизнь коротка. Разумеется, об этом знали все, но большинство людей отгоняли эту мысль, живя так, словно впереди у них бесконечные завтра. Если бы большинство людей не закрывали глаза на неизбежность смерти, они бы не волновались до такой степени из-за исхода спортивного матча, не переживали, следя за перипетиями сюжета мыльной оперы или кознями политиков, не обращали бы внимания на многое и многое другое, сущие пустяки в сравнении с приходом бесконечной ночи, которая в конце концов наступала для каждого. Они бы не тратили время, стоя в очереди в кассу в супермаркете или проводя его в компании дураков и зануд. Возможно, за этим миром людей ждет еще один, может, он называется раем, но рассчитывать на это не стоило. Рассчитывать можно только на темноту. При таком раскладе самообман следовало почитать за счастье. Ни Бобби, ни Джулия не были нытиками. Она знала, как наслаждаться жизнью, он в этом от нее не отставал, но ни один из них не принимал хрупкую иллюзию бессмертия, которая для большинства людей служила защитой от признания неминуемости смерти. Бобби и Джулия отдавали себе отчет в том, что смерти не избежать, но при этом их не переполняла тревога, они не впадали в депрессию. Просто отличались сильным желанием не посвящать всю жизнь бессмысленной суете, изыскивали финансовые возможности, которые позволили бы прожить многие и многие годы, как им того хотелось.
С развевающимися на ветру каштановыми волосами, Джулия, прищурившись, всматривалась в далекий горизонт, залитый медово-золотым светом заходящего солнца.
– Что пугает Томаса в окружающем мире, так это люди, много людей, – продолжила Джулия. – Но он будет счастлив в маленьком домике, на тихом берегу, при минимуме людей. Я уверена, будет.
– В этом нет никаких сомнений, – заверил ее Бобби.
– К тому времени, когда агентство станет таким большим, что его можно будет продать, земля на южном берегу сильно подорожает. Но земли много и к северу от Санта-Барбары.
– Берег длинный. – Бобби обнял жену. – Мы еще сможем найти место на юге. И у нас будет время, чтобы насладиться нашей покупкой. Мы не сможем жить вечно, но мы молоды. Наши номера выпадут через многие и многие годы.
Но он вспомнил предчувствие, которое ощутил этим утром в кровати, после сладчайших минут близости, предчувствие, что в этом продуваемом всеми ветрами мире появилось что-то ужасное, появилось с тем, чтобы забрать у него Джулию.
Солнце коснулось горизонта и снизу начало таять. Золотистый свет плавно перетек в оранжевый, потом в кроваво-красный. Трава и высокие сорняки у них за спиной шуршали от ветра, а когда Бобби обернулся, ветер гнал по склону между пляжем и автостоянкой песчаные вихри, напоминавшие призраков, сбежавших с кладбища перед самым закатом. С востока стена ночи надвигалась на мир. С заходом солнца заметно похолодало.
Глава 18
Конфетка проспал весь день в большой спальне, где раньше спала мать, вдыхая особый, свойственный только ей запах. Два или три раза в неделю он осторожно вытряхивал несколько капель ее любимых духов, «Шанель номер пять», на носовой платок, который лежал на туалетном столике рядом с ее серебряными расческой и щеткой для волос, а потому каждый вдох в этой комнате напоминал ему о ней. Если он наполовину просыпался, чтобы поправить подушку или укутаться в одеяло, аромат духов успокаивал его лучше любого транквилизатора. С улыбкой на лице он вновь погружался в глубокий сон.
Спал он в тренировочных брюках и футболке. Найти пижаму на его габариты было сложно, а из скромности он не мог заставить себя лечь в постель голым или даже в нижнем белье. Конфетка стеснялся полностью раздеваться, даже когда рядом никого не было.
В этот четверг яркое зимнее солнце наполняло светом окружающий мир, но не могло прорваться сквозь расшитые розами тяжелые портьеры и розовые занавески, которые охраняли два окна спальни. Несколько раз, просыпаясь и оглядываясь в темноте, Конфетка видел только перламутрово-серое свечение зеркала да блеск серебряных рамок фотографий, стоявших на прикроватном столике. Одурманенный сном и ароматом духов, которые он капнул на носовой платок, перед тем как лечь в постель, Конфетка легко мог представить себе, что любимая мама сидит в кресле-качалке, приглядывает за ним, и чувствовал себя в полной безопасности.
Окончательно он проснулся перед самым закатом, какое-то время полежал, закинув руки за голову, глядя на полог, который висел над кроватью. Полога Конфетка, разумеется, не видел, но знал, что он есть, и перед его мысленным взором возникала расшитая розами материя. Он думал о матери, о лучших днях своей жизни, оставшихся в прошлом, потом мысли перенеслись к девочке, юноше и женщине, которых он убил прошлой ночью. Попытался вспомнить вкус их крови, но воспоминание это не было столь же живым, как другие, связанные с матерью.
Наконец он включил лампу на столике у кровати, оглядел уютную, до мелочей знакомую комнату: обои с розами, покрывало с розами, портьеры с розами, розовые занавески и ковры, кровать, туалетный столик и комод на высоких ножках из темного красного дерева. Два вязаных шерстяных платка, один зеленый, цвета листьев розы, другой – цвета лепестков, лежали на подлокотниках кресла-качалки.
Конфетка прошел в примыкающую к спальне ванную, запер дверь, проверил, надежно ли. Единственным источником света служила забранная под матовое стекло флуоресцентная лампа у потолка над раковиной, потому что окошко он давно уже закрасил черной краской.
Несколько мгновений он смотрел на свое отражение в зеркале, потому что ему нравилось, как он выглядит. В своем лице он мог видеть мать. Ему достались ее светлые, практически белые волосы, ее глаза цвета морской синевы. И пусть черты лица были резкими, мужскими, лишенными ее красоты и мягкости, большой рот с полными губами был точно таким же, как у нее.
Раздеваясь, Конфетка отводил глаза от своего тела. Он гордился мощными плечами и руками, широкой грудью, мускулистыми ногами, но одного взгляда на половой орган хватало, чтобы ему становилось дурно. Он опустился на сиденье унитаза, чтобы справить малую нужду. Принимая душ, он, прежде чем намылить промежность, надел рукавицу, сшитую из двух полотенец, чтобы плоть руки не соприкасалась с мерзкой плотью внизу.
Вытеревшись насухо и одевшись – высокие носки, кроссовки, серые брюки, черная рубашка, – он осторожно покинул свое надежное убежище – спальню матери. Наступила ночь, и коридор на втором этаже тускло освещался двумя слабыми лампочками под стеклянным колпаком, покрытым толстым слоем серой пыли. Слева находилась лестница, справа – комната сестер, его прежняя комната и вторая ванная. Все двери были открыты, нигде не горел свет. Дубовый пол скрипел, вытертая, изношенная дорожка совершенно не глушила шаги. Иногда он думал, что в доме следует провести генеральную уборку, может, даже покрасить стены и заменить напольные дорожки, однако, пусть он и поддерживал в спальне матери безупречную чистоту и порядок, ему не хотелось тратить деньги на остальную часть дома, а его сестер домашнее хозяйство не интересовало. Скорее, они не умели его вести.
Шум мягких шагов предупредил его о приближении кошек, и он остановился, не дойдя пары шагов до лестницы, боясь, что наступит одной из них на хвост или лапу. Через мгновение они появились над верхней ступенькой и устремились в коридор, все двадцать шесть, если его последний подсчет не отстал от жизни. Одиннадцать черных, несколько черно-коричневых, темно-коричневых и угольно-серых, две темно-золотистые и только одна белая. Виолет и Вербина, его сестры, предпочитали темных кошек, чем темнее, тем лучше.
Животные мельтешили вокруг, наступали на кроссовки, терлись о лодыжки, оплетали хвостами голени. Две ангорские, абиссинская бесхвостая, мальтийская, но в основном беспородные. С зелеными глазами, желтыми, серебристо-серыми, синими, и все с интересом рассматривали его. Ни одна не замурлыкала, не мяукнула. Инспекция проходила в полной тишине.
Конфетка не испытывал особой любви к кошкам, но этих терпел, и не только потому, что они принадлежали его сестрам. По существу, они являлись частью Виолет и Вербины. Он чувствовал, что ударить их, сказать им грубое слово – все равно что ударить или накричать на сестер. А вот этого он сделать не мог, потому что лежащая на смертном одре мать наказала ему заботиться о девочках и защищать их.
Менее чем через минуту кошки решили, что их миссия выполнена, и все как одна отвернулись от него. Помахивая хвостами, многоголовой меховой многоножкой двинулись к лестнице и скатились с нее.
Когда он поставил ногу на первую ступеньку, они уже поворачивали с промежуточной лестничной площадки на второй пролет, скрываясь из виду. Когда спустился в коридор первого этажа, кошек уже не было. Он пересек гостиную, где не горел свет и пахло пылью. Из кабинета-библиотеки тянуло запахом плесени. Его источником служили полки, заставленные женскими романами, которые так любила мать. Когда Конфетка проходил через тускло освещенную столовую, под ногами хрустел мусор.
Виолет и Вербину он нашел на кухне. Они были сестрами-близняшками, неотличимыми, как две капли воды: блондинки с белоснежной бархатистой кожей, голубыми глазами, высокими скулами, алыми губками, которым не требовалась помада, и ровными мелкими зубами, чем-то похожими на зубы их кошек.
Конфетка пытался любить своих сестер, но не сложилось. Ради матери не мог относиться к ним плохо, а потому испытывал к ним полное безразличие, делил с ними дом, но не чувствовал, что они входят в его семью. Они были слишком тощими, думал он, слишком хрупкими, слишком бледными существами, которые редко видели солнце. И действительно, солнечные лучи практически не согревали его сестер, потому что все свое время они предпочитали проводить под крышей дома. Он видел, что ногти их тонких ручек аккуратно подстрижены и накрашены. На уход за своим телом они тратили не меньше времени, чем их кошки. Но Конфетке казалось, что пальцы у них слишком уж длинные, неестественно гибкие. Их мать была женщиной в теле, пышущей здоровьем, с ярким румянцем во всю щеку, и Конфетке оставалось только гадать, как такая полная жизни женщина могла произвести на свет столь чахлую пару.
Один угол большой кухни близняшки застелили шестью слоями одеял из хлопчатобумажной ткани, чтобы кошкам было где полежать. На самом-то деле они заботились о себе, одеяла служили мягкой подстилкой им, потому что в компании кошек они проводили многие часы. И в этот раз, войдя в кухню, Конфетка нашел сестер на одеялах. Кошки сидели и вокруг, и у них на коленях. Виолет пилкой обтачивала ногти Вербины. Ни одна из сестер не подняла головы, хотя, естественно, они поздоровались с ним через кошек. Вербина в присутствии Конфетки не произнесла ни слова за все двадцать пять лет своей жизни (близняшки были моложе его на четыре года), и он так и не знал, не может она говорить, не хочет или стесняется, когда он рядом. Виолет молчаливостью не отличалась от сестры, но все-таки говорила с ним по необходимости. В данный момент, однако, она сочла, что говорить не о чем.
Стоя у холодильника, наблюдая, как обе они склонились над правой бледной рукой Вербины, Конфетка решил, что пристрастен в своих суждениях о сестрах. Другим мужчинам они могли очень даже нравиться. Если он находил их конечности очень уж тощими, то другие наверняка полагали худобу эротичной. Взять, скажем, ноги балерин, руки акробаток. Опять же белоснежная кожа, приличных размеров грудь. Он (какое счастье!) был начисто лишен сексуального интереса, а потому, скорее всего, не мог правильно оценить их сексуальную привлекательность.
Как обычно, одевались они по минимуму, тому минимуму, который он мог терпеть, не приказав им одеться. Зимой они поддерживали в доме очень высокую температуру и ходили, как и сейчас, в футболках и коротких шортах или трусиках, босиком, с голыми руками и ногами. Только в спальне матери, которая после ее смерти стала его спальней, было прохладнее, потому что он перекрыл трубы отопления. Его присутствие требовало от сестер соблюдения минимальных приличий, а не то они шастали бы по дому голыми.
Виолет очень неторопливо приводила в порядок ноготь большого пальца Вербины, и обе смотрели на этот ноготь так пристально, словно рассчитывали найти в нем разгадку смысла жизни.
Конфетка достал из холодильника швейцарский сыр, консервированную ветчину, горчицу, банку маринованных огурчиков, пакет молока. С одной из полок взял хлеб, сел к пожелтевшему от времени кухонному столу.
Стол, стулья, буфеты, полки когда-то сияли белизной. Теперь сменили цвет на желтовато-белый, серо-белый, кое-где потрескались. Обои с веселенькими маргаритками запачкались, отклеились в некоторых швах. Ситцевые занавески провисли под накопившейся на них грязью и пылью.
Конфетка сделал и съел два больших сэндвича с сыром и ветчиной. Молоко пил прямо из пакета.
Внезапно все двадцать шесть кошек, лениво развалившихся на близняшках и вокруг, одновременно вскочили и проследовали к заслонке на петлях, которая занимала нижнюю часть входной двери, чуть ли не строем вышли на улицу. Вероятно, пришла пора справить нужду. Виолет и Вербина не хотели, чтобы в доме стоял запах кошачьих туалетов.
Конфетка закрыл глаза и глотнул молока. Он бы предпочел, чтобы молоко было комнатной температуры и даже чуть теплее. Отдаленно оно напоминало кровь, хоть и не обладало присущей крови остротой. Не будь молоко охлажденным, оно бы в большей степени напоминало кровь.
Через пару минут кошки вернулись. Теперь Вербина лежала на спине, с подушкой под головой, закрыв глаза. Губы шевелились, словно она разговаривала сама с собой, но ни единого звука с них не слетало. Она протянула сестре другую худенькую руку, и та принялась методично обрабатывать ногти. Длинные ноги Вербина раскинула в стороны, так что Конфетке открылась ее промежность. Одета она была в футболку и тоненькие, персикового цвета трусики, которые скорее подчеркивали, чем скрывали ее половую щель. Молчаливые кошки облепили ее, похоже более озабоченные приличиями, чем она, и бросали на Конфетку укоряющие взгляды, словно знали, куда он смотрит.
Он уставился на крошки на столе.
– Фрэнки был здесь, – нарушила тишину Виолет.
Поначалу его больше удивил сам факт, что она заговорила. Потом до него дошел смысл сказанных ею слов. Не просто дошел – потряс. Конфетка так резко поднялся, что свалил стул.
– Здесь? В доме?
Ни кошки, ни Вербина не дернулись от грохота упавшего стула, от резкости его голоса. Продолжали сонно лежать, безразличные к посторонним шумам.
– Снаружи. – Виолет сидела на полу рядом с распростертым телом сестры, обрабатывала ногти. Говорила низким голосом, чуть ли не шепотом. – Наблюдал за домом из-за зеленой изгороди.
Конфетка глянул в ночь за окнами:
– Когда?
– Около четырех часов дня.
– Почему ты не разбудила меня?
– Он пробыл недолго. Он никогда не задерживается. Минута, две, а потом уходит. Он боится.
– Ты его видела?
– Я знала, что он там.
– Ты не попыталась остановить его, не дать уйти?
– Как я могла? – В голосе слышалось раздражение, но звучал он так же соблазняюще, как и прежде. – Кошки, впрочем, побежали за ним.
– Ему от них досталось?
– Немного. Не так чтобы сильно. Но он убил Саманту.
– Кого?
– Нашу бедную маленькую кошечку. Саманту.
Конфетка не знал клички кошек. Он воспринимал их не отдельными особями, а единым существом. Они и передвигались, словно одно существо, и, похоже, так же и думали.
– Он убил Саманту. Размозжил ей голову о каменный столб в конце дорожки. – Наконец-то Виолет посмотрела на Конфетку, оторвав взгляд от руки сестры. Ее глаза вроде бы стали чуть светлее, напоминая две голубые ледышки. – Я хочу, чтобы ты причинил ему боль, Конфетка. Я хочу, чтобы ты причинил ему сильную боль. Отомстил за то, что он сделал с нашей киской. И плевать мне на то, что он наш брат, я…
– Он больше не наш брат. После того, что он натворил. – В голосе Конфетки звучала ярость.
– Я хочу, чтобы ты поступил с ним так же, как он поступил с нашей бедной Самантой. Я хочу, чтобы ты раздавил его, Конфетка, я хочу, чтобы ты разбил ему голову, чтобы череп у него треснул и мозги полетели во все стороны. – Она продолжала все так же приглушенно говорить, а он – слушать, зачарованный ее словами. В такие моменты, как сейчас, когда голос ее звучал более чувственно, чем обычно, он не просто отражался от барабанных перепонок, но заползал в голову, туманил мозг. – Я хочу, чтобы ты бил его, рвал, колотил, пока не переломал бы все кости, не вытащил все внутренности, и я хочу, чтобы ты вырвал ему глаза. Я хочу, чтобы он пожалел о том, что убил Саманту.
Конфетку затрясло.
– Если я доберусь до него, то убью, но не из-за того, что он сделал с вашей кошкой. Из-за того, что он сделал с нашей матерью. Или ты не помнишь, что он с ней сделал? Как ты можешь требовать мести за кошку, если мы еще не рассчитались с ним за содеянное с матерью после семи долгих лет?
Она помрачнела, отвернулась от Конфетки, замолчала.
Кошки спрыгнули с распростертого тела Вербины.
Виолет частично легла на сестру, частично привалилась к ней. Руку положила на груди Вербины. Их ноги переплелись.
Выйдя из транса, Вербина принялась гладить шелковистые волосы сестры.
Кошки вернулись, облепили обеих сестер.
– Фрэнк был здесь. – Конфетка, похоже, говорил сам с собой, пальцы его сжались в кулаки.
Ярость нарастала в нем, как зародившаяся высоко в горах и двинувшаяся по склону лавина. Однако он не мог позволить себе дать волю ярости, знал, что должен держать себя в руках. Шторм ярости вспоил бы водой семена его черной потребности. Его мать одобрила бы убийство Фрэнка, потому что Фрэнк предал семью. Смерть Фрэнка пошла бы семье только на пользу. Но если бы Конфетка позволил злости, которую он испытывал к брату, перерасти в ярость, тогда он не смог бы найти Фрэнка, ему пришлось бы убить кого-то еще, потому что жажда крови стала бы слишком сильной. Его мать, в раю, устыдилась бы, на какое-то время отвернулась бы от него, пожалела о том, что родила такого сына.
Вскинув глаза к потолку, к невидимым небесам, где находилось Царство Божие, в котором сейчас пребывала мать, Конфетка пообещал ей: «Со мной все будет в порядке. Я не потеряю контроль над собой. Не потеряю».
Он отвернулся от сестер и их кошек, чтобы посмотреть, не осталось ли каких-либо следов Фрэнка около зеленой изгороди или столба, ударом о который его брат убил Саманту.
Глава 19
Бобби и Джулия пообедали в ресторане «У Оззи», в Ориндже, потом перебрались в бар. Музыкальное сопровождение обеспечивал Эдди Дей, певец с сильным приятным голосом. Исполнял в основном современные песни, но перемежал их хитами пятидесятых и начала шестидесятых годов. Не эры больших оркестров, но раннего рок-н-ролла, в котором еще чувствовались веяния свинга. Они могли танцевать свинг под «Любовника-мечту», румбу под «Ла бамбу». В репертуаре Дея нашлось место и ча-ча-ча, и песням в стиле диско, так что Бобби и Джулия отлично проводили время.
Джулия всегда любила потанцевать после поездки к Томасу в «Сиело виста». Уходя с головой в музыку, ей удавалось забыть обо всем, и прежде всего о чувстве вины. Она растворялась в танце, думая лишь о последовательности движений. Музыка успокаивала, танец наполнял сердце радостью и вызывал анестезию в тех его местах, что ранее испытывали особенно сильную боль.
Когда музыканты ушли на перерыв, Бобби и Джулия пили пиво за столиком у танцплощадки. Говорили о разном, только не о Томасе и в конце концов добрались до Мечты, точнее, речь пошла о том, как обставят они бунгало на берегу океана, если когда-нибудь купят его. И хотя они не хотели тратить на мебель целое состояние, оба сошлись на том, что должны побаловать себя двумя предметами из эпохи свинга: бронзово-мраморным комодом в стиле ар-деко Эмиля-Жака Рулмана и, безусловно, музыкальным автоматом «Уэрлитзер».
– Модель девятьсот пятьдесят, – уточнила Джулия. – Великолепная машина. Трубки с пузырьками. Прыгающие газели на передней панели.
– Их изготовили меньше четырех тысяч. Вина лежит на Гитлере. Компания переключилась на военную продукцию. Модель пятисотая тоже ничего… или семисотая.
– Ничего, но с девятьсот пятидесятой им не сравниться.
– Они не так дороги, как девятьсот пятидесятая.
– Ты считаешь центы, когда мы говорим об идеале красоты?
– Идеал красоты – «Уэрлитзер – девятьсот пятьдесят»?
– Конечно. А что еще?
– Для меня идеал красоты – это ты.
– Спасибо, милый. Но я все равно хочу девятьсот пятидесятую.
– Разве для тебя идеал красоты – не я? – Он захлопал ресницами.
– Для меня ты всего лишь упрямец, который не позволяет мне прикупить «Уэрлитзер – девятьсот пятьдесят». – Она наслаждалась игрой.
– А как насчет «Сибурга»? «Паккард Пла-Мор»? Ладно, а «Рок-ола»?
– «Рок-ола» изготавливала прекрасные музыкальные автоматы, – согласилась она. – Мы купим один из них и «Уэрлитзер – девятьсот пятьдесят».
– Ты собираешься тратить деньги, как пьяный матрос.
– Я родилась, чтобы быть богатой. Аист заблудился. Не отнес меня к Рокфеллерам.
– Тебе не хотелось бы добраться сейчас до этого аиста?
– Я с ним рассчиталась давным-давно. Зажарила и съела на рождественский обед. Вкус отменный, но я предпочла бы стать Рокфеллером.
– Ты счастлива? – спросил Бобби.
– Не то слово. И дело не только в пиве. Не знаю почему, но давно уже мне не было так хорошо, как в этот вечер. Я думаю, мы добьемся всего, что наметили, Бобби. Я думаю, мы рано уйдем на пенсию и будем долго и счастливо жить у самого синего моря.
Пока она говорила, улыбка сползала с его лица. Теперь же он хмурился.
– Чего ты такой кислый?
– Ничего.
– Меня не проведешь. Ты весь день сам не свой. Ты пытаешься что-то скрыть, но мысль эта не выходит у тебя из головы.