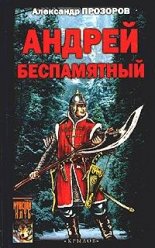Баудолино Эко Умберто

Что он там строчит во время лекций, спросил Абдула Баудолино, и услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому что арабский язык несомненно удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но притом казалось: ждет, чтобы попросили. Наконец поведал, и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так: «Печаль и радость тех бесед / Храню в разлуке с дамой дальней…»
– Пишешь стихи? – спросил Баудолино.
– Слагаю песни. Пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу.
– Принцессу? А кто она?
– Не знаю. Я видел ее… Вернее нет, но все равно, как будто видел… Когда я был в плену в Святой Земле… Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал. Сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой Даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь. Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой…
Баудолино собрался было сказать ему: вольно дурить, по незабвенному выражению родителя Гальяудо. Но потом припомнил, что он и сам тоже изнемогает от любви неутолимой (хотя свою-то Беатрису он безусловно видел, и это видение изнуряло его по ночам). Тогда он смягчился к несчастной участи друга Абдула.
Так начинаются настоящие дружбы. Однажды вечером Абдул заявился на квартиру Баудолино с Поэтом. Он нес какой-то инструмент, который Баудолино видел впервые, по форме – мандолину, и со многими натянутыми струнами, и, бегая перстами по этим струнам, Абдул запел:
- Quan lo rius de la fontana
- S'esclarzis si cum far sol,
- E par la flors aiglentina
- E'1 rossignoletz el ram
- Volv e refraing et aplana
- Son doutz chantar et afina,
- Dreitz es q'ieu lo mieu refraigna…
- В час, когда разлив потока
- Серебром струи блестит,
- И цветет шиповник скромный,
- И раскаты соловья
- Вдаль плывут волной широкой
- По безлюдью рощи темной,
- Пусть мои звучат напевы!
- От тоски по вас, далекой,
- Сердце бедное болит.
- Утешения никчемны,
- Коль не увлечет меня
- В сад, во мрак его глубокий,
- Или же в покой укромный
- Нежный ваш призыв, – но где вы?!
- Взор заманчивый и томный
- Сарацинки помню я,
- Взор еврейки черноокой, —
- Все Далекая затмит!
- В муке счастье найдено мной:
- Есть для страсти одинокой
- Манны сладостной посевы.
- Хоть мечтою неуемной
- Страсть томит, тоску струя,
- И без отдыха и срока
- Боль жестокую дарит,
- Шип вонзая вероломный, —
- Но приемлю дар жестокий
- Я без жалобы и гнева.[12]
Музыка была сладкой, и аккорды возбуждали незнаемую или дремлющую страсть, и Баудолино думал о Беатрисе.
– Господи Боже, – сказал на это Поэт. – Ну почему я неспособен написать ничего такого?
– Я не хочу быть поэтом. Я для себя пою. Если хочешь, могу подарить тебе эту песню, – ответил Абдул, весь во власти своей нежности.
– Спасибо большое, – ответил Поэт. – Ты мне подаришь, я переведу на немецкий, и получится дерьмо.
Абдул стал третьим в их дружбе. Как только у Баудолино хоть на минуту выходила из головы Беатриса, тут чертов рыжий мавр щипал проклятущие струны и пел, и у Баудолино вновь разрывалось на части сердце.
- Если соловушка в кроне
- Нежно любовь выпевает,
- Лада ему отвечает,
- С ним голоса сочетает,
- В каждом сливался стоне,
- На травянистом уклоне,
- Радость сердце пронзает.
- Дружеской песенкой тою
- Душу мою утешает.
- Только любви взывает,
- Награды иной не чает
- И не прельстится иною.
- Сердце мое больное
- Мудрая грусть наполняет.
Баудолино уговаривал себя: однажды он сочинит такие же песни для своей дальней императрицы, но он не знал, с чего начать эту работу, так как ни Оттон ни Рагевин никогда не говорили с ним о поэзии, разве только преподавая священные гимны. Так что он пользовался дружеством Абдула, чтобы проходить в сен-викторскую библиотеку. Там он целыми долгими днями, похищенными у занятий, беззвучно шевелил губами, впитывая повести и сказки. Прощайте учебники грамматики! Тут его ждали Плиниевы истории, «Александриада», география Солина и этимологии Исидора…
Он читал о далеких землях, тех, где обитают крокодилы (крупные водяные змеи, которые, пожрав человека, плачут, двигают лишь верхнею челюстью и не имеют языка). Гиппопотамы, наполовину люди и наполовину лошади. Зверь половый (беложелт, левкохр), имеющий тело осла, стегна оленя, грудь и голени львиные, копыта конские, рога раздвоенные, рот растянутый до самых ушей, кричит голосом человека, а на месте зубов у него сплошной костный мост. Он читал о людях, имеющих ногу без коленного сустава, рот без языка, огромные уши, которыми они укрываются от холода, и об исхиаподах, проворно бегающих на своей единственной ноге.
Неспособный отправить Беатрисе чужие песни (да и были бы они свои, все равно бы не отважился отправить), он решил, что как милой преподносятся цветы и драгоценности, так же можно преподнести те перлы знания, которыми он теперь обладает. И вот он стал писать о ландах, изобилующих мучными и медовыми деревьями, о горе Арарат, на вершине которой безоблачными днями видны остатки Ноева ковчега, и кто добирался до них, тот вкладывал палец в дырочку, послужившую для бегства бесу с корабля, когда Ной начал читать молитву Benedicite. Он рассказывал про Албанию, где обитатели столь белокожи, сколь никто иной на свете, и растительность имеют на теле жиже, нежели усы у котов. В другой стране, продолжал Баудолино, люди, глядя на восток, отбрасывают тени от себя направо. Еще в другом месте живут люди злобные, кто при рождении ребенка правит горестную тризну, а если помрет их дитя – радуются. Еще стоят великие горы из золота, сторожат их муравьи, каждый величиной с собаку. Есть на свете амазонки, женщины-солдаты, их мужчины проживают в соседней державе, младенцев мужеского пола амазонки отдают отцам или убивают, а младенцам женского пола выжигают одну из грудей каленым железом: если чадо благородного рода – левую, чтобы было место щиту, а у чада низкого происхождения – правую, чтобы было место луку. Наконец, Баудолино писал о Ниле, той одной из четырех рек, чьи истоки возникают из Земного Рая, что течет в пустынях Индии, проникает в подземелие, взводится на гору Атлас и потом впадает в море, перерезав весь Египет.
Дописавшись до Индии, Баудолино готов был забыть о Беатрисе, так увлекся новыми фантазиями: даже втемяшил себе в голову, что где-то в Индии обретается царство пресвитера Иоанна, слышанное от Оттона. О том царстве Баудолино думал, надо заметить, беспрестанно. Всякий раз, читая о неведомом государстве, а в особенности когда на пергаментах ему попадались многоцветные миниатюры странных существ, будь то рогоносцы или пигмеи, те, чья жизнь проходит в постоянной борьбе с журавлями… упорно думая о нем, Баудолино мысленно привык считать пресвитера Иоанна кем-то вроде старого знакомого. Потому обнаружить место его обитания было для Баудолино великим делом, а если место такое не обнаруживалось – надо все же было подыскать такую подходящую Индию, куда бы пресвитера определить. Ведь Баудолино считал себя связанным клятвой (клятва, по правде, никогда не была дана) любимому епископу в смертную минуту.
О пресвитере услышали от него оба товарища и, немедленно увлекшись этой игрой, стали передавать Баудолино самые несвязные, но примечательные мелочи, обнаруженные в разных манускриптах, лишь бы только от них веяло индийскими фимиамами. У Абдула промелькнула даже идея, что его далеживущая принцесса… если должна жить так уж далеко, быть может, укрывает свою красу в стране, которая далече всех дальних.
– Да, – отвечал Баудолино, – но где пролегает путь в эту Индию? Она, надо думать, где-то около Земного Рая, а следовательно, к востоку от Востока, именно там, где кончается земля и начинается океан…
Они еще не приступили к слушанию лекций по астрономии и поэтому о форме земли имели самое туманное представление. Поэт был убежден, что земля плоская и длинная, по бокам которой воды Океана стекают вниз, одному Богу известно куда. Баудолино же был наслышан от Рагевина, хотя и отнесся к этому критически, что не только философы античности и не только Птолемей, праотец астрономии, но и святой Исидор, все утверждали, будто земля представляет собою сферу, более того, Исидор был настолько свято убежден в этом, что установил и протяженность экватора: восемьдесят тысяч стадиев. Однако, оговаривал Рагевин, не менее верно, что определенные отцы церкви, например великий Лактанций, учат, что, согласно Библии, земля имеет форму скинии и, следовательно, небеса вместе с землей представляют собой ковчег или храм с прекрасным куполом и узорным полом, в общем нечто вроде короба, но никак не шара. Рагевин, осторожный человек, придерживался представлений блаженного Августина: что, быть может, философы-язычники и не ошибались относительно круглой земли, а в Библии скиния упоминается в переносном смысле, но знание, какова форма Земли, все равно не помогает решить то, что важнее всего правым христианам: каков путь к спасению души. А следовательно, даже полчаса, потраченные на пустые пересуды об этой форме, – напрасно потерянное время.
– Наверно, это так, – поддержал Поэт, торопившийся попасть в свою пивнушку. – Неосмысленно разыскивать Рай Земной, потому что будучи очаровательным висячим садом, когда по изгнании Адама некому стало подпирать стенками уступы, во время Потопа он осыпался в Океан.
Абдул, напротив, мнил, что земля шарообразна. Если бы она была широкой и плоской, доказывал он, не приемля возражений, то мой взор, обостренный силою любови, как у всех любящих на свете, сумел бы различить в далечайшей дали какой-то знак присутствия желанной дамы; только по вине закругления земли она для взгляда недостижима. Порывшись в сен-викторской библиотеке, он разыскал те карты, которые уже набрасывал по памяти для товарищей.
– Земля окружена огромным кольцом Мирового Океана и разделяется на части тремя великими потоками: Геллеспонтом, Средиземным морем, Нилом.
– Минуточку, а где тогда Восток?
– Восток тут сверху, разумеется, где находится «Азия». На самом краю Востока, там, откуда восходит солнце, обретается Земной Рай. Слева от Земного Рая гора Кавказ.
Рядом Каспийское море. Теперь смотрите внимательно. Индий существует три. Великая Индия, где очень жарко, находится она справа от Земного Рая, Северная Индия, за Каспийским морем, то есть тут у нас в верхней части слева… Там студено, так студено, что вода превращается в стекло. Именно там племена Гога и Магога были окружены по приказу Александра каменной стеной. Третья Индия – это Индия умеренная, приближенная к Африке. Африка на этой карте находится справа в нижней части, у полудня, где течет Нил, где открываются Аравийский и Персидский заливы. Они открываются в Красное море, на другом бреге которого пустое место, близкое к самому солнцу экватора, и до того прогретое, что пойти туда не дерзает никто. К западу от Африки, в близости Мавритании, лежат Счастливые острова. Их другое имя – Потерянные. Потерянные острова были открыты много столетий назад одним святым. Он был моим земляком… Дальше, тоже внизу, но на севере, располагается та часть мира, где живем мы. Вот Константинополь на Геллеспонте. Греция. Рим. А это на самом далеком севере германцы и остров Гиберния.
– Да можно ли всерьез воспринимать подобную карту, – расхохотался Поэт, – если земля нарисована на ней как плоскость, а ты сам говорил о шаре?
– Что за глупости ты мелешь, – рассердился Абдул. – Как иначе отобразить поверхность шара, если хочешь показать все, что расположено на ней? Карта служит для того, чтобы искать дорогу к цели, а дорога тянется по земле, как плоская лента. Кроме того, хотя земля и шар, но вся обратная сторона необитаема, там Океан, и только… Живи там кто-нибудь, ему бы пришлось удерживаться вверх ногами, головой вниз. По мне, чтобы передать эту обратную сторону земли, кольцевой океан вполне годится. Но хочется получше разобраться в картах. В библиотеке я встретил клирика, которому известно все о Земном Рае…
– Ну да, он гулял там, когда Ева предлагала яблоко Адаму, – сказал Поэт.
– Можно знать все о неком месте, даже и не бывавши там ни разу, – отвечал Абдул. – В противном случае моряки были бы образованней богословов.
Все это, пояснял Баудолино Никите, я тебе пересказываю, чтобы было понятно, как с первых лет в Париже, с младых ногтей наша компания увлеклась той историей, которая через несколько лет увела ее на самые далекие рубежи обитаемого мира.
7
Баудолино пишет любовные письма за Беатрису и стихотворения за Поэта
Баудолино к весне увидел, что его обожательный недуг все крепчает, как обычно и должно быть в определенную пору года, и никак не умиротворяется за счет жалких неглубоких интрижек, того хуже – нарастает по контрасту с их убожеством, так как Беатриса, кроме вежества, ясномыслия и королевского сана, имеет дополнительное преимущество над остальными: она отсутствует. О силе отсутствия не переставал, терзая Баудолино, распевать Абдул, целыми вечерами бия по струнам и наполняя воздух стенаньями до такой степени, что Баудолино, дабы причаститься обсуждаемой теме, на ходу выучил провансальский язык:
- Lanquan li jorn son lonc en mai,
- M’es bels doutz chans d’auzels de loing,
- E quan me sui partitz de lai,
- Remembra-m d’un’amor de loing…
- Длиннее дни, алей рассвет,
- Нежнее пенье птицы дальней,
- Май наступил, спешу я вслед
- За сладостной любовью дальней.
- Весною я раздавлен, смят,
- И мне милее зимний хлад.[13]
Баудолино мечтал. Абдул отчаивается увидеть свою дальнюю сладостную страсть, говорил он себе. Какой Абдул счастливец! Моя пеня неистовее, потому что я-то любовь свою должен увидеть, еще как должен, я увижу ее в один распрекрасный день и не будет мне того спасения – никогда не видеть, а одно сплошное мучение – знать и кто она и какова собой. Но коль скоро Абдул находит утешение, передавая свои чувства нам, почему бы мне не утешиться, передав свои чувства ей самой? Другими словами, Баудолино предположил, что можно умерить душевное трепетание, записав все то, что чувствуешь, поскольку грешно было бы лишить любимое создание всех этих изъявлений нежности. Поэтому ночами, покуда Поэт спокойно спал, Баудолино строчил.
«Звездами озаряется полюс, луною ночи расцвечены. Но меня ведет одно светило, и если, по рассеянии сумерек, моя звезда подымается от Востока, разум мой отрешится от сумерек скорби. Ты моя путеводная звезда, носительница света, пришедшая рассеять ночь, а без тебя ночным мраком станет и самый свет, в то время как с тобою и ночной мрак – сплошное сияние».
И затем: «Мой голод только одна ты насытишь, мою жажду только одна ты утолишь. О, что я говорю! Не утолишь, не насытишь, а только уймешь, никогда я насыщен и не был и не буду…»
Далее: «Столь несравненна твоя нежность, неизреченна твоя верность, неописуема твоя беседа, неизъяснимы грацияи краса, что невежеством была бы любая попытка рассказать это в словах. Да взгнетается пламя, которое нас гложет, да обрящет все новый подкорм, а чем больше оно скрывается, тем пылает сильнее, вводя в обман завидчиков и лукавцев. Да вечно продлевается раздумье: чья из наших двух любовей сильней, и да длится бесконечно наша тенцона, в которой победители – оба борца…»
Красивые получались письма. Перечитывая их, Баудолино распалялся и все больше очаровывался созданием, умевшим вдохновлять подобный жар. Дошло до того, что он не мог уже жить, не зная, что ответит Беатриса на весь этот насладительный напор. Он решил добиться ее ответа. Поэтому, старательно имитируя женский почерк, Баудолино начертал:
«Любови, исторгающейся из предсердия, благоухающей пуще любого знаемого аромата, та, что одна – и твое тело и душа твоя, для жаждущих цветов твоея младости, желает свежести вечного благополучия… Тебе, моя утеха, мое обаяние, преподношу свою верность, дарую тебе полную преданность всей души, покуда продолжается моя жизнь…»
«О, – рьяно отвечал Баудолино на это письмо, – благословенна будь, ибо в тебе все мое благо, в тебе и упование и покой. Как только просыпаюсь, душа моя объемлет тебя, ибо тебя внутри себя сохраняет…»
Она на это, вся пылая:«С мига, когда только мы впервые увидались, я предпочла тебя всем прочим, предпочтя, тебя возжелала, возжелавши, тебя взыскала, искавши, тебя находила, найдя, тебя возлюбила, возлюбивши, тебя взалкала, взалкавши, учредила в сердце своем превыше всего… и вкусила твой мед… привет тебе, мое сердце, плоть моя, несравненное ликование…»
Эта переписка, продлившись в общем несколько месяцев, сначала принесла облегчение измученной душе Баудолино, затем даровала ему непомерную радость и наконец переполнила его горячей гордостью, ибо любовник не мог объяснить самому себе, по какой причине любовница настолько сильно его полюбила. Наподобие всех других влюбленных, Баудолино заразился тщеславием, наподобие всех влюбленных писал, что намерен сохранять тайну вместе с возлюбленной, и при этом он ожидал, что мир узнает о его счастии и потрясется пред лицом бесконечной вожделенности той, которая его вожделеет.
Соответственно он показал переписку своим товарищам, не вдаваясь в подробности о том, как и с кем совершался этот обмен посланиями. Он не лгал, напротив, сказал, что письма готов показывать именно потому, что они являются порождением его фантазии. Но товарищи решили, что именно в этом высказывании и запрятана ложь, и тем паче призавидовали его счастию. Абдул мысленно присвоил эти письма принцессе и заволновался, будто бы сам их получил. Поэт, который намеренно подчеркивал, что не придает никакой важности этой литературной игре (но при этом внутренне терзался, что не он написал такие прекрасные послания, вдохновляя еще более прекрасные ответы), не имея в кого бы ему влюбиться, влюбился в сами письма… В этом нет ничего странного, откомментировал с улыбкой Никита, потому что молодому возрасту свойственно влюбляться в самую любовь.
Вероятно, ища новых тем для своих мелодий, Абдул усердно переписал послания, дабы читать их в сен-викторском уединении. Однако однажды он обнаружил, что письма были кем-то неизвестным похищены, и испугался, что какой-то развратный каноник, укравший их для похотливого ночного смакованья, использовав, забросит неведомо где между тысяч библиотечных книг. Содрогнувшись, Баудолино закрыл на ключ свои письма в сундуке и с той поры уже новых не создавал, чтобы не компрометировать далекую корреспондентку.
Как бы то ни было, любовная ярь семнадцатой весны требовала выхода и Баудолино перешел на стихи. В посланиях он повествовал о чистейшей любви. Стихи же его, напротив, представляли собою упражнения в кабацком виршеплетстве, обычном для клириков: воспевая рассеяния бездумного житья, те умели и попенять себе на пустую растрату времени…
Чтоб Никита оценил достижения его таланта, Баудолино процитировал несколько полустиший:
- Feror ego veluti – sine nauta navis,
- ut per vias aeris – vaga fertur avis…
- Quidquit Venus imperat – labor est suavis,
- quae nunquam in cordibus – habitat ignavis.
Увидев, что Никите нелегко разбирать с ходу по-латыни, Баудолино перевел:
- Как ладья, что кормчего – потеряла в море,
- Словно птица в воздухе – на небес просторе,
- Все ношусь без удержу – я себе на горе,
- С непутевой братией – никогда не в ссоре…[14]
Показав эти и прочие стихи Поэту, Баудолино довел его до такой вспышки зависти и стыда, до таких слез, до признания в скудости собственного воображения, до таких проклятий творческому слабосилию, что тот криком исходил, рыдая: стократ бы лучше не мочь проникнуть в женщину, нежели подобная неспособность выразить то, что скрывается в нем самом… Выразить именно то, что Баудолино отображает столь совершенно, что кажется, будто черпал из его, из Поэтова сердца… Подумать только, сколь доволен мог бы быть его родитель, если бы узнал, что сын сочиняет такие выразительные стихи! А ведь настанет день, когда и семья и мир потребуют от него отчета за лестное прозвище Поэта, за напрасную лживую кличку! Истинно ему должно быть имя poeta gloriosus, то есть мнимый поэт, бахвал, присваивающий постороннюю почесть!
Баудолино, зря друга в таком помрачении, дал ему в руки пергамент, подарил свои стихи, дабы тот отныне мог показывать их как собственные. Ценный подарок, поскольку при этом Баудолино, желая порадовать чем-то новеньким свою Беатрису, послал ей в письме стихи и сообщил, что автор – его товарищ. Беатриса прочла стихи Фридриху, Рейнальд из Дасселя слышал это чтение и, будучи любителем словесности, даром что прежде всего виртуозом дворцовых интриг, сказал, что ему приятно бы было видеть Поэта среди своих доверенных сотрудников.
Рейнальду именно в тот год выпала честь сподобиться титула архиепископа Кельнского. Поэту же перспектива стать придворным стихотворцем архиепископа, а следовательно (отчасти шутя и отчасти красуясь провозглашал он), сделаться Архипиитой, была весьма приятна; отчасти потому, что учиться ему очень мало хотелось, отцовых денег на парижские расходы никак не доставало, а придворному поэту, как предчувствовал он (и вполне справедливо), полагалось вкусно есть и много пить и не заботиться ни о каком другом деле.
Разве только о писании стихов. Баудолино обещал снабдить его не менее чем дюжиной, но не советовал публиковать все сразу. – Видишь ли, – произнес он такую проповедь, – не всегда у стихотворцев понос. Бывают и запоры, и как раз у самых великих. Пусть все вокруг поймут, что Музы тебя истерзывают. Что ты способен порождать не более двух-трех полустиший за раз. С моим запасом ты сумеешь продержаться несколько месяцев. Но мне тоже потребно некоторое время, ведь и у меня понос бывает не всякий день. Так что погоди ехать, для начала отправь Рейнальду парочку стихов, чтоб подогреть его симпатию. Для этой цели самое уместное – стихотворное послание, воспевающее благодетеля.
Баудолино просидел всю ночь и составил в честь Рейнальда следующее:
- Presul discretissime – veniam te pecor,
- morte bona morior – dulci nece necor,
- meum pectum sauciat – puellarum decor,
- et quas tacto nequeo – saltern chorde mechor…
- Мне, владыка, грешному – ты даруй прощенье:
- Сладостна мне смерть моя, – сладко умерщвленье;
- Ранит сердце чудное – девушек цветенье, —
- Я целую каждую – хоть в воображенье…[15]
Никита заметил, что латинские епископы развлекались не самыми благолюбивыми акафистами, но Баудолино ответил, что прежде всего следует знать, что такое являют собой латинские епископы. От них вовсе не ждут святого образа жизни, в особенности если ими исполняется еще и должность имперского эрцканцлера. Кроме того, невредно бы еще и иметь в виду, что за личность являл собою этот Рейнальд. От епископа в нем было крайне мало, от эрцканцлера – крайне много. Любовь к поэзии, разумеется, ему была свойственна, но в гораздо большей степени было свойственно стремление использовать таланты на своей службе, в том числе и поэтические. Использовать в чисто политических целях, как он впоследствии и продемонстрировал.
– И так Поэт прославился твоими стихами.
– Вот именно. В течение почти целого года Поэт посылал Рейнальду потоки изъявлений преданности, напичканные стихами, которые я ему передавал, в результате чего Рейнальд категорически потребовал, чтобы необыкновенное дарование во что бы то ни стало прибыло пред его очи. Поэт отправился с хорошим запасом стихов, которые ему надлежало растянуть на год, постоянно жалуясь на запоры. Его превознесли… Я так и не уяснил, как можно тщеславиться лаврами, полученными в виде милостыни, но Поэта, похоже, удовлетворяло все как есть.
– А я не уяснил другого: какая тебе-то радость была с того, что твои творения приписали другому человеку? И не ужасно ли, что отец отдает кому-то ради милостыни детищ от собственных чресел?
– Удел кабацкого творчества – быть на устах у всех, не принадлежа одному. Главная радость, когда твою песню поют. По-моему, эгоизм – исполнять ее только, чтоб преумножилась твоя собственная слава.
– Нет, я не думаю, чтоб ты был столь прост. Тебе сладостно ощущать себя Князем Лукавства. Ты этим гордишься. Ты мечтаешь, как вдруг найдется твоя любовная переписка в рукописном отделе библиотеки Сен-Виктора. И как ее атрибутируют поди угадай кому…
– Я и не прикидываюсь простым. Я люблю видеть: совершается нечто и только мне известно, что это дело моих рук.
– Чем дальше, тем круче, милый мой, – протянул Никита. – Я величаю тебя Князем Лукавства, а ты в ответ, что тебе хотелось бы быть Господом Богом.
8
Баудолино в Земном Раю
Баудолино хоть и был поглощен парижской учебой, однако успевал следить за тем, что происходило в Италии и в Германии. Рагевин, по завещанию Оттона, продолжил за него «Деяния Фридриха», но ныне, завершив четвертую книгу, остановился. Счел богохульством превосходить число святых Евангелий. И, распрощавшись с двором, в сознании исполненного долга, он скучал ныне в далеком баварском монастыре. Баудолино написал ему, что имеет доступ к безбрежной библиотеке Сен-Виктора, и Рагевин попросил его перечислить какие-либо редкие трактаты, дабы дать ему возможность обогатить свою ученость.
Баудолино, разделяя мнение Оттона относительно бедной фантазии скромного каноника, счел за благо предложить ему неожиданную умственную пищу и поэтому, сообщив несколько названий тех томов, что действительно он видел, присовокупил и ряд других, которые тут же сам на месте выдумал, например «De optimitate triparum» («О превосходных качествах требухи»[16]) Достопочтенного Беды, а также трактаты «Ars honeste petandi» («О благопристойном ветров выпускании»), «De modo cacandi» («О способах испражнения»), «De castramentandis crinibus» («О постое гарнизонов в волосах»[17]) и даже «De patria diabolorum» («Отечество дьявола»). Эти труды изумили и даже ошеломили доброго каноника, который поспешил затребовать списки сих несусветных таилищ знания. Баудолино с удовольствием оказал бы ему эту услугу, чтоб искупить вину за пергаменты Оттона, в давнем прошлом им соскобленные, но не знал, откуда бы списать эти сочинения. Поэтому он отговорился: сочинения-де и вправду содержатся при Сен-Викторе, но они почти еретические и каноники не выдают их читателям. – Через некоторое время, – сообщил Никите по ходу рассказа Баудолино, – я узнал, что Рагевин написал одному парижскому ученому с просьбой получить для него запрещенные тома у сен-викторцев, на что те ответили, натурально, что не находят запрашиваемых книг на полках. Обвинили библиотекаря в халатности. Тот божился, что он, бедняга, даже названий этих не видел. Надо думать, в конечном итоге какой-нибудь каноник, желая привести дела в порядок, взял да и написал эти сочинения… Надеюсь, что они когда-нибудь обнаружатся ко всенародной радости…
Поэт тем временем рассказывал ему последние новости о деяниях императора. Итальянские города не собирались соблюдать соглашения, достигнутые на имперском сейме в Ронкалье. Согласно этим пактам, непокорным городам полагалось разобрать военные машины и порушить оборонные укрепления, но вместо этого горожане вяло притворялись, будто закидывают рвы вокруг городов, а на самом деле рвы оставались, да еще какие. Фридрих отправил императорских посланников в Крему сказать кремаскам, чтоб пошевеливались, но насельники Кремы посулили поубивать имперских легатов, и если б те не спаслись своевременным бегством, они бы их действительно убили. Вследствие этого в Милан были посланы лично канцлер Рейнальд и один пфальцграф, с поручением назначить градоначальников, потому что не могли же миланцы на словах признавать имперские прерогативы, а на деле – самовольно выбирать собственных консулов. Там опять приехавшим воеводам чуть не привелось поплатиться жизнью, а ведь дело шло не о каких-то поверенных, а об имперском канцлере и одном из графов монаршего двора! Мало этого, миланцы обложили осадой замок Треццо и заковали в цепи гарнизон. В довершение они вторично налетели на город Лоди, а император, когда трогали его Лоди, окончательно терял кротость. В общем, чтобы показать им, где раки зимуют, Фридрих подошел под Крему с осадой.
Сначала эта осада велась как заведено между правыми христианами. С помощью миланских жителей обитатели Кремы совершали молодецкие вылазки и брали в плен немало имперских воинов. Те осадчики, что происходили из Кремоны (они от ненависти к жителям Кремы присоединились к войскам императора вместе с павийцами и с ополчением из города Лоди), строили мощнейшие осадные машины, которые были опаснее для атаковавших, чем для атакуемых, но это уже частности. Стычки состоялись знатные, с удовольствием повествовал Поэт, и всем запомнилось, какую хитрость выдумал лично император: из Лоди подвезли ему двести порожних бочек, он их велел набить землей и кинуть в ров, потом на бочки навалили землю и доски, тоже подвезенные лодийским ополчением (более двух тысяч телег), и после этого по рву свободно проходили кошки, чтобы лупить тараном в стену.
Но как они пошли на приступ с самой здоровенной деревянной башней, произведением кремонцев, а изнутри города стали швырять из катапульт тяжеленные камни и башню чуть было не свалили, император от гнева сделался буен. Он вывел тех военнопленных, что были родом из Кремы и Милана, и дал приказ их привязать впереди башни и по ее бокам. Он думал, что когда осажденные увидят перед собой своих братьев, сыновей, родителей и свояков, они перестанут кидать камни. Император не учел, до чего дошли в своей ярости обитатели Кремы – и те, что сражались внутри крепости, и те, что болтались снаружи. Именно эти последние и вызывали на себя канонаду из крепости, убеждая родичей никого не жалеть, и те на стенах осажденного города, стиснув зубы, не вытирая слез, не дрогнув перед казнью родных, стреляли по мощной башне, и девять военнопленных в тот день потеряли жизнь.
Студенты, прибывшие учиться в Париж из Милана, уверяли Баудолино, что на башне были привязаны даже маленькие дети, но Поэт клятвенно опровергал это сообщение. Как бы то ни было, даже император был поражен, и всех прочих пленных с башни отвязали. Однако жители Милана и Кремы, остервенелые после всего, что было сделано с их товарищами, вывели из города пленных германцев и лодийцев и на крепостном валу зарезали всех до одного прямо на глазах у Фридриха. Тот велел доставить под стену Кремы двух пленных граждан, прямо на плацу устроил над ними суд, обвинив в разбое и отступничестве, и подвел под смертный приговор. Жители Кремы дали знать: если-де наших повесят, мы перевешаем всех ваших, что сидят тут у нас в заложниках! Фридрих сказал на это, что пусть только попробуют, и лишил жизни двоих осужденных. В ответ кремаски повесили всех имевшихся заложников coram populo (по выражению древних римлян, «в присутствии народа, сената и патрициев»).
Фридрих от гнева так ошалел, что велел взять всех кремасков, кто только у него еще остался, выстроил вереницу виселиц перед чертой города и начал вешать всех по очереди. Епископы и аббаты ринулись на место казни, умоляя, дабы тот, кто призван быть источником милосердия, не состязался с противником в злодействе. Фридрих был тронут их заступничеством, но не мог забрать назад ужасные посулы и поэтому потребовал уничтожить хотя бы девять человек из тех несчастных.
Слушая эти истории, Баудолино плакал. И не по одному своему врожденному миролюбию, а более от мысли, что его приемный отец запятнался столькими грехотворствами. Эта мысль подвела его и к решению остаться в Париже и продолжить учебу, и, нечувствительно для него самого, как-то сняла с души камень, вселив в него чувство, что не столь уж предосудительно любить императрицу. Он снова начал писать письма, чем дальше, тем более страстные, и такие ответы, от которых пробрало бы и скитника. Только на этот раз он не стал их показывать другим студиозусам.
Все же ощущая некую виноватость, он решил сотворить что-нибудь во славу монарха. Оттон оставил ему святую задачу: вывести на божий свет предание о пресвитере Иоанне. Баудолино и взялся искать этого безвестного священника, который, по свидетельству Оттона, в своей безвестности был очень и даже очень известен.
Поскольку Баудолино и Абдул, успешно преодолев троепутье и четверопутье, ныне готовились к диспуту, они взялись за разработку вопроса: существует ли на самом деле пресвитер? Но взялись они за эту разработку при таких обстоятельствах, о которых Баудолино несколько стеснялся рассказывать Никите.
После отбытия Поэта Абдул переселился к Баудолино. Однажды, воротясь, Баудолино застал Абдула за одиноким пеньем. Тот исполнял одну из своих самых дивных песен и бредил, будто повстречался с принцессой, недостижимой и далекой, но всякий раз, как только он подходил к принцессе вплотную, ему казалось, ноги относят его обратно. Баудолино, сам не зная, силой ли музыки или силой слов, но будто донесся до своей любимой Беатрисы, она предстала перед ним при звуках песни, но уклонялась и ускользала от взора. Абдул все пел, и никогда еще его голос не источал такого соблазна.
Закончив песню, Абдул поник, изнуренный. Баудолино было испугался, не сомлел ли тот, и наклонился, но Абдул, чтоб успокоить, махнул рукой и засмеялся неведомо чему, без всякой причины. Весь сотрясался от одинокого смеха. Он в лихорадке, подумал про себя Баудолино. Абдул, не прекращая хохотать, просил оставить его в покое: само пройдет. Ему известно, в чем объяснение припадка… В конце концов, уступив Баудолиновому любопытству, он согласился выдать секрет.
– Слушай же, коли так, мой друг. Я сейчас принял зеленого меда. Небольшую толику. Мне известно – это дьявольское искушение, но порой очень помогает петь. Слушай и не осуждай меня. С самого раннего детства у себя в Святой Земле я узнал былины восхитительные и жуткие. В тех былинах говорилось, что поблизости от города Антиохии проживают сарацины, у которых на скале построено укрепление, неприступное ни для кого, кроме орлов. Господин их носит имя Алоадин и внушает величайшее опасение и сарацинским владыкам, и христианским. У него в твердыне, сказывали, обретается волшебный сад, полный плодов и злаков, там текут и ручьи из вина, молока, меда и воды, а вокруг пляшут и поют девы невысказуемого пригожества. В том саду поселяют юношей, которых по приказу Алоадина похищают из разных мест, их селят в саду и там они приучаются ко всемерным наслаждениям. Говорю про наслаждения, потому что взрослые перешептывались (а я совестился и краснел), будто девы щедры, ласковы и одаряют молодых гостей таким вниманием, что и услаждает и размучивает. И, конечно, попадающие в тот сад не желают покидать его.
– Очень милое место создал твой Алоадин или как его там звали, – улыбнулся Баудолино, обтирая лоб своего друга мокрым полотенцем.
– Ты послушай дальше, – перебил его Абдул. – Узнаешь, что это было на самом деле. Вдруг такой юноша просыпается на загаженном дворе, под палящим солнцем, на руках и на ногах оковы. Промучивши несколько дней его этой пыткой, юношу ведут перед очи Алоадина. Юноша, кинувшись владыке в ноги, с угрозами лишить себя жизни молит восстановить его в радостях и негах. Без них он уже себя не мыслит. Алоадин в ответ сообщает, что на юношу пало неудовольствие пророка и он сможет возвратить себе пророкову благосклонность только через геройский подвиг. Ему дают золотой кинжал и отправляют в далекое странствие, с задачей попасть ко двору некоего князя, врага Алоадина, и этого князя убить. Так он заслужит возвращение к желанному образу жизни. Если же он погибнет, выполняя свой долг, то в награду будет впущен в рай, полностью одинаковый с тем местом, которое он покинул только что, и даже в чем-то еще получше. Поэтому Алоадин обладал величайшим могуществом и устрашал соседей, как ближних, так и дальних, мавров и христиан, всех без изъятия, потому что его посланцы не имели никакого страха.
– Если так, – отвечал Баудолино, – предпочту какой-нибудь из наших кабаков в Париже, с нашими девушками, за них не берется такой серьезный выкуп… Но ты-то как замешан в эту историю?
– Я замешан, потому что десяти лет от роду был похищен слугами Алоадина. И пять лет жил у него.
– И в десятилетнем возрасте ублажился этими девицами, о которых ты рассказываешь? А потом тебя отправили на смертное задание? Что ты, Абдул, несешь? – взволновался Баудолино.
– Я был чересчур мал, не мог приобщаться к сонму блаженных юношей. Меня сделали прислужником дворцового евнуха, заведующего их наслаждениями. Послушай, что я обнаружил. За все пять лет я не видел сада. Юношей постоянно держали в оковах на том залитом солнцем, загаженном дворе. Каждое утро евнух брал из шкафа серебряный горшок, в котором была густая, будто мед, каша, зелено-желтого цвета, и проходил между лежащих, давая каждому по ложке зелья. Те, проглотив, начинали рассказывать вслух себе и окружающим про те радости, что обещала легенда. Понимаешь? Вот так они проводили день с открытыми глазами, с блаженной улыбкой, а к вечеру уставали, и так проходил каждый вечер: хихикают, хохочут, и так все тихо переходят ко сну. Я же, потихоньку взрослея, понимал обманные ходы Алоадина. Они жили в цепях, полагая себя в кущах Рая, и чтоб не терять тот Рай, становились орудием властелина. Если им выпадало счастье возвратиться живыми с заданий, их опять заковывали, и они снова видели и слышали то, что вызывалось зеленым медом.
– А ты?
– А я однажды ночью, пока остальные спали, пробрался туда, где стояли серебряные горшки с золотисто-зеленым медом, и попробовал немножко… То есть не просто попробовал… Я проглотил хороших две ложки и внезапно начал видеть удивительные вещи…
– Попал в тот райский сад?
– Нет, может быть, остальным тот сад мерещился, потому что при их прибытии Алоадин им рассказывал про сад. Думаю, зеленый мед вызывает те видения, что уже заложены в душу. Я внезапно попал в пустыню, пустыня была вокруг, я видел ее из оазиса, я видел цепочку верблюдов, изукрашенных перьями, вереницу разноцветных тюрбанов, тюрбаны были на маврах, мавры били в тамбуры, мерно позвякивали кимвалы. В конце каравана под балдахином, что был на плечах четырех великанов, плыла та далекая принцесса. Я не могу описать ее внешность. Она была… как сказать это… так блестяща, что я запомнил только яркость, только это слепящее сияние…
– Но какова она лицом, красива?
– Лица я не видел, оно было скрыто покрывалом.
– В кого же ты тогда успел влюбиться?
– В нее. Потому что я ее не видел. Прямо в душу, понимаешь, прямо в сердце мне вошла бесконечная благостыня… истома, не унявшаяся до сего дня… Караван уходил себе вдаль по дюнам, и я знал, что призрак никогда не вернется… Я твердил, что должен настигать восхитительную деву, однако под утро на меня напал странный хохот, я подумал, что это знак счастья. Между тем это морок от зеленого меда, когда действие его проходит. Я проснулся, солнце было высоко на небе и евнух едва не застукал меня у шкафа. С той поры я приучился думать, что мой путь – побег, а затем поиски прекрасной принцессы.
– Но ты ведь знаешь, что она морок от зеленого меда…
– Да, видение было мороком. Но то чувство, которое внутри меня поселилось, было подлинной настоящей страстью. Страсть, которая поселяется в сердце, это уже не морок, она живая.
– Но твоя страсть – к мороку.
– Однако я хотел бы сохранить эту страсть. Ее достаточно, чтобы ей посвятить жизнь.
Короче, Абдулу удалось бежать и вернуться в семью, где он считался без вести пропавшим. Отец, опасаясь мщения Алоадина, отправил Абдула из Святой Земли в Париж. Абдул, покидая Алоадинов замок, вынес с собой кувшин зеленого меда, однако, заметил он, ни разу не отведывал зелья, боясь, как бы проклятая отрава не завлекла его обратно в оазис, чтобы там вечно сокрушаться в экстазе. Он не знал, сможет ли совладать с волненьем. А принцесса, та отныне состояла при нем навеки, никому не удалось бы отдалить ее от Абдула. Лучше было мечтать о ней как о цели, нежели владеть ею в ложном воспоминании.
Позднее, нуждаясь в энергии для песен, в которых он встречался с принцессой, присущей, невзирая на дальность, порою Абдул дерзал отведывать меда, но самую крошку, на кончике ложки, чтоб только ощутился вкус. Экстаз наступал, он бывал недолог. Вот и сегодня вечером тоже.
Рассказ Абдула увлек Баудолино. Его соблазняла возможность воспользоваться видением, даже кратким, чтоб повидаться с императрицей. Абдул не смог отказать, дал крошку меда. Баудолино почувствовал только легкую одурь да сильный позыв рассмеяться. Но разум его воспрял. Поразительно! Мысли летели не к Беатрисе, а к пресвитеру Иоанну! Он даже подумал: не является ли истинным предметом желания неприступное государство? Вовсе не дама, владеющая сердцем? Так случилось, в достопамятный вечер, что Абдул, уже избывший действие меда, и слегка отуманенный Баудолино снова стали рассуждать о пресвитере: он существует? Поскольку под воздействием зеленого меда никогда не виденное становилось явным, друзья пришли к заключению о существовании пресвитера.
Существует, провозгласил Баудолино. Ибо нет причин, противостоящих его существованию! Существует, согласился Абдул: ибо он слышал от какого-то клирика, что за страной мидийцев и персов христианские цари сражаются с язычниками.
– А как зовут этого клирика? – спросил Баудолино, волнуясь.
– Борон, – отвечал Абдул.
На следующий день друзья разыскали Борона.
Тот оказался клириком из Монбельяра, вагантом, каких в Париже было немало, завсегдатаем Сен-Виктора. Сегодня здесь, назавтра он мог перебраться в любое неведомое место, поскольку, похоже, был занят какими-то поисками, а что искал – помалкивал. Вечно всклокоченная голова, глаза, воспаленные постоянным чтением при тусклом свете, – настоящий кладезь премудрости. Он очаровал их с самой первой встречи, происходившей, разумеется, в таверне, поскольку предлагал столь заковыристые темы, на которые их учителям понадобились бы бессчетные дни диспутов: можно ли замораживать сперму? может ли зачать проститутка? более ли зловонен пот головы, нежели пот всех остальных органов тела? краснеют ли уши от стыда? печалится ли более человек от смерти возлюбленной или же от ее замужества? должны ли благороднорожденные иметь висячие уши? ухудшается ли сумасшествие от полнолуния? Более же всего занимало Борона существование пустоты, о каковом предмете он был начитан лучше всякого другого философа.
– Пустота, – разглагольствовал Борон, напихивая рот разной снедью, – не существует, поскольку природа ее страшится. Что пустоты не существует, видно в силу философских причин, ибо существуй она, ей бы надлежало быть или субстанцией, или акциденцией. Материальной субстанцией она не является, поскольку тогда была бы телом и занимала пространство. Бестелесной субстанцией она не является, потому что тогда, подобно ангелам, она имела бы интеллект. Она не является акциденцией, поскольку акциденции существуют лишь в качестве атрибутов субстанций. Кроме того, пустота не существует в силу и физических причин. Возьмем цилиндрическую вазу…
– Но для чего, – перебивал его Баудолино, – тебе так нужно доказывать, что пустоты не существует? Далась тебе эта пустота!
– Значит, далась. Повторяю: пустота может являться средоместной, то есть быть в середине между одним и другим телом подлунного мира, или же пространной, то есть быть вне видимого нами универса, замкнутого в огромной сфере небесных тел. В этом случае там могут обретаться, в пространной пустоте, иные миры. Но если доказуемо, что средоместной пустоты не бывает, тем более не может быть пустоты пространной…
– Ну, а иные-то миры на что тебе дались?
– Значит, дались. Если бы они существовали, Иисус Христос должен был бы принести себя в жертву в каждом из оных и в каждом из оных пресуществить хлеб и вино. Выходило бы: предвечная вещь, доказующая и подтверждающая таинство, – не единственна, а бытует в нескольких экземплярах. Какую тогда ценность имела бы вся моя жизнь, не будь я убежден, что где-то имеется единственная предвечная сущность и я эту единственную сущность разыскиваю?
– А какую ты разыскиваешь предвечную сущность?
В ответ Борон отрезал, как отрубил: – Не ваше дело. Не обо всем приличествует знать профанам. Поговорим на другую тему… Если бы миров было много, было бы много и первых людей, Адамов и Ев, совершавших свой первородный грех. Следовательно, много Земных Раев. Ну, сами подумайте: настолько выспренних мест, как выспренний Земной Рай, разве может их быть на свете много? Много может быть обыкновенных городов, вроде вот этого, Парижа, с обыкновенной рекой и с обычным холмом, скажем, Святой Женевьевы. Но Земной-то Рай, он на свете только один, в отдаленной области, за мидянами, за персами…
Так разговор подошел к интересующей их теме. Друзья тотчас выложили Борону все свои рассуждения о пресвитере. Да, Борон уже об этом что-то слышал от какого-то монаха… о восточном христианском правителе… Он читал в одной книге странствий, что много лет назад к папе Каликсту Второму приезжал патриарх всех Индий. Похоже на то, что он и папа почти друг друга не разумели, в силу разности языков. Патриарх описывал город Хулну, где течет одна из рек, вытекающих из Земного Рая, это река Физон, которая именуется еще и Ганг, и где на горе за стенами города построена часовня, в той часовне выставлено тело Фомы-апостола. Доступ на гору невозможен, так как она возвышается в середине озера, но на восемь дней каждый год воды озера расступаются, и самые богобоязненные из тамошних жителей поклоняются останкам апостола, нетленным, будто бы он не умирал. Напротив, по свидетельству патриарха, его лик сиятелен, как звезда, волосы рыжи, длиной они достигают плеч, есть борода, а одежду будто бы сегодня сшили.
– Но ниоткуда не следует, что этот патриарх был пресвитером Иоанном, – осторожно закончил Борон.
– Ниоткуда, – ответил Баудолино, – но по всему ясно, что уже много лет мир изобилует слухами о крайсветном царстве, блаженном и неведомом. Смотри сам. В своей «Истории о двух царствах» мой учитель епископ Оттон сообщает, что некий Гугон Габальский говорил, будто Иоанн после победы над персами предлагал помощь христианам Святой Земли, но ему пришлось остановиться, когда он подошел к берегу Тигра, потому что не было судов, чтоб переправить войско. Так что Иоанн обитает на том, противоположном берегу Тигра. Видишь? Но еще интереснее, что о том было известно, кажется, и до Гугона. Перечитаем Оттонову летопись. В ней, я знаю, ничто не случайно. С какой стати этот Гугон докладывает папе причины, по которым у Иоанна ничего не вышло из затеи помогать святоземельным христианам? Иоанн как будто оправдывается? Из этого явно, что в Риме кто-то на него рассчитывал! Далее, Оттон говорит, что в речи Гугона употреблено имя «Иоанн», «sic enim eum nominare soient», «как его именуют в обиходе». Кто именует? Ясное дело, не один Гугон, раз глагол «именуют» во множественном числе! Оттон пишет, что Гугон утверждает, будто Иоанн, по следам Волхвов, чей он последователь, отправился было в Иерусалим, и тут же Оттон использует слово «fertur» (считается), а другие глаголы опять же стоят во множественном числе: asserunt (утверждают)… Утверждают, что Иоанн не помог христианам… В университете преподаватели нас учили, что лучшим доказательством истинности, – подвел итог Баудолино, – является прецедент.
Абдул шепнул на ухо Баудолино, что поди-ведай, не случалось ли Оттону жевануть зеленого меда, но Баудолино в ответ двинул его локтем под ребро.
– Я, честно говоря, пока не понял, зачем вам занадобился этот пресвитер, – сказал Борон. – Но если вы хотите искать его, вам, думаю, дорога не к реке, вытекающей из Земного Рая, а прямо-прямехонько в этот Рай. Ну, о Рае я мог бы рассказывать сколько угодно…
Баудолино и Абдул попробовали выудить из Борона побольше подробностей на этот счет, но Борон так основательно надышался винными парами «Трех подсвечников», что утверждал, будто ничего не помнит. Не сговариваясь, друзья подхватили Борона под мышки и потащили в свою квартиру. Там Абдул осторожно с кончика ложки угостил Борона снадобьем, и по полпорции друзья приняли сами. Борон, ошарашенно мотая головой, оглядывался и пытался понять, где он, но куда бы он ни глядел, повсюду оказывался Земной Рай.
Он стал рассказывать о каком-то Тугдале, который, кажется, бывал в Аду и в Раю. Об Аде говорить не стоило, а вот Рай – это средоточие милосердия, утехи, отрады, красоты, святости, согласия, единства, бесконечности и вечности. За его золотыми стенами расположены скамейки с драгоценными инкрустациями, и на скамьях мужи и жены, юные и пожилые, одетые в аксамитовые мантии, с лицами яркими как свет и волосами чистого золота, и все поют аллилуйю, читая книгу с золотыми буквами.
– Так вот, – рассудительно повествовал Борон, – в Ад может сойти кто угодно, захоти он только, и нередко тот, кто сходит, потом возвращается обратно и способен припоминать узнанное, причем видит себя то инкубом, то суккубом, полагая, будто ему приснился тяжелый сон. Но можно ли всерьез полагать, будто о Рае расскажет тот, кто в самом деле его увидел? Если бы кто-то и попал туда, то не нашел бы в себе потом бесстыдства рассказывать узнанное, ибо есть тайны такого рода, что честный и скромный человек предпочтет их держать при себе.
– Да не допустят небеса родиться на нашей земле такому тщеславцу, – продолжил в тон ему Баудолино, – который обманет доверие, оказанное Господом Богом.
– Между тем, – отвечал Борон, – вы помните случай из жизни Александра Великого, как он оказался на берегу Ганга и пустился плыть по реке, и вдоль реки тянулась какая-то стена, и в ней не было ворот, и через три дня плаванья он увидел в стене окошечко, откуда выглянул старик. Путники спросили старика, платит ли город законные налоги Александру, царю царей, но старик отвечал, что это город праведников. Поскольку мы не можем предположить, что Александр (великий царь, но нехристь) был допущен до Небесного Града, делаем вывод, что виденное и им и Тугдалом являлось именно Земным Раем. То, что я вижу перед собою ныне…
– Где?
– Вон там, – он показывал на дальний угол. – Вижу место, где колышутся сочные зеленые травы, луг душист, полон цветов, и повсюду веют благовония, и, вдыхая ароматы, я не испытываю никакой потребности в еде или питье. Среди этих благих мурав четыре мужа препочтенного вида, в золотых коронах, в руках у них пальмовые ветви… Слышу пение, чую запахи бальзама. О мой Бог, во рту у меня медовая сласть… Вижу храм из хрусталя, в нем алтарь, из коего из середины бьет струя, белая как молоко. Эта церковь с полночной стороны подобна драгоценному камню, с полуденной – ала как кровь, на западе бела как снег, и над нею светятся несчетные звезды, звезды ярче всех тех, что поддаются наблюдению на нашем с вами небосводе. Вижу мужа, власы белые как снег, весь он в птичьем оперении, очи его нет возможности разглядеть, они закрыты бровями чистоты голубиной. Муж указывает мне дерево, которое не стареется, и в тени его кто сел, тот может вылечиться от болезней, он указывает и дерево с радужными листьями… Как я все это сумел увидеть сейчас вот?
– Ты, верно, начитался об этих образах, а вино привело их на самый порог твоего сознания, – отвечал Абдул. – Один добродетельный муж, живший на моем острове, святой Брандан, доплыл по морю до последних пределов земли. Он нашел остров, полный спелого винограда, голубые лозы, лиловые лозы, белые лозы, семь волшебных фонтанов и семь церквей: первая хрустальная, вторая гранатовая, третья сапфировая, четвертая топазовая, пятая рубиновая, шестая смарагдовая, седьмая коралловая, в каждой семь алтарей и семь лампад. Перед церквами, посередине площади, высился столп халцедоновый, увенчанный вертящимся колесом, а на колесе бубенчики.
– Нет, нет, у меня это не остров, – горячо запротестовал Борон. – Это страна около Индии. Я ее вижу. У ее жителей огромные уши и по два языка, чтобы говорить одновременно с двумя собеседниками. Какое тут всеплодие! Деревья ломятся от плодов, на полях урожаи…
– Разумеется, – вторил Баудолино. – Мы ведь и помним, что в Исходе говорится: земля обетованная, «где течет молоко и мед».
– Только не надо путать, – вставил Абдул. – В Исходе описана земля, обетованная после грехопадения, а Земной Рай, наоборот, это усадьба наших праотцев, где они проживали, пока грехопадения еще не было.
– Абдул, мы сейчас не на disputatio. Наша цель не в том, чтобы выбрать, кому куда идти, а в том, чтоб выяснить, каковы характеристики идеального места, куда любому хотелось бы попасть. Очевидно, что если сказанные диковины существовали и до сих пор существуют не только в области Земного Рая, но и на островах, куда Адам и Ева ни разу в жизни не казали носа… владение Иоанна должно быть примерно таково же по внешнему облику! Попробуем же понять, как устроено царство изобилия и добродетели, в котором нет ни лжи, ни алчбы, ни развратности. Иначе с чего бы нам влечься в это царство как в совершеннейшее воплощение христианской добродетельности?
– Только без переборов, – здраво предостерег Абдул. – Иначе никто нам не поверит. В смысле, что никто не поверит, что возможна такая дальняя поездка.
Опять это слово «дальний»… Баудолино надеялся было, что, воображая Земной Рай, Абдул забудет, пусть хоть на один вечер, о своей недостижной страсти. Но нет. Он о ней не переставал думать. Видя Земной Рай, он старался разглядеть в нем принцессу. То и дело бормотал, постепенно оправляясь от зеленого меда: – Может быть, когда-нибудь и поедем мы туда… Май наступил, спешу я вслед/За сладостной любовью дальней…
Борон начинал тихонечко смеяться.
– Вот так, любезный государь Никита, – кончил Баудолино, – ночами я или предавался соблазнам нашего мира, или выдумывал новые миры. Бывало – под вино, бывало – под толику зеленого меда. Нет ничего приятней, чем выдумывать новые миры. Забываешь, до чего непригляден тот, в котором мы все живем. По крайней мере мне в то время так представлялось. Не понимал я, что выдумывание новых миров в конечном счете приводит к изменению нашего.
– Так постараемся себе жить спокойно в этом нашем, где обрелись мы по Божией воле, – отвечал Никита. – Гляди, вот твои замечательные генуэзцы наготовили местных яств. Попробуй. Рагу из нескольких сортов рыбы, морской и пресноводной вперемешку. Не исключаю, что и в ваших краях есть недурная рыба, но думаю, от холодного воздуха она не нагуливает такую сочность, как у нас в Пропонтиде. Заправляется это рагу луком, обжаренным в оливковом масле, корнем аниса, душистыми травами, парой стаканов сухого вина. Рагу накладываем на ломоть хлеба, сверху добавляем авголемон – желтки, взбитые с лимонным соком, прогретые с каплей бульона. Думаю, что именно в Земном Раю у Адама и Евы употреблялась такая еда. Разумеется, до грехопадения. А после грехопадения им пришлось переходить на требуху, как вам в Париже.
9
Баудолино ругает императора и соблазняет императрицу
Баудолино, учась понемножку и богато фантазируя на темы эдемского сада, почти незаметно провел целых четыре зимы в Париже. Он соскучился и по Фридриху, и уж тем более по Беатрисе, которая в своем призрачно измененном виде давно утратила какие бы то ни было земные качества и превратилась в обитательницу парадизного сада, подобно недостижимой Абдуловой принцессе.
Однажды Рейнальд потребовал от Поэта оду в честь императора. Поэт, придя в полный ужас, старался тянуть время и внушал своему начальнику, что обязан дождаться вдохновения, – а сам отправил к Баудолино мольбу о помощи. Баудолино написал замечательное стихотворение «Salve mundi domine»,[18] где Фридрих был вознесен превыше всех других царей, а иго царствования его, говорилось, было сладчайшее. Но не желая доверять стихи случайному посланцу, решил отправиться в Италию, где за то время произошло немало событий, которые он, по их количеству, затруднялся пересказать для Никиты.
– Рейнальд жизнь свою положил на прославление императора в облике повелителя всего света, мирного господина, прообраза законов, не подчиненного никаким законам, rex и sacerdos в едином лице, нового Мельхиседека, а следовательно, ему не миновать было ссоры с папой. И впрямь, приблизительно когда осаждали Кремону, скончался папа Адриан, тот самый, что короновал Фридриха в Риме, и больше половины кардиналов проголосовало за кардинала Бандинелли, чтоб он стал папой Александром Третьим. Рейнальду это было очень и очень некстати, поскольку они с Бандинелли ругались хуже кошки с собакой, и тот за превосходство пап над императорами ратовал с пеной у рта. Не знаю, как уж там интриговал Рейнальд, но ему удалось добиться, чтоб остальные кардиналы и члены сената выбрали совсем другого папу, Виктора Четвертого: им-то Рейнальд и Фридрих могли вертеть как угодно. Конечно же, Александр Третий моментально отлучил от церкви и Фридриха и Виктора… Тут уже не сошла бы обычная отговорка, что этот-де Александр не настоящий папа, и отлученье, им объявленное, несерьезно… Как на грех, французский с английским короли подумывали, не признать ли им Александра. А итальянские города, разумеется, восприняли такого папу как большой подарок: он объявил, что император еретик, а следовательно, императору совсем не обязательно подчиняться. В довершение всего доносились дальние слухи, что Александр столковывается с вашим василевсом Мануилом, ища для опоры империю еще покрупнее священноримской. Ежели Рейнальду требовалось, чтоб Фридрих выглядел единственным наследником римских кесарей, необходимо было выставить наглядное доказательство их прямого преемства. Вот зачем он усадил за работу всех, в том числе Поэта…
Никите трудно было следить за запутанной хроникой Баудолино. У него не только было чувство, что и рассказчик не уверен в очередности фактов; он еще и поражался, до чего одинаковы все поступки Фридриха, совершенные в различные годы. Толком не уяснив, Никита терялся, в каком году миланцы успели заново вооружиться, в каком году они опять объявили войну Лоди, в каком году император начал очередной итальянский поход. Была бы это летопись, – рассуждал он сам с собою, – можно было бы открывать ее наугад. На каждой странице рассказывалось бы одно и то же. Будто во сне, когда повторяется одна сцена и все не удается пробудиться.
Никита понял только одно, что в последующие два года миланцы снова умудрились насолить императору своими наскоками и нападками, и, потеряв терпенье, Фридрих, вкупе с Новарой, и с Асти, и с Верчелли, и с монферратским маркизом, с маркизом Маласпина, с графом Бьяндрате, с ополчениями Комо, Лоди, Бергамо, Кремоны, Павии и еще с какими-то союзниками, обложил осадою Милан. Одним весенним и приятным утром Баудолино, достигший возраста двадцати лет, везя с собой на груди «Salve mundi domine» для Поэта и переписку с Беатрисой (боязно было оставлять ее в Париже в распоряжении домовых воров), предстал под стенами этого города.
– Надеюсь, что под Миланом император проявил себя лучше, чем под Кремой, – вставил свое Никита.
– Он проявил себя хуже, как я узнал по приезде. Велел вырвать глаза шести военнопленным из Мельцо и Ронка-те, а пленному миланцу – вырвать только один, чтобы он повел всех остальных в Милан за собою, но для равности ему отрезали нос. Когда ловили тех, кто пытался провезти в Милан провизию, им отрубали руки.
– Ага, вот видишь, глаза и у вас выкалывают!
– Простонародью! Но не синьорам же, как у вас! Вдобавок они были враги, а не братья родные.
– Ты его оправдываешь?
– Сейчас да, тогда нет. Тогда я негодовал. Не хотел даже с ним здороваться. Но потом пришлось идти с приветствием. Не было иного выхода.
Император, его встречая после долгой разлуки, весело раскрыл объятия, но Баудолино не сумел сдержаться. Он отстранился с плачем, говоря, что тот-де злой человек, напрасно притязающий быть прообразом закона, поскольку ведет себя беззаконно, и ему-де стыдно именоваться сыном человека, не гнушающегося мясничать над людьми.
Любому, кто посмел бы адресовать к нему такие речи, было бы велено вырвать не только глаза и нос, но и уши. Однако, слыша это от Баудолино, Фридрих был потрясен и даже попробовал оправдаться. – Они сопротивлялись, сопротивлялись закону, Баудолино, а ты мне первый сказал, что закон – это я сам. Не могу простить их. Не могу быть добрым с ними. Долг вынудил меня к немилосердию. Думаешь, мне так уж приятно?
– А если тебе неприятно это, отец, почто истребил этих пленных в позапрошлом году под Кремой, почто изувечил миланцев, и не в бою, а на холодную голову, ради принципа, ради мести, бесчестя себя самого?
– А, так ты следил за моими действиями? Как Рагевин? Ну знай же: не для принципа, а в целях примера. Это единственный способ побороть непокорное отродье! Думаешь, Цезарь или Август были добрее? А война, Баудолино, думаешь, тебе известно, что есть война? Ты прохлаждаешься с книжечками в Париже, но когда ты вернешься, знаешь, кем я тебя назначу? Министериалом, а вполне возможно, и рыцарем! Собираешься скакать в свите святоримского императора и не запачкивать рук? Ты гнушаешься крови? Ну, сознайся! Я тебя отправлю к монахам. Но тогда придется блюсти целомудрие, заруби себе, а мне тут рассказывали про твои такие парижские выходки, что куда там в монахи… Как, скажи, ты схлопотал шрам на роже? Удивительно еще, что на роже, не на заднице!
– Ты посылал за мной шпионов в Париж, а мне без всяких шпионов на всех углах докладывали, что ты вытворял в Адрианополе. Лучше уж мои игры с парижскими мужьями, чем твои с византийскими монахами.
Фридрих остолбенел, бледнея. Он прекрасно понял, о чем говорит Баудолино (слышавший этот эпизод от Оттона). Будучи еще свевским герцогом, Фридрих принял крест и участие во втором заморском походе: оказывал помощь христианскому царю Иерусалима. Вот, пока крещеное воинство с трудностями пробивалось вперед, где-то под Адрианополем кто-то из ближних дворян, отбившийся от эшелона, был ограблен и убит – вероятно, местными бандитами. Отношения латинян с византийцами к тому времени были уже очень испорчены, так что Фридрих принял происшествие как вызов. Что было в Креме, то и здесь, ярость его оказалась безудержной, армия ворвалась в первый попавшийся монастырь и перебила всех монахов в монастыре.
Этим было запятнано доброе имя Фридриха. Все делали вид, будто забыли мрачный случай, даже Оттон в «Gesta Federici» обошел его молчанием, описавши вместо этого, как юный герцог чудом спасся от сильного наводнения у Константинополя, и подчеркнув: это был знак, что провидение не отказало ему в сопутствии. Но не забывал сам Барбаросса. Что царапина на душе от позорного поступка не заживилась, было ясно по его ответу. Император побелел, заалел, поднял бронзовый подсвечник и ринулся на Баудолино, будто хотел убить. С трудом на последнем шаге удержался, опустил канделябр, отпустил схваченного Баудолино и произнес сквозь сжатые зубы: – Во имя всех дьяволов ада, ты больше никогда не повторишь того, что сказал сейчас. – Он пошел из шатра, на пороге обернулся: – Повидайся с императрицей, потом можешь бабиться со своими парижскими студентами.
– Я тебе дам бабиться… покажу, с кем имеешь дело, – бормотал Баудолино, отъезжая из лагеря, хотя не сильно понимал и сам, с кем имеет дело Фридрих, только чувствуя, что ненавидит приемного отца и что хотел бы отомстить ему.
Все еще в бешенстве, он пришел в апартаменты Беатрисы. Приложился к подолу ее платья, лобызнул императрице руку, она с удивлением увидела шрам, озабоченно спросила, откуда. Баудолино небрежно отвечал, что перемолвился с разбойниками на дороге, дело житейское в путешествии… Беатриса глянула на него с восторгом, и надо сказать, что, двадцатилетний и львиноликий, он выглядел еще мужественнее благодаря шраму и вообще стал что называется «видный кавалер». Императрица пригласила его садиться и рассказать, где он был, что видел. Тем временем она с улыбкой вышивала, севши под грациозным балдахином. Он, примостившись у ее подножья, рассказывал, сам не соображая, что говорит, и силясь утишить задор. Но покуда текли воспоминания, он залюбовался, взглядывая от низу, ее наклоненным лицом, бесконечно миловидным, и почувствовал в душе все те же страсти, что томили его на протяжении лет. Нет, не те же, другие! В сто раз сильнее. Тут Беатриса сказала, прибавив соблазнительнейшую из улыбок: – Но ты не сдержал своего слова, не писал писем, как я наказала. Как мне хотелось.
Может быть, в ее речах была обычная сестринская забота, может, она хотела только оживить разговор, но для Баудолино любые слова Беатрисы были настоящий бальзам пополам с ядом. И тогда он трясущимися руками вынул из-за пазухи свои к ней письма и ее к нему и, протягивая, прошептал: – Я писал, писал немало, и ты, о Госпожа, часто отвечала мне.
Беатриса не могла понять, приняла листы, начала читать тихо вслух, пытаясь уяснить перекличку этих двух почерков. Баудолино в двух шагах от нее ломал руки, обливался потом, сознавая, что это безумие, что сейчас его вытолкают вон, вызовут стражников, сожалея, что при нем нет ножа, нечем пронзить себе сердце. Беатриса продолжала читать, ее щеки становились алее, голос вздрагивал, когда она произносила огненные словеса, будто служа богохульную мессу; она встала, дважды качнулась, дважды оттолкнув Баудолино, подскочившего, чтоб поддержать ее, а потом сказала почти без голоса: – Мальчик, мальчик, что же ты наделал, а?
Баудолино приник к ней опять, чтоб отнять листы, объятый трепетом, и вся в трепете она протянула руку, лаская его волосы, он повернулся вбок, заглядывая ей в глаза, она кончиками пальцев провела по его шраму. Чтоб не обжечься от этих пальцев, он снова решительно вывернул шею, но Беатриса оказалась слишком близко, они столкнулись буквально нос к носу. Баудолино завел за спину руки, чтоб избежать объятия, но губы его прикоснулись к ее губам, а прикоснувшись, и приоткрылись, так лишь на миг, на один только самый короткий миг был поцелуй приоткрытыми губами, между которыми сблизились и приласкались один к другому также их языки.
По истечении мимолетной вечности императрица отшатнулась, бледная, будто в болезненном приступе, и, глядя Баудолино в лицо, четко и жестко произнесла: – Во имя всех ангелов рая, ты больше никогда не повторишь того, что сделал сейчас.
Она сказала это без гнева, почти без чувства, в забытьи. Потом ее очи наполнились влагой и она добавила тихо: – Пожалуйста!
Баудолино отвесил поклон, почти что ударивши лбом о камни пола, и вышел прочь, не понимая, куда несут ноги. Позднее он осознал, что в краткий миг совершил четыре преступления: оскорбил величество императрицы; прелюбодействовал; предал доверие отца; и вдобавок ко всему поддался подлому искушению – жажде мести.
– В мести ли дело? – спрашивал он себя, пытаясь понять. – Если бы Фридрих не осквернился кровопролитием, если бы он не обидел меня и если бы я не ощутил в сердце позыв ко мщению, сделал бы я то, что сделано? – Предпочитая не отвечать себе, он понимал, что выйди ответ тем самым ответом, которого он боится, значит, он совершил и пятый, и самый ужасный, грех: несмываемо опорочил добродетель своего идола из-за раздражения. То, что являлось постоянным смыслом его жизни, он использовал, выходит, вместо орудия зла.
– Государь мой Никита, это сомнение продолжало терзать меня год от году, хотя я не забывал душераздирающую прелесть тех минут. Все отъявленнее влюбленный, но теперь уже без надежды, даже без упованья на грезу, я жил, зная, что когда я обрету прощение, ее образу суждено исчезнуть даже из снов. В общем, говорил я себе в часы частых долгих бессонниц, ты уже имел все; большего ты не можешь желать.
Ночь сходила на Константинополь, небо не краснело. Огонь, надо думать, утих, лишь на некоторых далеких холмах замечались не языки пламен, а отсветы пожарищ. Никита приказал подать два кубка медового вина. Баудолино отхлебнул, глаза его блуждали в непроницаемой дали.
– Фасосское вино. Внутрь амфоры кладется мучное тесто, замешенное с медом. После брожения крепкое, душистое вино подливают к более тонкому. Правда же, приятная сладость?
– Приятная, – ответил Баудолино, все еще думая о своем. Он поставил чашу.
– Тем же самым вечером, – кончил он свой рассказ, – я на всю остальную жизнь зарекся осуждать Фридриха, потому что я был виновнее его. Преступнее отсекать пленным носы или целовать в губы жену своего благодавца?
После ночи Баудолино просил прощения у приемного отца за те речи, которые наговорил накануне, и полыхнул от стыда, увидав, что Фридрих сам раскаивается. Император приобнял Баудолино, извинился за вчерашний приступ ярости и сказал, что предпочитает тысяче придворных льстецов такого сына, что способен указать отцу на неверный шаг. – Мне боится намекнуть на это даже духовник, – сказал с улыбкой Фридрих. – Ты единственный, кому я доверяю.
Баудолино начал платить пеню за свой грех, умирая от срама.
10
Баудолино находит Волхвоцарей и беатифицирует Шарлеманя
Баудолино оказался под Миланом к моменту, когда миланцы уже не имели сил бороться, измученные осадой и своими частными междоусобицами. В конце концов они выслали переговорщиков условиться о сдаче на тех же основаниях, что и в пору Ронкальи, четыре года назад. То есть по прошествии четырех лет, после стольких убитых, после толикой разрухи, все повторялось капля в каплю. Точнее говоря, эта сдача была еще позорнее предыдущей. Фридрих собрался было вновь дать прощенье, но Рейнальд, не зная жалости, разжигал страсти: задать урок, чтобы крепко запомнили, дать сатисфакцию городам, сражавшимся на стороне императора не столько из любви к нему, сколько из ненависти к Милану.
– Баудолино, – сказал император приемному сыну. – Ты на сей раз меня не виновать. Бывает, что император вынужден уступать своим подчиненным. – И добавил, понижая голос: – Этого Рейнальда я боюсь хуже, чем миланцев.
Так вышло приказание стереть город Милан с лица земли, предварительно выведя из города обитателей обоего пола.
Низменности около города были теперь усыпаны миланцами. Кто бродил, не имея цели, кто расходился по ближайшим городам, кто сидел и глядел на стены, ожидая, что император смилуется, разрешит вернуться. Моросило, беженцы тряслись от холода ночью, дети заболевали, женщины плакали, мужчины, ныне без оружия, скопившись у обочин дорог, возносили проклятия небу, сжав кулаки, ибо спокойней было хулить Всевышнего, нежели императора: у императора были люди везде и на слишком горячие жалобы эти люди могли потребовать объяснений.
Фридрих собирался было уничтожить враждебный город поджогом, но потом передумал и решил предоставить свободу действия итальянцам, которые ненавидели Милан значительно больше, чем он. Солдатам из Лоди было сказано заняться районом у восточных ворот, так называемых Порта Ренца. Кремонцам предстояло снести Порта Романа. Дело павийцев было – не оставить камня на камне от Порта Тичинезе; насчет Порта Верчеллина должны были позаботиться ребята из Новары, комаски – сокрушить Порта Комачина, а ополченцы из Сеприо и Мартезаны – испепелить Порта Нуова. Такие задания пришлись по нраву посланцам итальянских городов, они немало денег вложили в экспедицию императора именно для того, чтобы ныне воспользоваться наконец-то правом свести свои давешние счеты с бессильным, изувеченным Миланом.
Наутро в день начала погрома Баудолино заехал в середину города. Окинув ее взглядом, он не сумел разглядеть ничего, только тучи пыли. Лишь с трудом можно было различить: фасады зданий обхватывались крепкими канатами, и с гиканьем их шатали, объединяя усилия, пока фасады не подавались, а дальше опытные каменщики молотили своими кирками по подстенкам, они же карабкались на церкви и, подбивая, сносили купола, сшибали стены сваебитными бабами, а чтобы повалить столбы, меткими ударами кувалд вгоняли под цоколь клинья.
Баудолино ходил несколько дней по развороченным улицам, он видел, как рушилась колокольня главного собора, столь величественного, столь мощного, что не имел равных в других городах Италии. Усерднее всех показывали себя жители Лоди. Ими двигала только месть. Они ранее других разнесли в щебень свои кварталы города и помчались пособничать кремонцам, разорявшим Порта Романа. А павийцы, те были всех мастеровитее, долбасили не куда попало, а с расстановкой, умело сдерживая запал; выковыривали сухой строительный раствор из щелей между камнями, подводили подкопы под стены, и здание падало само.
В общем, неподготовленному человеку город мог показаться веселым цехом, где всякий рабочий энергично с Господнею помощью выполняет свой урок. Вот только время странным образом двигалось в том цеху вспять: впору бы выстраиваться из разнообразных припасов цельному городу, а между тем, наоборот, старинный город на глазах у глядящих становился пылью, обломками, взрытой землей. Во власти подобных размышлений Баудолино пасхальным утром, в то время как император с великой помпою в Павии праздновал Воскресение Христа, спешил хотя бы одним глазом взглянуть на mirabilia urbis Mediolani, прежде чем Милан вообще перестанет быть. Так-то он и очутился на паперти перед дивной базиликой, покамест неповрежденной, и стал глядеть, как на той же площади павийцы крушат какой-то дворец и так стараются, как будто им за это платят. Они же сообщили ему название базилики: Святого Евсторгия, и что на следующий день у них дойдут руки до нее. «Больно уж ладная церковь, никак оставить не можно», – привел самый дюжий громила убедительный довод в пользу своего замысла.
Баудолино вошел в главный неф базилики, прохладной, пустой и тихой. Кто-то уже успел разгромить и алтарь, и капеллы в притворах. Вдобавок собаки, неведомо как пробравшиеся внутрь, нашли это место для себя пригодным, устроили лежбище, а у подножия колонн оставили немалые лужи. У головного алтаря мыкалась приблудная корова. Скотина была крепкая, здоровая, и Баудолино задумался о том, какая же ненависть должна была владеть разрушителями города, если даже и столь завидное имущество для них ничто в сравнении с основной страстью: страстью уничтожения.
В боковой капелле рядом с высеченным из камня саркофагом старый священник жалобно всхлипывал, вернее повизгивал, как раненое животное. Лицо его было белее глазного белка, а тощая фигура сотрясалась при каждом рыдании. Баудолино, чтоб его успокоить, поднес свою флягу с водой. – Благодарю тебя, христианин, – отвечал ему старый. – Но мне теперь осталось только дождаться смерти.
– Тебя они не тронут, – утешал священника Баудолино. – Осада снята, подписан мир, эта толпа снаружи собирается развалить твою церковь, но тебе-то жизнь сохранят.
– О, что жизнь без этой церкви? Но небо меня по грехам карает. По честолюбию, много лет назад, чтоб этот собор стал прекраснее и знаменитее прочих, я совершил такой грех…
Какой грех мог быть на совести почтенного старца? Баудолино спросил его.
– Очень давно один путешественник с Востока мне предложил купить самые ценные мощи христианского мира, нетленные останки троих Волхвов-Царей…
– Все троих? Волхвов? Целые?
– Всех троих, Волхвов, целые. Будто живые, то есть, я имею в виду, будто вчера умершие. Я знал, что это не может быть… ибо о Царях-Волхвах говорится только в одном Евангелии, в Евангелии от Матфея, и говорится крайне скупо. Только одно: они достигли Иерусалима, шествуя путем звезды. Ни один христианин не знает, откуда они приходили, куда вернулись. Как могло отыскаться их погребение? Поэтому я не осмелился объявить миланцам, что я держатель святыни. Боялся, как бы ради алчности не начали приваживать сюда верующих со всей Италии, зарабатывать на псевдореликвиях…
– А значит, ты не грешил.
– Я согрешил, схоронив покупку в освященном месте. Надеялся, что будет знамение небес, но знамения я не дождался. Теперь не хочу, чтоб святыня досталась этим вандалам. Чтобы они поделили между собой останки в надежде увеличить славу своих родных городов, которые разрывают нас на части. Прошу тебя, уничтожь следы моей старой слабости. Приди с кем-нибудь до вечера и забери эти псевдореликвии, уничтожь их. Нетяжелой работой заслужи себе рай, плоха ли награда?
– И тут я припомнил, государь мой Никита, что о Волхвоцарях упоминал и Оттон в связи с царством пресвитера. Конечно, если бы тот старичок вытащил Волхвов ни с того ни с сего, никто бы не поверил. Тут, впрочем, встает один побочный вопрос. Чтобы быть подлинными, обязательно ли мощам восходить либо к святому, либо к какому-то проявлению святости?
– Совершенно не обязательно. Многие мощи, которые хранятся тут у нас в Константинополе, весьма сомнительного происхождения. Богомольцы же, прикладываясь к мощам, обоняют точимые многочудесные благовония. Их вера придает мощам подлинность, а не мощи придают подлинность их вере.
– Именно. Вот и я подумал, что реликвия получает смысл, когда она находит правильное место в подлинной истории. Вне истории пресвитера Иоанна Волхвоцари, подсунутые бродячим продавцом ковров, не имели значения. А вот в составе истории пресвитера они превращаются в подлинное доказательство. Дверь не дверь, если вокруг двери нет дома. Она просто дыра, да и даже не дыра, потому что пустота, если вокруг нее нет полноты, это даже не пустота. Тогда я понял, что располагаю историей, в составе которой Волхвы могут что-то означать. Я подумал, что если должен рассказывать об Иоанне, дабы открыть императору Фридриху врата Востока, то подтверждение в виде Волхвоцарей, которые именно с Востока и приехали, укрепляет мои позиции. Эти бедные Цари почиют в своем саркофаге, позволяя павийцам с лодийцами разорять город, несознательно их приютивший. Они, ничем не обязанные Милану, попавшие туда проездом, спят себе как в гостинице, в предвкушении новых перепутий… У них довольно авантюрные характеры. Ведь отправились же они в свое время за тридевять земель по знаку какой-то там звезды? Теперь троим бродягам требовался новый Вифлеем.
Баудолино понимал, что порядочные мощи могут изменить статус города, сделать из него цель бессчетных паломничеств, преобразить приходскую церковь в мавзолей. Кому нужнее всего Волхвоцари? Он немедленно подумал о Рейнальде. Рейнальду было вверено кельнское архиепископство, но он все еще не доехал туда, а следовательно, официально не поставился. Вступить в епархию, внеся нетленные мощи Волхвоцарей, вот это въезд для иерарха! Рейнальд отыскивает символы священноимператорской власти? Так вот ему даже не один, а целых три Царя, бывших одновременно и священниками!
Он попросил показать Царей. Вдвоем они еле свернули с саркофага крышку, открылась рака, подспудное поместилище останков.
Возни было немало, но дело того стоило. Какое чудо! Тела троих Волхвов выглядели совершенно свежими, хотя их кожа высохла и заскорузла. Но она не покоричневела, как, бывает, коричневеют лица и руки мумий. Двое мертвых Волхвов имели лица млечного цвета, у одного большая белая борода сходила до середины груди, в полной сохранности, немного затверделая – сахарная вата. Соседний Царь был безбород, а третий – эбенового цвета, не по причине времени, а вероятнее всего потому, что был при жизни чернокож. Он походил на деревянную статую, даже с трещиной на левой щеке. У него была короткая борода и мясистые губы. Губы задрались, обнажая два хищных белоснежных клыка. Все трое глядели вытаращенными глазами, большими, изумленными, сияющими как стекла, и были в накидках: первый в белой, второй в зеленой, третий в пурпурно-красной. Из-под накидок выглядывали штаны, какие в заводе у варваров, но из камчатного шелка, вышитого жемчужинами.
Баудолино со всех ног полетел в бивак императора, прямиком к Рейнальду. Канцлер мгновенно оценил масштаб Баудолиновой находки. – Действуем быстро и тихо. Нельзя выносить раку, сразу бросится в глаза. Всяк захочет отобрать наше найденное и препроводить в свой город. Находим три обычных гроба из некрашеной сосны, ночью выносим гробы за стены, на вопросы отвечаем, что это герои, сложившие голову в битве. В деле участвуете только ты плюс Поэт плюс мой доверенный слуга. Потом гроба останутся в условленном месте. Пусть подождут, особой спешки не вижу. Прежде чем въезжать с ними в город Кельн, требуется, чтобы о происхождении мощей, да и о самих Волхвоцарях были собраны подлинные свидетельства. Завтра ты возвращаешься в Париж, там ученых друзей у тебя предостаточно, подберешь что возможно по истории Волхвов.
Ночью всех троих Царей перенесли в крипту церкви Святого Георгия на Выселках. Рейнальд пожелал видеть мощи, а увидав, разразился такими ругательствами, что даже и невместны иерею: – В штанах? И в этих колпаках? Что они, шуты гороховые?
– Мессир Рейнальд, таковы, надо полагать, были старинные обычаи мудрецов Востока. Много лет назад, будучи в Равенне, я лицезрел мозаики. На одеянии императрицы Феодоры Волхвоцари наряжены приблизительно так.
– Вот-вот, это может сойти разве для каких-то византийских greculi. Ты подумал, что начнется, если я притащу в Кельн Волхвоцарей, расфуфыренных как фигляры? Переодеть.
– Во что? – спросил Поэт.
– Ах, во что? Я кормлю и пою тебя как барина за твои два-три стишка в год, а ты не можешь мне тут нарядить святоподвижников, первыми удостоившихся лицезреть Господа нашего Иисуса Христа? Переодеть показистее, предложить народу то, что он ожидает от Волхвоцарей! Переодеть в епископов, в пап, в архимандритов, это ваше дело, а не мое!
– Только что разграбили головной собор и епископат. Может, удастся там подобрать порядочные ризы. Займусь этим, – пролепетал Поэт.
Это была кошмарная ночь. Ризы были подысканы, и найдено даже что-то вроде трех тиар, но главной трудностью оказалось переодевание мумий. Головы сохраняли свежесть, а вот тела почти полностью, кроме рук (руки были иссохшие и твердые), оказались простыми каркасами из прутьев и соломы и разваливались при малейшей попытке стащить с них одежду. – Не имеет значения, – отмахнулся Рейнальд. – После вноса мощей в Кельн раку открывать никто не станет. Ну воткните пару спиц, найдите способ собрать их на палку… по системе вороньих пугал… С полным уважением, уж пожалуйста!