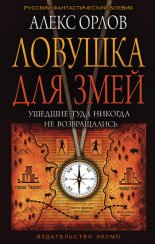Рецепт идеальной мечты Литвиновы Анна и Сергей
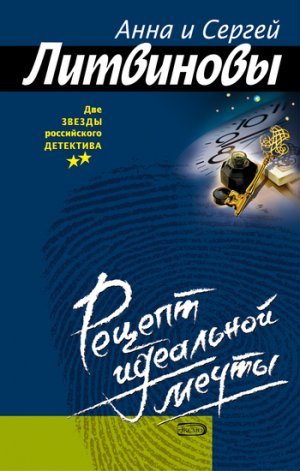
Пролог
Он не заметил, что за ним следят.
Ему и в голову не могло прийти, что за ним кто-то может следить.
Да кто он такой, чтобы за ним следили!
Он вышел из метро «Китай-город» (по-старому «Площадь Ногина»). Вышел на Маросейке, наискосок от Политехнического музея, – из того выхода, где аптека.
Не спеша, по-школьному помахивая портфелем, пошел вниз, вдоль Ильинского сквера, в сторону Солянки.
До историко-архивной библиотеки от метро можно было дойти тремя путями. Он каждый день чередовал их. Однажды он прочитал, что верный способ борьбы со склерозом – выбирать разные пути от работы до дома. Кроме того, во время ходьбы ему часто приходили в голову разные полезные мысли.
Но сегодня солнце светило так не по-зимнему ярко, что ни о какой работе думать не хотелось. Думалось о чем угодно, но не о работе.
«Вот эта блондинка впереди, в дубленочке и длинных сапогах на шпильке – она ничего. Ножки пряменькие, дубленочка коротенькая, и каблучки так деловито выстукивают: цок-цок-цок. Подойти бы к ней и сказать какую-нибудь чушь. Вот только… Какую чушь? Никогда не знакомился с женщинами на улицах. Не пора ли научиться? Ученикам своим говорю: мол, надо все на свете испытать, а сам – ни разу не знакомился с женщинами на улице. Может, нужно переломить себя – да взять и познакомиться?..
А если она вдруг пошлет? Я ж не «новый русский» в кашемировом пальто. Пальтишко так себе. Да еще и прыщи. Как у старшеклассника. У ученичка моего, Васьки, такие же прыщи… Нет, у него нетакие же. У него их больше. У меня все-таки меньше. Надо же, мне тридцать два года – и прыщи. Это от неправильного питания. И от нерегулярной половой жизни. Следовательно, для того чтобы избавиться от прыщей, надобно жениться. Хотя далеко не факт, что, получая жену, ты приобретаешь регулярный секс и правильное питание. С моей бывшей я как-то не распробовал ни того ни другого.
Какое счастье, что она от меня ушла. Даже неохота думать, где она, с кем она. Вычеркнул я ее из своей жизни, и бог с ней. Пусть живет с кем хочет. И где хочет.
А что блондинка?
Так и идет впереди, даже чуть вилять задиком стала. Почувствовала, наверное, мое внимание. Может, в самом деле – познакомиться? Как мои студенты говорят – прикольнуться?..
А от прыщей лучше всего лекарство… Как его… Забыл… Я ж только сегодня подслушал в курилке, девчонки с первого курса обсуждали… Надо же, когда подслушал название, казалось, на всю жизнь запомню… Простое такое название… Что-то на «К» или на «З»… «Кразазин» какой-то… Или «Крабозин»… А может, и «Карамзин»… И вот что теперь прикажете делать? Прийти в аптеку и спросить: «Дайте мне мазь от прыщей»? Нельзя, будет смех. Все уставятся. Да ведь и мазь дадут не ту.
Вообще это, конечно, хамство: тридцать два года, кандидат исторических наук, без пяти минут доцент – а бог награждает тебя прыщами.
Кто-то из японцев – Акутагава, кажется – писал: все, что с тобой случается, это награда, или наказание, или предостережение, или предвозвестие… А что прыщи? Они наградой быть не могут. Значит, наказание?.. Интересно знать, за что? Может, за робость? Или за мастурбацию?..
Или они, прыщи, – предостережение?..
…А блондинка так и цокает впереди шагах в пятнадцати… Но не оглядывается… Неужели я опять упущу женщину на улице? Сколько я за такими шел-шел – а потом упустил… Как было бы хорошо, если бы приняли закон, чтоб каждый человек на улице – в стиле замятинского «Мы» или «Прекрасного нового мира» Хаксли – носил на себе какие-нибудь плакатики – с описанием самого себя. Или хотя бы нашивки. И сразу по ним можно было бы определить: кто есть кто. Я бы себе одну нашивку повесил, что я – кандидат наук. А другую – что у меня недавно статья в Штатах вышла, о семействе Потоцких, в «American Slavic and East European Review». А третью – что у меня ежемесячный доход более пятисот долларов: зарплата, конечно, ни к черту не годится, но имеются зато три богатеньких ученичка… Вот были бы на мне такие нашивки – любая, глядишь, согласилась бы со мной познакомиться. А когда она знать не знает: кто я, что я, возьмет и окатит меня холодным взором. И скажет: «Мужчина! Да что вы себе позволяете!..» И пойдет себе дальше. А ты стой как дурак. И все прохожие вокруг улыбаются – в твой адрес».
Он (и блондинка впереди) дошли по Ильинскому скверу от памятника героям Плевны до Солянки – до того места, где раньше был магазин «Колбасы», а теперь новый магазин – «Русский деликатес». Блондинка вроде бы собралась переходить улицу и стала ждать, когда в потоке машин образуется разрыв. Расстояние между ними сократилось шагов до десяти, а то и семи. Он почувствовал холодок в груди и понял, что сейчас он, наверное, подойдет к ней и что-нибудь ляпнет. И вдруг стало нестерпимо страшно, как в детстве перед прыжком головой вниз с пирса. И тут блондинка сама обернулась к нему. Она и вправду была хорошенькой. Она пристально посмотрела на него. Может, сама хочет познакомиться с ним? Или, наоборот, упредить его и сразу послать куда подальше?
Он все шел и шел на нее, стоявшую на месте, и расстояние между ними сократилось, пожалуй, уже до пяти метров.
И тут у блондинки в руке что-то блеснуло. Затем она подняла эту руку и направила на него. Он продолжал по инерции идти, и между ними осталось не более четырех шагов. В этот момент он сообразил, что блондинка держит в руке не что иное, как пистолет, черный и длинный. Затем рука блондинки слегка дернулась, и в ту же самую секунду что-то легонько ударило его в грудь. «Что за странная манера, – подумал он, – расхаживать по улицам с игрушечным пистолетом. И обращать на себя внимание, стреляя пульками в прохожих».
Однако у него почему-то вдруг закружилась голова. Он совсем не хотел этого, но был вынужден сесть – прямо на холодный асфальт. Он видел, как блондинка выскочила прямо на проезжую часть, к ней быстро подъехала белая машина, она открыла дверцу и исчезла внутри авто – все было проделано быстро, как в детективных фильмах про мафию. Машина резко взяла с места.
А он по-прежнему сидел на тротуаре. К нему никто не подошел. Все равнодушно и торопливо проходили мимо. Он попытался встать на ноги, но это ему почему-то не удалось. Странно, почему? Никакой боли он не чувствовал. Однако вот в середине груди что-то легонько жгло. Он, сидя, опустил глаза, и увидел, что вся грудь его пальто отчего-то залита чем-то красным. И этой красной жидкости почему-то становится все больше.
Он еще раз попытался встать, но ноги не слушались его. Наоборот, улица опять стала кружиться перед ним, а через секунду он почувствовал, как его голова, которой он почему-то тоже уже перестал владеть, ударилась об асфальт. Еще через секунду он потерял сознание.
И больше в сознание не приходил.
Приехавшей через пятнадцать минут «Скорой» оставалось только констатировать его смерть.
Глава 1
НАДЯ МИТРОФАНОВА
Винтовую лестницу, что вела в хранилище редких книг, в историко-архивной библиотеке называли «поцелуйной». Узкая, витиеватая, с чугунными ступенями, она осталась от прошлого века. Сохранились и прихотливо-узорчатые перила, и массивные фонари пообочь. На стене висела гравюра, тоже старинная: пышноусый гусар кокетничает с гризеткой.
Студентам-читателям – основным поцелуйщикам – ход сюда был заказан: директор распорядился повесить кодовый замок. А сотрудницы в библиотеке – дамы воспитанные, на лестницах амуры крутить не будут. Да и не с кем – мужчин в библиотеке всего трое: директор, Задейкин – начальник отдела редкой книги да сторож. Директор – зануда, старичок-профессор. Задейкин – ученый червь. А от сторожа Максимыча вечно чесноком пахнет.
Надя Митрофанова поцелуйную лестницу терпеть не могла. И ступеньки скользкие, и тетка хранилищная, Нина Аркадьевна, – вредина страшная. Чуть опоздаешь сдать тома – разнос устраивает. Но что делать – каждый вечер приходилось сюда ходить. Правила в Историчке строгие: ровно в девять, после закрытия библиотеки, нужно отволочь в хранилище редкие книги (оставлять их в читальном зале до утра категорически воспрещалось). Издевательство какое-то: несешь тяжеленную стопку книг, да еще и извиваешься вместе с ней по крутым лестничным изгибам. Темно, скользко и страшно. Один раз Надя таки оступилась, упала, пересчитала боками все ступеньки. Синяков понабивала и сломала каблук на новых туфлях – вся премия на ремонт ушла. Разозлившись, Надя даже хотела пойти к директору и потребовать для хранилищной лестницы ковровой дорожки и яркого света – да сослуживицы уверили: директор, ревнитель старины, все равно откажется «опошлять раритет». А ей, Наде, из-за «раритета» каждый вечер мучиться. Полумрак, тишина, гусар на гравюре сверкает зубами, ступени скользят и стонут… Того и гляди,Ординатор появится.
В любой, даже в районной, читальне имеется свое собственное привидение. А уж в историко-архивной библиотеке (год основания – одна тысяча восемьсот пятьдесят пятый!) о штатномдухе состряпали целую легенду и обязательно рассказывали ее новичкам и гостям. Впрочем, часть легенды подтверждалась документально. Надя сама читала полицейские отчеты в рукописном архиве.
Местное привидение называлосьОрдинатором.
Бедный студент-медик, влюбленный в богачку из позапрошлого века, все надеялся выучиться и выйти в люди. Дневал и ночевал здесь, в Историчке, мечтал об императорской стипендии… Но невеста устала от его обещаний статьмодным доктором и пошла под венец с обеспеченным старикашкой. А безутешный ординатор взял и повесился – прямо тут, в библиотеке. Надя своими глазами читала об этой истории – и в «Московских ведомостях», и в полицейских архивах. Даже фотографию ординатора видела – молодой, красивый, бледный… Где именно, интересно, он повесился – вдруг на этой самой поцелуйной лестнице? А что, вполне может быть – вон, под потолком крюк висит…
А дальше уже начиналась мистика. ДухОрдинатора, говорили, до сих пор порой бродит по библиотеке. Одет во все черное, а лицо – белее первого снега. Он то показывался в архиве, то забредал в каталоги, то завывал громче лихого ветра на чердаке… Лично Надя никогда Ординатора не встречала – а все равно вечерами, когда вокруг тишь и только неистребимые мыши попискивают, как-то боязно.
Одна радость – стопка книг сегодня совсем легкая. «Трутень» 1769 года да худенькая брошюрка Плиского о происхождении рекламы. Даже смешно из-за такой ерунды в хранилище идти. За «Трутнем» профессор Есин все равно завтра с утра снова придет, а Плиский — всего-то 1894 года выпуска, подумаешь, редкость, еще из-за него в хранилище тащиться.
Надя сегодня справлялась одна – начальница зала уехала пломбировать зуб. Молодой библиотекарь Митрофанова всегда стеснялась прогонять профессоров раньше срока и потому избавилась от читателей только в начале десятого – и то сторож Максимыч помог, заглянул в зал, рыкнул: «Але, доценты! Закрываемся!» Надя пошла запирать окна. Возмущенно заметила, что у бегонии (рядом со столом доцентши Крючковой!) опять отщипан лепесток. Вот гадская тетка! Бегония-то – только прижилась! Надя бросилась подмазывать пораненный стебель специальным растительным пластилином, замазала, взглянула на часы: божечки, уже полдесятого, а у нее еще книги в хранилище не сданы! Сейчас Аркадьевна ее прикончит! Надя пулей вылетела из зала. Сотрудники уже разбежались, верхний свет был потушен – только аварийные лампочки по стенам мерцали. «Как хорошо, когда тихо!» – Надя быстро шла по коридору и влюбленно вслушивалась в поскрипывание паркета и шелест метели за окном. Уставшая после целого дня работы, общения, шума, она вдруг подумала: «Была бы вся Историчка моей! Безо всяких читателей. Уютно, спокойно…» Она улыбнулась неожиданной глупой мысли. Чего только в голову не придет, когда устанешь…
Вот и коридорчик-кишка. По правой стороне выстроены ящички предметного каталога, а в конце – поцелуйная лестница. Надя сунулась в карман за магнитным ключом-карточкой, а когда подняла глаза… увидела, что от окна метнулась размытая, страшно черная тень.Ординатор?
– Кто здесь? – звонко крикнула Надя и услышала, что голос ее дрожит.
Никого. Только гудит в темноте вечера вьюга, да каталожные ящики, презрительные и стройные, мерцают медными ручками. Почудилось.
Надя подошла к двери в хранилище, вставила карточку в прорезь замка. Дверь распахнулась, поцелуйная лестница развернулась сталью ступенек… И тут Надя явственно услышала сторожкие, бархатные шаги. Кто-то торопливо шел по каталожному коридору.
– Максимыч, ты? – позвала она. Не иначе сторож примчался на ее первый выкрик.
Тишина. От поцелуйных ступенек веет стальным холодом, гусар с гравюры насмешливо скалит зубы. Надя пулей ринулась вниз по лестнице, ворвалась в хранилище. Нина Аркадьевна, уже одетая, встретила ее недовольным:
– Митрофанова! Опять позже всех?!
– Цв-веты поливала… – пролепетала Надя.
– Давай, расписывайся! – Хранительница раздраженно швырнула ей ручку.
– А наверху там, кажется,Ординатор, –прошептала Надя, расписываясь в сдаче «Трутня» и Плиского.
– Что ты там бурчишь? – сердито переспросила Нина Аркадьевна. Она как раз заправляла под шапку волосы и не слышала Надиных слов.
Надя повторять не стала.
Хранительница не глядя швырнула Надины книги на полку, схватила сумочку, сообщила:
– На электричку из-за тебя опоздаю!
– Извините, – склонила голову Надя.
Ее покорность Нину Аркадьевну только раззадорила:
– Завтра с начальницей твоей поговорю. Чтоб книги сдавала вовремя, – злорадно пообещала она.
«Чтоб тебяОрдинатор по дороге пришиб!» – подумала Надя и еще раз вежливо повторила:
– Извините меня, пожалуйста.
* * *
Этой ночью Надя спала отвратительно. Стоило закрыть глаза, как на нее начинал наступать темный коридор с каталожными шкафчиками, и поцелуйная лестница с ледяными ступенями, и черная, страшная теньОрдинатора. И некому было ее разбудить, обнять, развеять кошмар… Ах, если бы она была не одна! Не одна не только сейчас. И еще хорошо бы, если б она жила не сегодня – не в этой, современной, суматошной и несправедливой жизни. Спускалась бы она по той же поцелуйной лестнице в пышном шелковом платье, и случайно наступила бы на оборку, и скользнула башмачком с узкой ступеньки… А рядом – ОН. Дворянин. Опора. Защитник. Всегда поддержит, подхватит, может быть, поцелует…
Надя в полусне била ладонью по кровати, все пыталась достать его: вдруг он где-то рядом, совсем близко к ней – верный, сильный, уверенный в себе человек, и он прижмет ее крепко-крепко, и утешит, и прошепчет на ушко ласковые слова…
Но Надя просыпалась и понимала, что она – снова в одиночестве разметалась на постели, и за окном – только ночь, и пурга, и равнодушный, колючий снег.
Уставшая от кошмаров, Надя включила ночник, повалялась, послушала завывания ветра. «Почему, когда снег, так есть хочется? Нет, ночью кушать нельзя. Вредно».
Живот возмущенно заурчал. Надя вздохнула и прошлепала на кухню. Что она, даже чаю не может себе позволить?
Холодильник сиял чистыми полками: зарплата только послезавтра. «Была б я разумной – купила бы на последний стольник курицу. И бульончик был бы, и мясо – в сухарях можно обжарить. Калорий немного, и для желудка полезно». Но курицы, увы, в холодильнике не имелось. Вместо нее Надя накупила конфет и сушек. Верный, конечно, гастрит, да и килограммы лишние – зато вкусно.
Ее единственный верный рыцарь – такса Родион – приплелся на скрип паркетных досок. Умильно крутил хвостом, преданно взглядывал в глаза.
– Лицемер ты, – вздохнула Надя, швыряя ему конфету.
Она заварила себе зеленого чаю – маленький реверанс здоровому образу жизни. Взяла четыре сушки и две конфеты «Мишки на Севере». Остатки лакомств остервенело засунула на самую дальнюю полку, чтоб больше соблазна не было. Хрустнула сушкой. Задумалась. Мысли текли вразброд, иногда сталкивались, натыкаясь друг на дружку. «Интересно, проОрдинатора — это все-таки правда? Или – показалось? Когда вьюга – чего только не примерещится… А сушки хорошие, свежие, и маку на них много… И что я все мечтаю о длинных платьях да о позапрошлом веке? Совсем, что ли, дура, клуша библиотечная?! Неужели кому-то это сейчас нужно?!»
И память услужливо подкинула: ее недавний знакомый Вадим, молодой доцент. Глаза грустные, лицо умное, и галстук дорогой. Надя припомнила, как пили они кофе с восхитительными пирожными и он говорил: «Вам, Надежда, следовало бы родиться не сейчас. Представляете: девятнадцатый век, усадьба, все неспешно, величаво, красиво… «Над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила… Это, несомненно, о вас…»
Надя даже вздрогнула, когда Вадим слово в слово, без запинки, процитировал милую ее сердцу «Первую любовь».
– Вы любите Тургенева? – строго спросила она.
– Люблю. Я не гонюсь за модой, – ответил Вадим, остро впиваясь в нее своим грустным взглядом.
Ну и что, где теперь этот Вадим? Исчез и даже телефона не оставил. «Я тебе позвоню!» – сказал. Какие дурацкие, пошлые, лживые слова!
Родион привалился к Надиной ноге: мокрый нос греет, он у него мерзнет.
«Нет, с мужиками мне не везет. Интересно, может, это болезнь такая?Хроническое безмужчинство. Может, у меня запросы слишком завышенные? Сходить, что ли, в кино… Ну, скажем, с Сашкой, дружком Димы Полуянова? Сашка-то давно звал… Ну схожу. Ну, кофе с ним выпью. А дальше-то что?»
Надя, не видя, смотрела в зимнее ледяное окошко и понимала: Сашка – не то. Не нравится ей Сашка, и не нужен он ей. Он – скучный. Обычный, рядовой.
«Можно подумать, ты сама – не рядовая», – передернула плечами Надя.
Нет, она – не рядовая, она не хочет быть рядовой! Вон, когда вместе с Димкой Полуяновым расследование вели, она даже быстрей него соображала! Только разве кто это оценил?
Эх, Димка, Димка… Журналист, красавец, циник… Столько пережили вместе, стояли друг за друга насмерть. Когда припекало, ни на шаг от нее не отходил. И Наденькой называл, и лапочкой, и умницей. А как только общие приключения кончились – все, прощай, библиотечная девушка. Когда жизнью рисковать – так вместе, а уж плоды славы он и сам пожнет, справится. Имя себе сделал на их расследовании, газета специальный выпуск напечатала – огромная статья, фото автора и подпись: «Наш герой Дмитрий Полуянов». А она, Надя, – как бабка из сказки, возле разбитого корыта осталась.
На душе стало совсем погано. Вьюга, ночь, половина четвертого утра. А завтра ей – в первую смену, к девяти. И к чаю – одни дурацкие сушки остались.
Надя подхватила Родю под мышки и отнесла его на постель. Ну и пусть – негигиенично. Зато – не так одиноко.
За сто восемьдесят лет до описываемых событий
Писано по-французски.
…Счастие мое представлялось мне бесконечным; я не вспоминала о прошлом; не мечтала о будущем – я жила лишь сегодняшней минутой. Я наслаждалась огненными взорами, что он любовно бросал на меня; звуком речей его – из коих я не слышала половины, однако же умела чудесным образом впопад делать свои замечания; его тайными пожатиями моей руки, на которые я порой бесстыдно позволяла себе отвечать… Будущность наша рисовалась мне в счастливом тумане. Он просил моей руки. Он был богат, знатен и красив – этого оказалось довольно для моей тетушки. Я не могла поверить в свое счастие и разрыдалась у нее на руках, как дитя, когда тетенька вошла ко мне в комнаты с сим известием. Конечно же, я не могла отказать ему. Свадьба была назначена сразу на Красную горку, здесь, в Первопрестольной, в храме Большого Вознесения у Никитских ворот.
Все время, предшествующее венчанию, я была, как мотылек. Я жила одним лишь днем. Я трепетала в предвкушении его объятий и грозных тайн брачного венца, но таинства семейной жизни представлялись мне словно покрыты розовой вуалью. О! Теперь-то я знаю, что за этой вуалью сокрыты невидимые миру тернии, которые способны жестоко язвить тело и душу!
Однако буду последовательна в описании роковых событий. Однажды, во время одного из его визитов, он сделал мне вопрос, коего я втайне ожидала и страшилась все это время – но который все равно прозвучал для меня словно раскат грома. Взор мой затуманился, грудь стала вздыматься чаще. Увидев мое состояние, он схватил меня за руку. «Я расстроил вас! Простите!» – воскликнул он. «О да… – проговорила я холодеющим языком. – Память о бедной матушке еще так свежа, еще причиняет мне столько боли…» Однако вовсе не одно только воспоминание о покойнице стало причиной моего состояния. Не ведая о сем, он продолжал настаивать: «Но ваш отец… Я хотел бы увидеть его и заручиться для нашего брака его благословением…» Тут краска прихлынула к моему лицу; в глазах потемнело, и я лишилась чувств.
Мой жених связал мой обморок лишь с упоминанием о моей бедной матери – тайна моих родителей тщательно охранялась от мнения света.
Поэтому не прошло и двух дней, как жених мой с невинной безжалостностью вновь спросил меня об отце. На сей раз мне удалось не лишиться чувств, и я холодно ответила, что дела имения удерживают папеньку в деревне. Мой жених настаивал на встрече с ним; он просил позволения писать ему; он хотел, чтобы мой отец присутствовал на обряде венчания. Не помню, под каким предлогом удалось мне отговорить его от сих намерений.
Однако предлог этот, видимо, не показался ему основательным, потому что он стал возвращаться к беседам о моем отце едва ли не вседневно – не представляя, какие мучения доставляет он мне сими своими разговорами. Наконец – и вовсе не потому, что я хотела бы того, а единственно ради избавления себя от расспросов, язвящих мне душу, – я согласилась на план, высказанный однажды моим женихом: немедленно после венчания мы вместе с ним отправимся с визитом к моему отцу, в наше имение Никитинское.
Это намерение, эта грядущая встреча моего будущего супруга и моего отца несказанно отравили все мои мысли перед свадьбой и все приуготовления к ней. И мой жених, и тетушка не раз заставали меня в слезах – на их расспросы о причинах расстройства я обычно отвечала: «Пустое…» – ибо никому не могла поведать истинный повод своей печали. Они оставляли меня в покое, высказывая предположения, что я грущу о предстоящей мне утрате девической невинной беззаботности. Вечерами я горячо, вся в слезах, молилась об избавлении меня от мучений. В своих фантазиях ночью я представляла себе какой-нибудь способ, который смог бы спасти меня от неизбежного возвращения в Никитинское. Я мечтала о том, что мой жених вдруг переменит свои планы; и о том, что свадьба наша неожиданно расстроится (и чуть ли не стала всерьез желать этого!); и даже – да простит меня господь за кощунственные мысли! – мечтала о чьей-либо смерти: моего отца, моего жениха – а прежде всего меня самое. Я представляла себя не в подвенечном уборе пред алтарем – но в таком же белом одеянии покойницы, во гробе, украшенном цветами. Я воображала горькие рыдания моего жениха над моим безжизненным телом – и сей исход казался мне едва ли не желанным, и я сама заливалась сладкими слезами…
Однако бог не услышал моих грешных молений. И вот наступил решительный день. Завтра!.. Завтра для меня зазвонят церковные колокола, завтра священник провозгласит, что мы с моим супругом отныне плоть едина… Завтра я должна по всем законам, божьим и человеческим, стать счастливейшей из смертных – но я по известным причинам ожидаю сего дня с трепетом не предвкушения, а страха. Я страшусь не неизведанного, а живу в предвкушении смертной муки. В преддверии несчастия, которое – я знаю, знаю это! – должно неминуемо произойти.
Завтра!..
21 апреля 1822 года
После двух дней пути мы достигли Никитинского.
Коляска остановилась у подъезда. Сердце мое сжалось. Никто не вышел на крыльцо встречать нас.
Дом, в котором прошло мое детство, хмуро и настороженно глядел на мир нечистыми своими окнами. Он казался необитаем. Краска с фасада облупилась. Колонны потрескались. Сердце мое похолодело. Сбывались самые горестные мои предчувствия.
Так и не дождавшись никого из дворовых, мы с мужем с помощью кучера и слуги выбрались из кареты. Тут на крыльце наконец кто-то появился. То был угрюмый Тимофей, старый лакей моего папеньки. Он приветствовал нас молчаливым полупоклоном. «Готовы ли комнаты?» – строго вопросила я его. «Да-с», – важно отвечал Тимофей. Откуда-то из дому выскочили наконец босоногие мальчик и девка. Тимофей распорядился отнести наши вещи. Сопровождаемые им, мы отправились в приготовленные нам с мужем покои. Дом и внутри казался сырым, угрюмым и необитаемым. Его вид повлиял даже на моего мужа, и он, во всю дорогу от Москвы имевший настроение самое радостное и все пытавшийся развлекать меня анекдотами и каламбурами, сделался тут настороженным и угрюмым. Во время пути к комнатам я улучила минуту и тихо спросила у Тимофея о папеньке. «Почти не выходят-с, – ответствовал он. – Все в кабинете; читают да пишут-с; обед к ним туда подаем». Сердце мое вновь сжалось болезненно.
Потому я нимало не удивилась – в отличие от моего супруга, – что папенька не почтил своим присутствием обед, который подали нам по обычаю в малой гостиной. Гостиная, как и прочие комнаты дома, хранила на себе черты нерадения и преждевременного увядания. Обивка стульев отстала; на чудесной картине в Ван Диковом духе лежал слой пыли; рама потрескалась, в углу вил свое гнездо паук. Скатерть была немыта; котлеты пригорели, в лафите плавала муха. Прислуживала нам босая девка в грязном переднике. Все вокруг словно приготавливало моего супруга к свиданию, коего тот со странной настойчивостью столь долго желал – к свиданию с тем, кто был главным виновником запустения, царящего в усадьбе. Мною вдруг овладело равнодушие – так, говорят, преступник, долгое время ожидающий смертной казни, приходит в отупение в самый день исполнения приговора.
Но когда после обеда в залу вошел Тимофей и важно провозгласил: «Барин просят дорогого гостя пожаловать в свой кабинет», – сердце мое встрепенулось, и я едва не лишилась чувств. Супруг мой двинулся к двери, я бросилась вслед за ним. Однако Тимофей остановил меня словами: «А вам, барыня молодая, не велено». Серьезность слов своих он подтвердил, неучтиво захлопнув двери прямо передо мною, едва из них вышел мой супруг. Делать нечего, я присела на диван. Сердце мое колотилось, решалась моя судьба.
Возможно, на какое-то время я лишилась чувств, впала в столбняк или заснула, потому что слышала и бой старых часов – на удивление до сих пор шедших, – и биение о раму проснувшейся мухи. Но все чувства, казалось, во мне омертвели. Не знаю, сколько прошло времени, только за окнами стало темно, когда из двери вышел наконец мой муж.
Он был в ужасном виде. Лицо его помертвело, волосы лежали в беспорядке, на челе – крупные капли пота, нижняя челюсть тряслась. Я вскочила с дивана с криком: «Друг мой!» – и бросилась к нему. Однако молодой мой супруг помертвелой рукой отстранил меня и бросился вон из гостиной. Я слышала его удаляющиеся неровные шаги по коридору.
И тут передо мной возник Тимофей. «А теперь и вы, молодая хозяйка, пожалуйте к барину», – промолвил он, осклабя свои пожелтелые зубы. Не помня себя от ужаса, гнева и дурных предчувствий, я бросилась к папеньке в кабинет.
Вид, в котором пребывал отец – хоть я предчувствовала увидеть его примерно в подобном образе, – все равно поразил меня в самое сердце. Папенька полулежал в глубоком кожаном кресле. На нем был лишь халат и засаленный платок на шее, волосы всклокочены, глаза лихорадочно сверкали, худые руки сжимали рукояти кресла.
В кабинете царила ночь, шторы плотно запахнуты, на столе три свечи. Они освещали неверным светом нагромождение книг, тетрадей, разбросанных в беспорядке исписанных листов. Книги, листы и тетради валялись и на полу, и на других креслах. На полу же стоял неубранный поднос с остатками обеда и недопитою бутылкой вина. «Доченька…» – сказал отец, и по щекам его внезапно заструились слезы. «Что вы сказали ему?» – выкрикнула я. Отец с усилием поднялся из кресла и протянул ко мне руки, очевидно желая обнять. «Что вы ему сказали?» – отстраняясь, еще раз гневно спросила я. Папенька не отвечал; он плакал; слезы текли по его худо бритому лицу. «Это ничего, доченька, – вдруг забормотал он, по-прежнему протягивая ко мне руки. – Прости меня, и бог нас простит».
В этот момент с крыльца послышался шум; я узнала отдаленный голос супруга. Он кричал, но слов его я не могла разобрать. Опрометью я выскочила из кабинета.
Когда я выбежала на крыльцо, слуги, суетясь, закладывали нашу коляску. На крыльце лежали уже чемоданы моего супруга. Сам он стоял, скрестив на груди руки. Хмурый взор его метал мрачные молнии. Я бросилась к нему на грудь. «Что вы делаете?» – закричала я. Он обнял меня.
«Простите меня, – с усилием проговорил он. – Вы ни в чем не виноваты. Но я… Я должен уехать…» – «Но почему?! – вскричала я. – Чтоон сказал вам?» – «Нет… нет… – проговорил он. – Я не могу… Это неважно… Вы ни в чем не виноваты… Простите меня…»
Он со всей нежностью поцеловал меня – а через минуту уже сидел в коляске.
Скоро топот лошадиных копыт растаял в ночи, оставив меня одну на крыльце родительского дома.
Глава 2
НАДЯ
Наши дни
У любого человека бывают минуты, когда он жизнь своюненавидит.
Надя часто проклинала свою судьбу в одно и то же время: когда по утрам, невыспавшаяся, она тряслась на работу в душном, несмотря на уличную холодрыгу, метро. Поезд был забит такими же неласковыми и злыми на фортуну людьми. Счастливчики, захватившие сидячие места, прикрывались газетами под взглядами стоявших пенсионерок.
Какой идиот придумал, что библиотека должна открываться в девять утра? С какого перепуга директор требует, чтобы сотрудники являлись на службу аж к половине девятого? Что лично ей, Наде, делать в такую рань в пустом читальном зале? Девчонкам из хранилища повезло больше: они приспособили себе диванчик в укромном уголке и дремлют там по утрам, пока нет заказов на книги. А в читалке покемарить негде, все стулья жесткие, и начальница коршуном нависает.
«Чего, спрашивается, я вчера полночи колобродила? – укоряла себя Надежда. – Какая-то чушь: мечты, принцы, чай в три утра…» Она завистливо поглядывала на редких «продвинутых» попутчиц – правильные девушки и волосы успели уложить, и подкраситься. Сама же Надя с трудом продрала глаза только в семь и, наскоро перекусив, вихрем вылетела из квартиры. Какие уж тут укладки – спасибо, зубы почистить успела.
К станции «Китай-город» народу в вагон набилось столько, что она еле пробралась к выходу, – до чего ж неприятно людей расталкивать! Пока пролезала к двери, нарвалась на маньяка: мужичонка, несмотря на толпу, спроворился уцепиться за грудь, а она ему даже на ногу наступить не успела… В общем, тяжелый день – хоть и не понедельник.
Надя выбралась из метро только в восемь двадцать пять. На Солянке образовалась беспросветная пробка, противно гудели оснащенные сиренами «Мерседесы». Деловито сновал народ, на пороге чебуречной, расположенной прямо у выхода из метро, ругалась парочка алкоголиков.
Считалось, что до библиотеки от метро пять минут пешего ходу. Так и по телефону всем говорили, когда объясняли, как проехать. Надя за это время не поспевала – только бегом. Но сегодня бежать категорически не хотелось. «Пусть директор сам за такую зарплату бегает», – решительно подумала она и нарочито замедлила шаг. Наплевать, чуть-чуть опоздает – зато окончательно проснется и продышится. Хвала создателю, автоматами «check in»1 библиотеку еще не оснастили, а начальница авось ругаться не будет.
Надя не спеша заскользила по заледенелой Солянке. По пути глазела по сторонам. Подметила, что супермаркет всего-то за одну ночь обзавелся новой вывеской. Понаблюдала – не без легкого злорадства, – как фифа на лаковой «бээмвушке» никак не может припарковаться, а водители сзади осыпают ее возмущенными гудками. Обратила внимание, что по дороге пытается пронестись изрядное – для мирного-то утреннего времени! – количество милицейских машин. И гудят противно – прямо Нью-Йорк какой-то.
На повороте в Старосадский переулок Надю нагнала Наташка из каталогов. Выскочила из-за спины рыжей чертякой: морковного цвета волосы, глаза, украшенные кирпичными тенями, – Митрофанова даже испугалась, пробормотала: «Фу, ты как Медный всадник!» Наташка заржала в ответ: «Ага, скачу аллюром на службу!»
Наде, хочешь не хочешь, пришлось приспосабливаться к Наташкиной гарцующей походке. Они быстро поднялись по переулку в горку, к библиотеке, завернули во двор – Надя всегда любила встречать утреннее величие и тишину любимой библиотеки – … и недоуменно остановились. У служебного входа полыхали мигалками милицейские машины. Рядом стоял озабоченный молодой милиционерчик, прикрываясь рукой, что-то шептал в рацию. В холле происходило движение, мелькали люди в форме. Наташка воскликнула – радостно и озадаченно: «Ух ты, да в нашем болоте что-то случилось!» Надя растерянно заморгала: прямо сон какой-то! Уж очень режущей глаз была картина: монументальное, важное здание библиотеки и милицейская суета у подножия.
Наташка взглянула на часы и пошутила:
– Без двадцати девять. Видишь, Надька, мы с тобой доопаздывались: сейчас арестуют.
Обе так и стояли у входа: даже смелая Натаха, казалось, не решалась шагнуть внутрь – в гущу чего-то нового, непонятного, страшного.
Милиционерчик наконец отбурчался в свою рацию и направился к ним. Надя поймала себя на странной мысли: больше всего ей захотелось повернуться и бежать – бежать прочь, даже не узнав, что случилось. Наташка, наоборот, вся подобралась и встретила стража порядка широченной улыбкой.
– Нашли бомбу? – с придыханием спросила она.
Милиционер мазнул равнодушным взглядом по Наде, но с видимым интересом осмотрел Наташкин «медный» антураж. И особенно заинтересовался ее короткой, несмотря на непогоду, юбкой. Потом спросил, обращаясь к ней одной:
– Вы что хотели, девочки?
Натка фыркнула:
– Девочки?.. Спасибо, конечно, но…
Отчего-то Надю взбесил этот пошловато-бессмысленный диалог, и она резко произнесла:
– Вообще-то, мы хотели поработать!
– Поработать? Сейчас?! – переспросил милиционер и снова уставился на Наташку. Та глупо хихикнула и облизнула губы. – Ну, ну!.. – улыбнулся милиционер. Он явно понял слово «поработать» во вполне определенном смысле.
Надю бросило в краску: вечно она умудряется что-нибудь не то ляпнуть!
– Мы работаем здесь, в Исторической библиотеке, – строго сказала Митрофанова. – Я – в зале всемирной истории, а она, – кивок на Наталью, – в отделе каталогов. Вы, наконец, скажете нам, что случилось?
Милиционер поскучнел, равнодушно кивнул на вход:
– Ну, раз работаете – проходите.
Наташка наградила красавчика в форме еще одним соблазняющим взглядом. Кажется, ей хотелось остаться и продолжать нелепое кокетство. Да ради бога!
– Я пошла, – заявила Надя и направилась к дверям.
Наташка, секунду поколебавшись, потащилась следом. На ходу – всего-то три шага сделать! – она успела пару раз обернуться и обласкать симпатичного милиционера томным взглядом. «Умеют же некоторые!» – подумала Надя со смесью неодобрения и зависти. Милашка-сержант – она чувствовала – неотрывно смотрит им в спины. Точнее, наверное, – на Наткины ноги.
В холле Наташу с Надей никто не остановил. Библиотечный охранник внимательно, будто они и не встречаются каждый день в буфете, изучил их пропуска. За процедурой наблюдал стоявший рядом лейтенант с рацией. Девушки напряглись, ожидая вопросов, но их молча пропустили внутрь.
У лифта они встретили директора. Надя ссутулилась, ожидая разноса за опоздание, но Михаил Юрьевич только кивнул в ответ на их виноватое «здрасьте». Спрашивать у директора, что случилось, обе, конечно, не решились.
– Надька, умру сейчас, если немедленно не узнаю, в чем дело! – возбужденно проговорила Наташка.
Лифт вознес их на третий этаж, и Натаха, даже не кивнув Наде, умчалась в свои каталоги: вызнавать, что случилось. «Ну и несись! – злорадно подумала Надя. – Мой-то источник информации – куда как лучше».
Надина шефиня, начальница зала всемирной истории, считалась в библиотекекладезем. В виду имелся не кладезь мудрости – наоборот, Дарья Михайловна часто терялась, когда читатели заводили с ней разговор о какой-нибудь «ночи длинных ножей» или о древнегреческих «криках улиц». Но если речь заходила о том, кто, с кем, почему и когда — о, тут Дарье Михайловне не было равных. Надя иногда фантазировала, что живет ее начальница в Италии и является матроной шумного сицилийского клана. Митрофанова представляла Дарью Михайловну сидящей во главе стола под сводами оливковых деревьев – как в надоевшей рекламе майонеза, – а к ней потоком идут за вердиктом-советом и мафиози, и тиффози, и чичероне.
Своей семьи у Дарьи Михайловны не было, но она от этого, казалось, не страдала. Событий и эмоций ей хватало и здесь, в библиотеке. Сотрудники говорили, что официальный директор – фигура почти номинальная, вроде Людовика Тринадцатого. А все-обо-всех-знавшая начальница зала всемирной истории – реальный властитель, кардинал Ришелье. Директор председательствовал на собраниях и ездил в мэрию – а Дарья Михайловна «работала с коллективом»: журила, казнила, возвышала, советовала, продвигала и ввергала в опалу.
Надя, хвала судьбе, ходила у начальницы в любимицах: скромная, безответная, исполнительная. И слушать она умела, а Дарья Михайловна без аудитории просто чахла. Правда, обычно Надя пропускала мимо ушей рассказы начальницы: ее мало интересовало, кто из сотрудников женился-развелся, а кто – сто рублей в лотерею выиграл. Но сегодня – особый случай, сегодня Надя будет слушать внимательно!
Она с разбегу ворвалась в зал и, запыхавшись, выпалила:
– Извините, Дарь-Михална, я опоздала, но там на входе менты стоят, меня пускать не хотели! (Вот и отмазка появилась!) Скажите, а что случилось?
Дарья Михайловна округлила глаза:
– Ты что, еще ничего не знаешь?!!
* * *
Картина происшедшего, нарисованная сочными и щедрыми мазками начальницы, выглядела так.
Николай Гаврилович Задейкин, начальник отдела редкой книги, спешно дописывал диссертацию. Ходили слухи, что умник Задейкин уже получил приглашение занять кафедру русской литературы в Кэролл-колледже, штат Монтана, США. Но без звания доктора в американской должности его утвердить не могли, потому Николай Гаврилович и торопился побыстрее выйти на защиту.
Его научным изысканиям в «историчке-архивичке» не препятствовали: сотрудникам библиотеки отнюдь не возбранялось заниматься научной деятельностью. Начальство понимало, что зарплата в библиотекестимулом уж никак быть не может. Ради собственно книг здесь трудились лишь отдельные фанаты печатного слова вроде Нины Аркадьевны из хранилища. Остальные служили в Историчке, попутно решая собственные проблемы. Особенно рвались сюда на работу студенты-историки – разве плохо, помимо кое-какой зарплаты, иметь неограниченный доступ к редким книгам? И даже – на правах сотрудников получать их по абонементу домой?
Задейкин тоже был из ученых. Его диссертация посвящалась масонской библиотеке графа Уварова, хранившейся здесь в единственном экземпляре. Вот Николай Гаврилович и устроился сюда на работу… Но он – увы, для него самого – был человеком ответственным. И если студенты-историки, занятые своими курсовыми, на читателей часто поплевывали и скапливали у стоек огромные очереди, то Задейкин работал на совесть. И за фондами следил, и картотеку пополнял, и посетителей консультировал. Потому и успевал заниматься диссертацией лишь по окончании присутственных часов.
Вчера, по словам охранников, он покинул библиотеку ближе к полуночи. (И то на прощанье заявил, что, если б метро не закрывалось, он бы еще пару часов посидел.) Уходя, Николай Гаврилович убедился, что железные жалюзи на окнах опущены и двухметровый сейф, содержащий особо ценные рукописные книги, заперт. Задейкин сказал охранникам, что включил обе сигнализации: и ту, что защищала комнатку с самыми драгоценными томами, и общую, работавшую на весь зал редкой книги. Охранникам в принципе полагалось подняться на четвертый этаж и лично проверить, что обе сигнализации работают, но разве ж им охота таскаться по крутым лестницам (лифты после девяти вечера отключались). Добросовестному Задейкину просто поверили на слово и приняли у него три ключа: от сейфа, от комнаты повышенного контроля и от входной двери в зал редкой книги.
Ночное дежурство прошло спокойно («Охранники продрыхли без задних ног!» – возмущенно сказала Дарья Михайловна).
Первым, в семь утра, на работу опять-таки явился неугомонный Задейкин. Радостно сообщил не успевшим смениться охранникам, что ночью его-де озарила гипотеза, которая требует немедленного подтверждения. Он получил назад все три ключа и резво потрусил по лестнице (лифты еще не включили) к себе, на четвертый этаж,в редкую книгу.
Через пять минут, бледный, прибежал обратно. Трясущимися губами сообщил: дверь в отдел не заперта, а входить внутрь он не решился… Охранники наконец оторвали от дивана свои тяжелые задницы (так прямо Дарья Михайловна и выразилась), побежали вместе с ним наверх, ворвались в отдел… Там было тихо и мирно, никаких следов разрушений. Они вошли в комнату особо ценного хранения – дверь в нее была отперта, жалюзи подняты, и одно из окон приоткрыто. Николай Гаврилович схватился за сердце. Охранники потянули дверцу сейфа – она подалась. Задейкин маячил за их спинами – и внезапно издал жуткий вопль.
Сейф оказался наполовину пуст.
– Исчезли: вся уваровская библиотека, рукописные судебники, «Евангелие» 1740 года, первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву», полный комплект «Полярной звезды», первое издание. Всего около ста томов, – мрачно и величественно перечислила Дарья Михайловна.
Надя от волнения выдернула волосок и принялась вертеть его в руках. Дарья Михайловна потянулась к ней мощной ладонью, отобрала волос:
– Побереги нервы, Наденька. Тебе еще со следователем разговаривать.
– Мне?
Надя вспомнила цепкий взгляд милиционера на входе, и ее замутило, а во рту стало сухо.
Начальница легко поднялась со своего стула:
– Пойдем, чайку выпьем… Да не волнуйся ты так! Ну, подумаешь, следователь!
Надя встретилась с Дарьей Михайловной взглядом и тут же опустила глаза: начальница внимательно следила за ее реакцией. Подозревает?
– Давайте… выпьем… только лучше не чай, а кофе, – пролепетала она.
– Не выспалась, Надюша? – ласково спросила начальница. И равнодушно поинтересовалась: – А ты вчера – во сколько ушла?
– Поздно, – призналась Надя. – Около десяти. Вас же не было – а у меня читатели засиделись, никак выгнать их не могла, спасибо, Максимыч помог.
Не дожидаясь дальнейших вопросов, она сообщила:
– Потом бегонию лечила, ее Крючкова опять ощипала. Потом в хранилище побежала, «Трутня» и Плиского сдавать – Нина Аркадьевна на меня еще накричала, что так поздно… Ну, и ушла, наверное, только около десяти.
Дарья Михайловна кивнула: показания сличила – она, судя по всему, уже успела с Аркадьевной из хранилища переговорить.
– Ничего вчера не видела? Ничего не слышала? – продолжала пытать ее начальница.
– Когда через каталоги шла, вродеОрдинатор мелькнул, – честно призналась Надя. – Я потому и ночью плохо спала, все он мерещился…
– Да ты что? – живо заинтересовалась начальница. В отличие от некоторых материалистически настроенных сотрудниц библиотеки она искренне верила в существование местного привидения.
– Да, дуновение какое-то. Одно слово: призрак, – доложила Надя.
– Чувствовал, значит, что на его территорию посягают, – авторитетно заключила начальница. – Все чувствует…
– Дарь Михална, а как вы думаете, кто книги-то украл?
– Господи, откуда ж я знаю! – всплеснула руками начальница. –Как украли – еще догадываюсь, а вот кто… Вон, милиции полная библиотека – пусть они и выясняют!
– Акак? – затеребила шефиню Надя. – Как украли-то?
– Ну как-как… – пробурчала Дарья Михайловна. Видно было, что ей приятен Надин живой интерес к ее мнению. – Сигнализацию, видно, они отключили заранее – перерезали проводок где-нибудь в незаметном месте. Задейкин что, ее проверять станет? Да ни за какие коврижки! Включил себе рубильник – да и ушел.
– Так лампочка должна зажечься, если сигнализация включилась, – неуверенно возразила Надя.
Дарья Михайловна понизила голос:
– А лампочка – перегорела. Уже неделю – не поменяют. Завхоз ведь в отпуск ушел. – И пригвоздила: – Бардачники!
– Ну а как они сейф открыли?
– А если им не надо было его открывать? – проворчала начальница. И пояснила: – Задейкин вечно его закрывать забывает. Или – специально не запирает, чтобы по утрам не возиться. Замок там тугой, неудобный.
– Ну а как они в библиотеку-то попали?! – нетерпеливо воскликнула Надя.
– Митрофанова! – воскликнула начальница. – Ты знаешь, сколько у нас читателей?!
Надя пробормотала:
– Ну, много… сотни…
– Тысяча только каждый день приходит! И сто тысяч записано! А спрятаться у нас где угодно можно. Помнишь, как вкаталогах студент всю ночь проспал?
– Значит, кто-то остался после закрытия… пролез в отдел редкой книги… сигнализация не работала, замок там ерундовый… открыл сейф, забрал книги… – А как он вышел? И рукописи с книгами вынес?! Охранники же никого не видели!
– Жалюзи, Митрофанова, – снисходительно пояснила начальница. – Жалюзи подняты, окно открыто. И – пожарная лестница рядом.
– У нас же двор огорожен, ворота заперты! И собак ночью спускают!
– В заборе – дырка, третью неделю починить собираются. А про собак – пока не знаю, почему они молчали, – призналась начальница. И мрачно пообещала: – Но скоро выясню… Ну, ладно, пошли. А то чайник уже давно закипел.
Обе поднялись: чай они пили в закутке, скрывшись за книжными стеллажами.
– Читателей сегодня не будет, – сообщила Дарья Михайловна. И тут же озвучила план на день: – Сначала поговоришь со следователем, а потом, раз есть время, наконец картотеку сверим.
– Читателей – не будет? А я-то хотела, чтоб вы Крючкову за бегонию отругали, – пробормотала Надя.
– Не беспокойся. Еще успею, – пообещала начальница. – Это ей с рук не сойдет.
И тут дверь в зал отворилась. Обе вскинули глаза.