Россия и Запад на качелях истории. От Павла I до Александра II Романов Петр
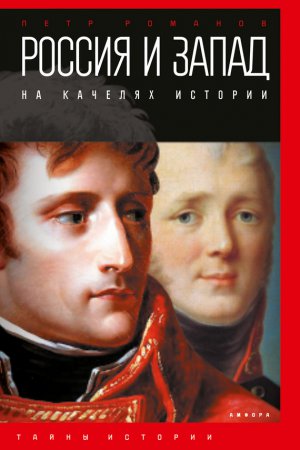
Когда Екатерина взошла на престол, то вместо безоглядной русской поддержки времен Петра III Фридрих столкнулся с подчеркнуто недоброжелательным русским нейтралитетом. Этот леденящий прусскую душу нейтралитет было то единственное, что Екатерина сочла возможным предложить королю, но и этот жест показался ему подарком судьбы.
Сам Фридрих, кажется, ожидал много худшего. Узнав о воцарении Екатерины, король так перепугался, что приказал ночью тайно перевезти государственную казну из Берлина в Магдебург, на случай, если придется бежать.
Екатерина хотела быть не немкой на русском престоле, а истинно российской императрицей. Немецкое происхождение, как считала она сама, ей только мешало. Определенная мнительность — как бы вдруг кому-нибудь не показалось, что она защищает не национальные российские, а чьи-то иностранные, особенно прусские, интересы — была присуща ей довольно долго.
Узнав, что ее родной брат собирается посетить Россию, она с неудовольствием заметила: «Зачем? В России и без него немцев предостаточно». Раздражение вызвал, естественно, не факт приезда в Российскую империю еще одного немца: одним больше, одним меньше, какая разница? А то, что именно этот немец мог лишний раз напомнить окружающим о родословной императрицы или, того хуже, посеять подозрение, что государыня протежирует своей родне.
С иронией Екатерина смогла говорить по поводу своих комплексов лишь много позже, когда уже давно и прочно сидела на русском троне. Однажды, когда ей делали обычное тогда в медицинской практике кровопускание, императрица пошутила: «Ну вот, теперь все дела пойдут намного лучше, последнюю немецкую кровь выпустили!»
Ироничная шутка била дуплетом, поскольку в одинаковой степени относилась и к тем русским, которые полагают, будто все беды на Руси от иностранцев, и к себе самой, к своим настойчивым попыткам обрусеть.
Екатерина хотела нравиться всем, причем особенно старалась завоевать дружбу тех, кто ее не любил. Эту позицию Екатерина занимала не только на пути к трону, но упорно отстаивала ее и позже:
Боже избави... играть печальную роль вождя партии... напротив, следует постоянно стараться приобрести расположение всех подданных...
Хитроумие Ришелье и изобретательность Мольера
Нового сильного игрока на русской политической сцене — жену Петра III — попытались немедленно использовать в своих интересах представители многих европейских держав. Удачливее всех оказался посланник Великобритании Хэнбери-Уильямс, он в отличие от Фридриха сразу же оценил большой потенциал Екатерины.
В одной из своих депеш английский посол отмечает, что с момента своего приезда в Россию немка «всеми возможными для себя способами старалась завоевать любовь народа». В другом послании, описывая беседу с Екатериной, он говорит о том, что ее блестящий ум можно сравнить одновременно с гением кардинала Ришелье и Мольера.
Сочетание столь разнородных фигур в характеристике поначалу смущает, однако если вдуматься, то Екатерина действительно умела в зависимости от обстоятельств проявлять и хитроумие Ришелье, и творческую изобретательность Мольера. До переворота ей больше помогало первое качество, а после переворота она не раз блестяще демонстрировала второе.
Именно из английского источника черпает Екатерина советы и немалые средства, направляемые на установление необходимых связей с всесильными гвардейцами. В апреле 1756 года она пишет своему английскому другу:
Чем я только не обязана провидению, которое послало вас сюда, словно ангела-хранителя, и соединило меня с вами узами дружбы? Вот увидите, если я когда-нибудь и буду носить корону, то этим я частично буду обязана вашим советам.
А летом того же года подробно излагает иностранному дипломату свой план действий на случай внезапной смерти императрицы Елизаветы.
Хотя участие англичан в заговоре факт известный, ни один русский историк не ставит им этого в упрек: настолько очевидно, что в перевороте больше всех была заинтересована не Англия, а сама Россия.
Устранение от власти Петра III объективно отвечало русским национальным интересам.
Уроки французского
Едва ли не главными учителями Екатерины стали французы, в первую очередь Вольтер и Дидро, однако к «урокам французского» императрица подходила достаточно критически, слушала наставников внимательно, а вот воплощать рекомендации в жизнь не спешила.
Хотя Дидро, например, очень подробно, как рецептуру лекарства, прописывал российской государыне, что и как делать, касаясь при этом не только общих вопросов государственного строительства, но и самых мелких деталей. Среди его записок Екатерине можно найти советы о том, как воспитывать подкидышей или, например, как преподавать молодым девицам анатомию.
Граф Сегюр так передает рассказ Екатерины о ее встречах с Дидро:
Я долго с ним беседовала, но более из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами.
Екатерина уважала Дидро, но, когда тот с горечью посетовал, что императрица не желает на практике применять его политологические разработки, она резонно заметила, что француз имеет дело с бумагой, а сама государыня с гораздо более тонкой и чувствительной материей — человеком.
...После этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед, —
вспоминает Екатерина.
Поистине забавная история произошла с модным в те времена французским писателем Мерсье де Ла Ривьером, издавшим сочинение «О естественном и существенном порядке политических обществ». Екатерина пригласила писателя в Россию и обещала ему солидное вознаграждение. Рандеву писателю императрица назначила в Москве, куда собиралась прибыть из Петербурга.
Вот что пишет о дальнейшем сама Екатерина:
Господин де Ла Ривиер недолго собирался и по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия.
Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империею и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи пребольшими буквами:
Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей соответственно их способностям. Все это наделало шуму в Москве...
Между тем я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие помутило его разум. Я как следует заплатила за все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель...
О том же случае Екатерина рассказала и Вольтеру:
Г. де Ла Ривиер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать к нам из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах.
Приходилось Екатерине сталкиваться и с более радикальными предложениями. Известный своею страстью к приключениям французский писатель Бернарден де Сен-Пьер, вдохновленный появлением столь просвещенной императрицы, приехал к ней с предложением провести на российской земле социально-политический эксперимент — основать где-нибудь в степях «Республику свободных общин», нечто вроде фаланстеров Шарля Фурье. Екатерина, однако, не захотела с ним разговаривать, сочтя подобные предложения полным бредом.
Теоретики-мечтатели в роли практиков действительно иногда смешны и наивны, зато нередко подмечают то, что не в состоянии увидеть и проанализировать хлопотливый практик. Тот же Дидро высказал ряд очень точных замечаний и о самой Екатерине, и о тогдашних русских.
Ни одна нация Европы не усваивает так быстро французское, как Россия, и в отношении языка, и в отношении обычаев, —
констатировал он, пообщавшись с русскими в Петербурге. Но тут же не поколебался высказать императрице достаточно нелицеприятное мнение:
Мне кажется вообще, что ваши подданные грешат одной из двух крайностей: одни считают свою нацию слишком передовой, другие - слишком отсталой. Те, которые считают ее слишком передовой, высказывают этим свое крайнее презрение к остальной Европе; те, которые считают ее слишком отсталой, являются фанатическими поклонниками Европы.
Первые никогда не выезжали из своей страны; вторые или не жили в ней достаточно долго, или не дали себе труда изучить ее. Те и другие видят только внешность, одни - издали, другие — вблизи: внешность Парижа и внешность Петербурга. Я очень поразил бы их, если бы показал им, что между обеими нациями существует такая же разница, как между человеком сильным и диким, еще только познавшим зачатки цивилизации, и человеком деликатным и изысканным, но пораженным почти неизлечимой болезнью.
Как видим, философ в те времена чуть с большим оптимизмом смотрел на будущее России, чем Европы.
Вам предстоит заново создать молодую нацию, нам - омолодить старую нацию. Наша задача, быть может, неосуществима. Ваша, конечно, очень трудна, -
пишет он Екатерине. Позже точно так же оценивали перспективы России и Европы многие славянофилы.
И еще одно не менее интересное, но уже настораживающее замечание Дидро, которое, конечно, не могло порадовать ни Екатерину, ни ее подданных:
В характере русских замечается какой-то след панического ужаса, и это, очевидно, результат длинного ряда переворотов и продолжительного деспотизма. Они всегда как-то настороже, как будто ожидают землетрясения, будто в моральном отношении они чувствуют себя так, как в физическом отношении чувствуют себя жители Лиссабона.
(В Лиссабоне незадолго до этого произошло сильное землетрясение, отсюда и образ.)
Частично наставления Дидро императрица постаралась учесть, предоставив своим подданным возможность высказать пожелания и даже возражения в ходе обсуждения проекта нового уложения, в так называемом «Наказе». Самого Дидро «Наказ» тем не менее удовлетворил не вполне. Он прямо заявил, что не нашел в документе главного — «ни одного постановления, которое было бы направлено на освобождение массы народа», то есть крепостных.
Дружба Екатерины с французскими вольнодумцами не раз вызывала в России критику, особенно со стороны православных иерархов, но императрица умела находить аргументы в свою защиту.
Известна ее реакция на критику митрополита Платона, открыто осуждавшего переписку государыни с Вольтером:
Может ли быть что-нибудь невиннее письменных сношений с восьмидесятилетним стариком, который в сочинениях своих, читаемых всей Европой, старался прославить Россию, унизить ее врагов, удержать от враждебного проявления своих соотечественников, всегда готовых изливать всюду свою ядовитую ненависть против России и которых ему удавалось действительно сдерживать? С этой точки зрения, я полагаю, что письма, писанные к атеисту, не нанесли ущерба ни церкви, ни отечеству.
Что касается «ядовитой ненависти», то речь здесь идет о французском правительстве — яром противнике и Вольтера, и Екатерины.
Французский историк Альфред Рамбо по этому поводу пишет:
Все ее неприятности приходили к ней из Версаля и все ее утешения — из Парижа. Существуют две Франции, из которых одна является ее врагом, другая — союзником. Ее переписка с философами часто будет носить следы злопамятства против министерства.
Опыт самолюбия и самокритики
Читать екатерининскую прозу — а императрица была одним из самых плодовитых российских писателей своего времени - не менее поучительно, чем ее письма или законопроекты. Даже в сказках Екатерины II обнаруживаешь философию, тесно связанную с реальной политикой русской государыни.
Одна из таких сказок-притч, озаглавленная «Опыт самолюбия», рассказывает, например, о человеке, слепо влюбленном во все свое. Ему казались великолепными и старый дом, вросший в землю, «с наклонностью к падению», и жена-брюзга, и лошадь с бельмом на глазу.
Одним словом, все, что ему принадлежало: мамы, няни, бани, веники, собаки, огород, пиво, полпиво, повар — все ему казалось отменными качествами снабдено, для того только, что ему принадлежало, и любил он себя и никого иного.
Карикатура на примитивный, доведенный до полного абсурда русский патриотизм, справедливо называемый в народе в насмешку квасным или ура-патриотизмом, столь узнаваема, что следует отдать должное писательнице. При этом фрагмент написан настолько эмоционально, что становится очевидным: в реальной жизни, в политической практике Екатерине пришлось не раз сталкиваться с подобными личностями.
Но тут же рядом, всего страницей ниже, уже новая притча-, о русском купце, который, наглядевшись на голландцев в Архангельске, «вздумал дочь воспитать на иностранный образец, для чего и отдал ее в какой-то пенсион, где обертки с две ума она получила». Мораль и здесь очевидна: живи своим умом, не гонись за модой, если уж берешь что у иностранцев, то бери с толком, а не все подряд.
Собственно говоря, ничего нового, придуманного самой Екатериной, в этой философии нет. Все это петровские заповеди, и именно им она пыталась следовать в своей внутренней политике. К опыту самолюбия императрица предлагала своим подданным присоединить опыт самокритики.
Первый серьезный опыт самокритики русские приобрели в ходе работы над «Наказом» — проектом нового уложения, подготовленным лично Екатериной. Это был своего рода проект-идеал, куда вошли почти все достижения современной тогда западной философии и пра-воведческой мысли, причем даже те из них, что еще не стали нормой и в самой Европе. Правда, в центре всего документа оставалась незыблемой мысль о том, что единственно приемлемой формой правления для России остается самодержавие, но его предлагалось облечь в самые цивилизованные, просвещенные и гуманные одежды.
«Наказ» являлся компиляцией, составленной из ряда западных источников. Прежде всего это книга Монтескье «Дух законов» и сочинение итальянского криминалиста Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Из 655 статей «Наказа» 294, по подсчетам специалистов, заимствованы у Монтескье. Есть там заимствования и из французской Энциклопедии и из сочинений немецких публицистов того времени Бильфельда и Юсти. Сама Екатерина на авторство, впрочем, и не претендовала.
В одном из писем Фридриху II, говоря о «Наказе», она откровенно замечает:
...Я как ворона в басне, нарядилась в павлиньи перья; в этом сочинении мне принадлежит лишь расположение материала да кое-где одна строчка, одно слово.
Откровенное признание в плагиате и в письме к Даламберу:
вы увидите из «Наказа», как я на пользу моей империи обобрала президента Монтескье, не называя его: надеюсь, что если б он с того света увидел меня работающею, то простил бы этот плагиат ради блага 20 миллионов людей, которое из того последует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на это; его книга служит для меня молитвенником.
Для русских читателей Екатерина не сочла нужным указать на источники, использованные ею в работе над документом. Таким образом, для депутатов, собранных Екатериной со всей страны для рассмотрения проекта уложения, «Наказ» являлся отражением воли и разума верховной российской власти и лично императрицы.
Сама комиссия по рассмотрению проекта уложения составлялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных разрядов, или слоев, населения. В результате набралось 564 депутата со всей страны. Статус депутата был необычайно, беспримерно для русской истории высок. Депутаты не только получали хорошее жалованье, но и пользовались иммунитетом.
Они находились под личной защитой императрицы, причем на всю жизнь, «в какое бы прегрешение ни впали». Депутаты освобождались от смертной казни, пыток и телесного наказания, имущество их могло быть конфисковано только за долги. Никто из российских подданных не пользовался тогда такими преимуществами. Иначе говоря, власть создала самые благоприятные условия, чтобы депутаты высказывали свое мнение откровенно, не боясь последствий. Сами выборы депутатов и организация работы комиссии — все это было максимально приближено к парламентскому европейскому опыту.
Созыв депутатов на совещание сопровождался небывалым для России требованием — привезти с собой пожелания народа. Таким образом, опыт самокритики предельно расширялся. Пожеланий оказалось множество, тысячи. Если власть хотела получить объективную информацию к размышлению, то она ее получила в полном объеме. В пожеланиях и жалобах властям нашли отражение все главные российские болячки. Да и сам «Наказ» охватывал, как и положено проекту уложения, огромный массив вопросов, касался всех сторон жизни государства, а потому заставлял депутатов предпринять действительно серьезный анализ ситуации в стране.
Документ, подготовленный Екатериной, предлагал гражданам оглянуться вокруг. Власть им ничего не обещала, но уже готова была выслушать их мнение. Более того, получалось, что власть сама напрашивалась на критику, поскольку в «Наказе» поднимался вопрос об ответственности государства перед гражданами.
Наконец, документ призывал рассматривать все вопросы не вообще, а под вполне определенным западноевропейским углом. «Наказ» убеждал, что в реформировании общества идти необходимо не на Восток, а на Запад. Россия есть европейская держава, констатировал документ. Екатерина в «Наказе» писала:
Доказательство сему следующее. Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали с климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Первый, вводя нравы и обычаи европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал.
В ходе преобразований Петр, как известно, столкнулся не столько с «удобностями», сколько с сопротивлением материала, но требовать от «Наказа», ставшего своего рода манифестом или ориентиром, серьезного разбора петровских реформ не стоит. Главное, что «Наказ» подтвердил курс Петра, и именно этим курсом депутатам предлагалось следовать в ходе обсуждения документа.
Если говорить о каких-то конкретных результатах, то можно констатировать, что работа комиссии закончилась провалом. Разнородный состав собрания (где представителям высшей элиты приходилось договариваться с делегатами низов, петербуржцам с сибирскими кочевниками, где рядом сидели европейски образованный вельможа и безграмотный землепашец, где французская речь смешивалась с провинциальным говорком) обрекал работу комиссии на бесконечные споры.
Между тем из разговора была исключена еще огромная масса крепостных — почти половина населения империи. К тому же делегатам было 1 рудно, попросту невозможно в один присест согласовать хаотичный, разнородный, разновременный и противоречивый свод российских законов с пожеланиями передового даже для Запада «Наказа».
Впрочем, императрица всерьез, кажется, на успех и не рассчитывала. В присущей ей манере она просто вбросила в российское общество, как в воду, пробный камень и внимательно всматривалась в круги, которые от него пошли. Как писала сама Екатерина:
Комиссия дала... свет и сведения о том, с кем дело имеем и о ком пещись надлежит.
Часть из опыта работы комиссии она, проанализировав, использовала в ходе реформ. Другие проблемы предпочла оставить в наследство потомкам.
Протоколы работы комиссии свидетельствуют, что самокритика оказалась едва ли не труднейшей частью ее работы, особенно когда депутаты вышли в своей дискуссии на главную российскую проблему — вопрос о крепостном праве.
Едва заходил разговор о безнравственности и экономической невыгодности крепостничества, как депутаты моментально сбивались на прямо противоположный курс: крепостное право многие предлагали не отменить, а, наоборот, расширить. Право владеть крепостными выпрашивали себе у власти и представители купечества, и казаки, и духовенство.
Правда, в этом главном для России вопросе депутаты ничем не отличались от самой императрицы. Известно, что именно при Екатерине увидели свет многочисленные указы, расширяющие сферу крепостничества.
Не считая возможным демонтировать крепостничество, Екатерина II, как это ей было свойственно, все свое внимание переключила на форму. Ее раздражал рабовладельческий пыл некоторых депутатов, отказывавших крепостным даже в праве числиться в законодательных актах «персоной».
Известна ее язвительная записка по этому поводу:
Если крепостного нельзя персоной признать, следовательно, он не человек; так скотом извольте его признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет.
Не нравилась императрице и распродажа людей с молотка, с публичного торга, что и было в 1771 году отменено. Впрочем, уже в 1792 году все вернулось к прежним порядкам, правда, без столь раздражавшего императрицу «молотка».
Вывод историков однозначен: в эпоху просвещенной Екатерины крепостное право укрепилось и расширилось. То есть самолюбия в России все еще было больше, чем самокритики.
И в диковатой еще провинции, и в европейском дворце императрицы.
«Маркиз Пугачев» и немецкие колонисты
То, что слов и благих пожеланий мало, а необходимы срочные практические дела, доказало кровавое и разрушительное восстание (1773-1775) во главе с казаком Емельяном Пугачевым, объявившим себя законным императором Петром III. Сама Екатерина называла самозванца с очевидной издевкой не иначе как «маркиз Пугачев».
Мятеж, охвативший обширные области в юго-восточной России, показал неустойчивость власти, унес жизни тысяч русских людей, многие сотни дворянских семей были буквально вырезаны восставшими под корень, невзирая на пол и возраст. Азиатская жестокость бунта (причем и со стороны карателей тоже) поставила под большое сомнение официальный тезис о том, что Россия есть европейская держава.
Оказалось, что его можно легко и оспорить: при первом же серьезном ливне весьма деликатная европейская позолота, с такими усилиями наведенная Екатериной, потекла ручьями, перемешиваясь с кровью и обнажая старый, проржавевший каркас государственного российского здания. Реальная Россия, конечно, мало напоминала тот припудренный образ, что Екатерина выставляла обычно на обозрение всей Европе.
Однажды она написала Вольтеру письмо, которое следует по справедливости назвать историко-фантастическим произведением. Императрица писала:
В России подати столь умеренны, что нет у нас ни одного крестьянина, который бы, когда ему ни вздумалось, не ел курицы, а в иных провинциях с некоторого времени стали предпочитать курицам индеек, что вывоз в чужие края хлеба, позволенный с известным ограничением, упреждающим злоупотребления и не делающим притом торговле принуждения, возвысил цену оному. Сие так поощрило земледельцев, что хлебопашество год от года умножается, равномерно и размножение народное в семь лет в некоторых провинциях превзошло десятою долею прежнее число обитателей. Правда, мы имеем теперь войну, но Россия с весьма давних лет упражняется в сем ремесле и после каждой войны приходит в лучшее состояние против того, в каком была до вступления в оную. Наши законы идут своим чередом, над ними трудящиеся не спешат. Правда, что они не главное теперь дело, но они от того ничего не потеряют. Законы сии позволяют каждому свою веру исповедовать, никого не будут гнать, ни убивать, ни сжигать...
И так далее в том же роде.
Реальный пугачевский бунт, причиной которого стали голод, крепостное право со всеми его ужасами и беззаконие, царившее в российской глубинке, с этой екатерининской идиллией не стыкуются. Недаром попытки Петербурга найти здесь следы хоть какой-то иностранной интриги (подозревали французов, турок и поляков) не увенчались успехом.
Горючий материал оказался своим собственным. Степь подожгли беглые крепостные, раскольники, казаки, татары, башкиры, калмыки, киргизы. Кстати, русская история насчитывает около 40 самозванцев, взявших себе имя Петра III. Пугачев лишь наиболее предприимчивый из них и до поры удачливый.
Бунт потряс страну до основания, нанес ей огромный экономический ущерб. Прямо ударил мятеж и по практическим начинаниям, затеянным Екатериной, в частности по немецким колонистам, незадолго до того обосновавшимся в Поволжье по приглашению императрицы.
Ровно за десять лет до бурных событий своими манифестами от 4 декабря 1762 года и 22 июля 1763 года, получившими широкую известность в Европе, Екатерина II пригласила иностранных колонистов в Россию, гарантируя им ряд льгот: самоуправление, свободу вероисповедания, освобождение от воинской повинности и налогов.
Колонистам и их потомкам предоставлялись права российских граждан. Каждому колонисту выделялся большой участок неосвоенной пахотной земли, а самим колониям — прилегающие к ним пастбища и лесные угодья. На призыв Екатерины ответили многие, прежде всего немцы, хотя среди колонистов были также голландцы, французы, швейцарцы, чехи, поляки. Воспользовались этими манифестами и некоторые старообрядческие семьи, сбежавшие в свое время от притеснений в Польшу и Литву.
(В 70-е годы XVIII века в Поволжье поселилось 27 тысяч выходцев из Германии, основавших на необжитых землях первые сто колоний. Спустя век их число перевалило уже за пятьсот.)
вот эти-то молодые колонии и накрыла туча пугачевского бунта. Отношениям Пугачева с иностранными колонистами посвящен ряд исторических работ, но они во многом принципиально противоречат друг другу. По одной версии, Пугачев не причинил колониям большого вреда и заставлял колонистов лишь снабжать его подводами и продовольствием. Авторы подобной версии полагают, что самозванец, просчитывая все варианты развития событий, на всякий случай не хотел портить отношения с Западной Европой.
По данным этих исследователей, в том числе и Александра Пушкина, изучавшего историю пугачевского восстания, колонисты не только не пострадали, но и в значительном количестве примкнули к восставшим. Пушкин писал:
Иностранцы, тут [по течению Волги] поселенные... все к нему присоединились... Пугачев составил из них гусарский полк.
Более поздние исследования пушкинскую версию категорически отвергают и, наоборот, приводят немало фактов грабежей немецких колоний и городков, например Екатериненштадта и Борегарда в Саратовской губернии. Около одной из немецких колоний Пугачев — любитель черного юмора — просто так, ради шутки, повесил астронома Ловица, возглавлявшего тогда, на свою беду, научную экспедицию, работавшую в степи. Как заметил, веселясь, «маркиз» Пугачев: «Теперь ученый ближе к звездам!»
Официальные отчеты того времени свидетельствуют:
В поселениях после нашествия злодея немало колонистов побито, в плен угнано и пограблено.
Согласно следственным документам по делу Пугачева, получается, что из 27 тысяч колонистов к мятежнику примкнуло лишь несколько человек, да и те отнюдь не добровольно, а от страха.
«Заря благоденствия рода человеческого занялась на севере»
Не считая возможным устранить главную причину пугачевского бунта — крепостное право, — Екатерина решительно взялась за укрепление областной власти, не сумевшей адекватно отреагировать на опасную ситуацию. Центр был крайне раздосадован тем, что местная власть не затушила пожар восстания в самом зародыше.
С другой стороны, к этому шагу подталкивали и выводы, сделанные депутатами в ходе обсуждения «Наказа», - если члены комиссии и сходились в чем-то, так это как раз в том, что уже давно назрела реформа областного управления.
Первым шагом реформы 1775 года стало новое областное деление: вместо го обширных губерний возникло 50, но меньших. Каждая губерния получила однообразное и довольно сложное устройство, где легко прослеживается влияние западных политологов, приверженцев строгого разделения различных ветвей власти.
Но самое интересное, что в ходе екатерининской реформы в губерниях появились два учреждения, не только незнакомые ранее русской администрации, но представлявшие новинку и для Запада. Во-первых, это был так называемый Приказ общественного призрения, заведовавший благотворительными учреждениями, а во-вторых, Совестный суд, решавший дела не на основе формального права, а по совести. Об этом немало тогда писали европейские теоретики, но только Екатерина попыталась ввести подобное в практику.
Как показала жизнь, Екатерина несколько поспешила, хотя двигали ею самые благие желания. Приказ общественного призрения возник раньше, чем сформировалось полноценное общественное мнение, а благотворительность приобрела достойный масштаб. В то время губерния не имела даже народных школ, так что новая административная структура повисла в воздухе, ей просто нечем было еще заниматься.
Учреждение Совестного суда европейские прогрессисты приветствовали восторженно, хотя никто из них не имел ни малейшего представления о том, может ли эта затея привиться на русской почве. Французский публицист Мерсье тогда писал:
Заря благоденствия рода человеческого занялась на Севере. Повелители вселенной, законодатели народов, спешите к полуночной Семирамиде и, преклонив колена, поучайтесь: она первая учредила совестный суд!
Сама «Семирамида» подобными комплиментами была польщена, но, в отличие от Мерсье, понимала, что это всего лишь эксперимент и он совсем не обязательно закончится удачей.
Так и произошло. Реальный результат деятельности Совестных судов оказался скромным. Как правило, та сторона, что чувствовала за собой правоту, от Совестного суда не отказывалась, но вот виновная сторона предпочитала обычные судебные инстанции, где было меньше «совести», но больше юридического крючкотворства, а истина далеко не всегда торжествовала.
Граф Никита Панин и его Северная система
Успехи Екатерины II на внешнеполитическом фронте выглядят убедительнее. К моменту ее воцарения положение в Европе было неясным, прежние союзы, обязательства, доктрины оказались разрушены Семилетней войной. Возникла та редкая ситуация, когда можно легко менять внешнеполитические ориентиры, мириться с прежними врагами, завязывать новую политическую интригу.
Правда, неизменными оставались некоторые геополитические факторы, из века в век влиявшие на русскую внешнюю политику. На севере все еще требовала внимания Швеция, на западе — польская проблема, а на юге по-прежнему доминировала тогда еще мощная Османская империя. Здесь России приходилось терпеть крайне неприятное соседство — воинственных крымских кочевников, которым оказывала покровительство Турция.
Как тогда говорили русские, Крымское ханство — это последняя огнедышащая голова трехглавого змея, издавна досаждавшего России. Первую голову змея русские отсекли в 1380 году в ходе Куликовской битвы, разбив татар. Вторую отрубил царь Иван Грозный в 1552 году, покорив Казань. Третью голову, об этом речь пойдет чуть позже, отсек князь Потемкин.
Пока Екатерина вырабатывала свою линию, различные европейские державы внимательно наблюдали за происходящим в Петербурге, определяя собственный курс по отношению к новой российской власти.
Граф Мерси-Аржанто докладывал в это время австрийскому канцлеру графу Кауницу о своей беседе с графом Бестужевым:
Бывший канцлер [Бестужев] сказал между прочим, что он лично всегда был предан... эрцгерцогскому дому и весьма желал бы видеть прежнее тесное согласие между обоими императорскими дворами восстановленным... Но при этом он не хочет скрыть от меня искренность своего убеждения, что наш двор более нуждается в здешнем, чем последний в нашем. Россия сама по себе настолько крепкое государство, что может обойтись без всякой иноземной помощи. Что же касается до прусского могущества, то он, граф Бестужев, признает, что... для России, по-видимому, не могут произойти от сего особенно вредные последствия.
Учитывая, что Бестужев, хотя и находился уже в отставке, был прекрасно осведомлен о реальном ходе дел в стране, приведенное заявление очень напоминает блеф. Либо следует допустить, что бывший канцлер видел в лице новой императрицы необычайно талантливого администратора, способного в кратчайшие сроки исправить положение.
Дело в том, что разговор Бестужева с австрийцем происходил в то самое время, когда Екатерина безуспешно пыталась занять в Голландии денег, чтобы заполнить пустую казну, когда армия, по словам самой императрицы, была расстроена, все крепости развалены, а смотр Балтийского флота выявил множество недочетов. Корабли наезжали друг на друга, пушки палили мимо, снасти на каждом шагу ломались. Как считала сама императрица, ей нужно не менее пяти лет мира, чтобы привести российские дела хотя бы в относительный порядок.
Если австрийцы только зондировали почву, то французы для себя уже все решили, российский беспорядок их вполне устраивал. Более того, они пытались ему еще и поспособствовать. Поручение Людовика XV своему посланнику барону Бретейлю говорит само за себя:
Цель моей политики относительно России состоит в удалении ее, по возможности, от европейских дел... Вы должны поддерживать все партии, которые непременно образуются при этом дворе. Только при господстве внутренних смут Россия будет иметь менее средств вдаваться в виды, которые могут ей внушить другие державы. Наше влияние в настоящую минуту может быть полезно в том отношении, что даст благоприятный оборот всем польским делам и переменит тон, с каким петербургский двор обращается к этой республике. Будущее влияние должно воспрепятствовать России принимать участие в войне против меня, против моих союзников и особенно противиться моим видам в случае королевских выборов в Польше.
В данном фрагменте нет упоминания о делах шведских и турецких, но в принципе точно так же, как и 8 Польше, Париж и здесь делал все возможное, чтобы помешать России.
Забегая вперед, можно легко заметить, что прогноз Бестужева, высказанный им в беседе с австрийцами, столь похожий на блеф, тем не менее полностью оправдался. А вот планы Франции провалились, причем по всем направлениям.
Заслуга Екатерины здесь очевидна. В короткое время она смогла навести в стране относительный порядок, во всяком случае, в казне начала звенеть иногда монета, корабли перестали наезжать друг на друга, а пушки стали попадать в цель. Но, может быть, самое главное — Россия сосредоточилась наконец на своих собственных интересах.
Одним из главных архитекторов российской внешней политики того периода считается президент иностранной коллегии граф Никита Иванович Панин. Именно ему обычно приписывают идею создания так называемой Северной системы, или Северного союза, который бы объединил государства севера Европы в противовес коалиции южных держав — Франции, Австрии и Испании.
в северный блок должны были в качестве активных членов войти Россия, Пруссия и Англия. Задача остальных, второстепенных членов союза (Швеция, Дания, Польша, Саксония и ряд других) выглядела скромнее, в случае обострения ситуации они лишь сохраняли нейтралитет. Правда, авторство Панина в этом вопросе оспаривали, и не без оснований, многие, в том числе и англичане. Приблизительно с теми же идеями в 1764 году выступал и русский посол в Копенгагене Корф. Идея действительно витала в воздухе, Панин лишь одним из первых ее уловил.
Объясняя, в чем заключалась для России выгода подобной системы, историки излагают суть вопроса примерно так. Пруссия, согласно плану Панина, должна была помогать России в польских и турецких делах в обмен на помощь против Австрии. Англия по тому же плану содействовала российским интересам в Швеции и Турции в обмен на русскую помощь в случае столкновения с Францией и Испанией.
При таком раскладе русские интересы явно перевешивали. В то время как для Петербурга вопросы взаимоотношений с Турцией, Польшей и Швецией действительно являлись взрывоопасными, возможность втянуть Россию в какую-то европейскую драку во исполнение ее собственных союзнических обязательств оставалась минимальной. Вооруженный конфликт между Австрией и Пруссией или Францией и Англией был в то время маловероятен.
Неудивительно поэтому, что все эти амбициозные планы реализовать так и не удалось. Замысел графа Панина с большим раздражением встретил, например, Фридрих II: королю вполне хватало двухстороннего союза Пруссии и России. Свои интересы, далеко не во всем совпадающие с интересами русских, имела, естественно, и Англия.
История с Северным союзом важна в другом отношении: впервые после Петра I Россия попыталась взять дипломатическую инициативу, да еще в общеевропейском масштабе, на себя. В период между Петром Великим и Екатериной II Россия с большим или меньшим успехом лишь реагировала на политическую игру, задуманную в других европейских столицах. Теперь же Берлину и Лондону как потенциальным союзникам русских, а также Парижу и Вене как потенциальным противникам России пришлось играть в игру, навязанную им Петербургом.
Екатерина и Панин хотя и не добились реализации своих планов, тем не менее сумели спутать карты другим игрокам. К тому же отвлекли внимание европейской дипломатии от иных важных направлений своей внешнеполитической деятельности.
Горячий кузен и холодная кузина
Северная война, проигранная Швецией, во многом изменила страну, подарив ей среди прочего конституционную монархию. В екатерининскую эпоху в шведской политике доминировали две противоборствующие силы: партия так называемых «шляп», ориентированная на Францию, и партия «колпаков», чьи взгляды были обращены на Лондон и Петербург. Слабость шведской короны в России тогда расценивали как важное условие сохранения мира на русско-шведской границе.
Более или менее спокойное течение событий нарушил переворот, в результате которого к власти в Стокгольме пришел кузен, то есть двоюродный брат Екатерины, король Густав III. Родственники оказались перед выбором: решать все накопившиеся между Россией и Швецией проблемы в узком семейном кругу или, как Петр и Карл, снова с оружием в руках на воде и на суше.
В ход пошли оба метода. В 1777 году король посетил Санкт-Петербург в надежде обаять кузину. Прием шведскому королю был оказан учтивый. Под впечатлением от встреч с Екатериной Густав писал тогда своему брату герцогу Карлу:
Императрица выказывает мне все возможное внимание, она необычайно обходительна и вежлива. Ее просто не знают в Швеции. Все мои предосторожности при отъезде кажутся мне излишними, с тех пор как я узнал ее манеры и склад ума.
Густав уехал из России, оставив на память Екатерине свой портрет, швед искренне поверил в то, что сумел очаровать родственницу. Восторг кузена был, однако, не вполне адекватен ситуации — дипломатическую любезность он принял за сердечность. Екатерина и Густав совершенно по-разному смотрели на внешнюю политику. Король считал, что родственные связи и личные симпатии в этом деле достаточно серьезный аргумент. Екатерина исходила из других критериев, главным из которых была защита национальных интересов.
Визит лишь отложил решение проблемы, стоявшей перед Россией: не дать Швеции ни малейшего шанса снова претендовать на статус великой державы и каким-либо образом поставить под сомнение итоги Северной войны. Слишком дорого досталась тогда победа русским.
Когда в 1783 году Густаву показалось, что Россия крепко увязла в турецких делах, он снова добился встречи с Екатериной. На этот раз кузен представил на ее рассмотрение подробнейший план своего рода семейного соглашения. Документ сопровождало сентиментальное вступление, где проникновенно говорилось о родственных связях и нежной дружбе между монархами. Густав предложил императрице прочный и постоянный мир, причем обязательства распространялись и на их потомков. Соглашение предусматривало также взаимную военную помощь в случае агрессии против России или Швеции. Единственное, на чем настаивал Густав, это на секретном характере подобного договора.
Кузина встретила инициативу родственника более чем прохладно. В короткой записке король извещался о том, что российская императрица никогда не ведет частных переговоров с иностранной державой, а потому все его предложения переданы на рассмотрение Кабинета министров.
В своей же приватной переписке Екатерина расценила предложение Густава как абсурдное и бессмысленное, а самого кузена высмеяла за чрезмерное, по мнению императрицы, тщеславие. Лучшим «переговорщиком» для короля, заметила императрица, стало бы зеркало, настолько он влюблен в самого себя.
В1788 году, разочарованный русской неуступчивостью, кузен неожиданно напал на несговорчивую кузину. Несмотря на протесты своих генералов и адмиралов, король решил провести весьма рискованную операцию — высадить десант недалеко от Петербурга и закончить войну одним молниеносным ударом. Затея провалилась.
В морском сражении 6 (17) июля 1788 года близ острова Гогланд, где шведов уже ждал русский флот, они понесли серьезные потери.
Русские историки традиционно утверждают, что в Гогландском сражении российский флот одержал победу. Шведские историки скромнее в оценках и считают, что бой закончился вничью. Потери в сражении действительно приблизительно равны, так что в военном плане можно говорить и о ничьей (шведы здесь гораздо ближе к истине, чем русские), но вот политическое поражение Густава очевидно. Неудача серьезно дестабилизировала обстановку в Швеции: группа офицеров, посчитавших нападение на Россию антиконституционным актом, даже подняла против короля мятеж.
В конце концов после ряда столкновений в 1790 году Швеция и Россия подписали мир. Русские добились своего: договор сохранил довоенные границы. Очередная шведская попытка ревизии итогов Северной войны закончилась безрезультатно.
На следующий день после подписания мира Густав отправил Екатерине самое любезное и теплое письмо, где вновь называл ее «мадам, сестра и кузина».
Российская императрица вновь ответила вежливо и сухо.
«Потемкинские деревни». Как светлейшего князя замарал грязный политтехнолог
Две войны русских с Османской империей времен Екатерины принесли ее армии и флоту заслуженную славу, а самой России новые территории. Крым, откуда в течение многих веков совершались набеги на русскую землю и куда угоняли в рабство тысячи людей, стал сначала независимым от Турции, а затем просто вошел в состав Российской империи. Таким образом, и третью голову «змея» удалось наконец отсечь.
Любопытно, однако, что завоеватель Крыма светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический — фаворит, а по некоторым свидетельствам, и морганатический супруг Екатерины II - получил всемирную известность отнюдь не как герой. Первое, что приходит на ум человеку, услышавшему имя Потемкина, это вовсе не триумфальная арка, а известное выражение «потемкинские деревни» — символ показухи, холопского раболепства и мошенничества.
Бесславная и, сразу же замечу, несправедливая эпитафия на могиле князя. Потемкин, крупнейший государственный деятель России, в течение 17 лет, с 1774 по 1791 год, бывший вторым лицом Российской империи, заслуживает иной памяти.
Оставляя в стороне колоритную личность князя, где изрядно перемешано всякое, и таланты, и человеческие пороки, а также характер взаимоотношений Григория Потемкина и Екатерины, гораздо важнее проанализировать главное дело его жизни — завоевание и колонизацию Крыма.
Известная записка Потемкина Екатерине, получившая название Крымского проекта, датируется 1782 годом и является частью более широкого Греческого проекта — то есть вопроса о будущем Османской империи.
Греческий проект в те времена подробно обсуждался российской императрицей и австрийским императором Иосифом II. Вместе с тем Крымские дела хотя и рассматривались самими русскими в более широком контексте Греческого проекта, на переговоры с Веной даже не выносились, поскольку вопрос о Крыме в Петербурге считали внутренним делом России.
Константинополь являлся для Екатерины мечтой, грезы могли осуществиться или нет в зависимости от обстоятельств, поход же на Крым был продиктован жизненными интересами России, а потому предрешен.
Принципиальную необходимость завоевания Крыма Потемкин обосновывал подробно. Во-первых, он указывал на то, что Крым уже давно стал для России источником всевозможных бед:
Татарское гнездо в сем полуострове от давних времен есть причиною войны, беспокойств, разорения границ наших, издержек несносных, которых уже в царствование Вашего величества перешло только для сего места более двенадцати миллионов...
Во-вторых, Потемкин приводил подробное описание тех геополитических выгод, что сулило России присоединение к ней полуострова:
Крым положением своим разрывает наши границы... Положите ж теперь, что Крым Ваш и что нету уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, поэтому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны кубанской сверх частых крепостей, снабженных войском, многочисленное войско Донское всегда тут готово. ...Мореплавание по Черному морю свободное, а то извольте рассудить, что кораблям Вашим и выходить трудно, а входить еще труднее.
В-третьих, Потемкин обещал от занятия Крыма немалые экономические ВЫГОДЫ:
Доходы сего полуострова в руках Ваших возвысятся — одна соль уже важный артикул, а что хлеб и вино!
Наконец, в-четвертых, князь напоминал, что точно так же действуют и все остальные европейские державы, когда речь идет об их интересах:
Вы обязаны возвышать славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Цесарцы (австрийцы) без войны у турков взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки.
Свою записку Потемкин резюмировал:
Границы России есть Черное море.
Аргументы Потемкина Екатерина одобрила, и императорское благословение на завоевание Крыма князь получил. Что же касается возможных протестов со стороны других европейских держав, то к ним Екатерина всегда относилась хладнокровно. Вот и по этому поводу она заметила, что, когда дело дойдет до дележа турецких земель, и другие европейские страны не останутся в стороне: «Когда пирог испечен, у каждого явится аппетит».
(Екатерина словно предвидела будущую Берлинскую конференцию 1878 года, когда один большой друг Османской империи, Великобритания, присоединила к себе Кипр, а другой большой друг турок, Австрия, забрала Боснию и Герцеговину.)
Относительно возможных протестов главного на тот момент политического противника России — Франции, императрица не без иронии заявила: «Как мало я считаю [т. е. рассчитываю] на союзника, так мало я уважаю французский гром, или, лучше сказать, зарницы».
Завоевав Крым, сам же Потемкин занялся и его освоением, строительством новых городов, крепостей, гаваней, переселением сюда колонистов, налаживанием контактов с местным населением и так далее. К1787 году, когда в Крым прибыла императрица, Потемкин успел сделать уже немало, чем по праву мог гордиться. Тем более что Екатерина II не была похожа на прежних русских императриц: толково устроенная гавань и верфь для нее, как и для Петра Великого, представляли куда большую ценность, нежели декоративный ледяной дом и красочные фейерверки.
Хотя и здесь Потемкин постарался перед государыней отличиться: пышных праздников по ходу путешествия Екатерины в Крым князь устроил предостаточно, что отчасти и послужило поводом для легенды о «потемкинских деревнях».
Миф гласит, что вместо подлинных поселений предприимчивый князь показывал наивной государыне умело раскрашенные декорации и ряженых людей, изображавших довольных граждан. Утверждалось, что, украв деньги, выделенные на строительство военного флота, Потемкин продемонстрировал Екатерине вместо боевых кораблей старые торговые суда. Даже стада, если верить легенде, постоянно перегонялись с места на место, чтобы удостоверить богатство края.
Мысль о том, что умная Екатерина могла принимать всю эту бутафорию за подлинник, оскорбляет императрицу, пожалуй, не меньше, чем самого князя.
Миф опровергается множеством авторитетных как русских, так и иностранных свидетелей. Английский дипломат Алан Фиц-
Герберт, сопровождавший Екатерину в ходе ее поездки в Крым, доносил в Лондон:
Императрица чрезвычайно довольна положением этих губерний, благосостояние которых действительно удивительно, ибо несколько лет назад здесь была совершенная пустыня.
В 1782 году, то есть за пять лет до приезда Екатерины, Крым посетил последний гетман Украины граф Разумовский, не обнаруживший там ничего мало-мальски напоминающего бутафорию. В одном из своих писем другу он делится следующими впечатлениями:
На ужасной своей пустынностью степи, где в недавнем времени едва рассеянные обретаемы были избушки, по Херсонскому пути, начиная от самого Кременчуга, нашел я довольные селения верстах в 20, в 25 и далее, большею частью при обильных водах. Что принадлежит до самого Херсона, то представьте себе множество всякий час умножающихся каменных зданий, крепость, замыкающую в себе цитадель и лучшие строения, адмиралтейство со строящимися и построенными уже кораблями, обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами. С одной стороны казармы, ю тысяч военнослужащих в себя вмещающие, с другой перед самым предместьем видоприятный остров с карантинными строениями, с греческими купеческими кораблями и с проводимыми для выгод сих судов каналами. Я и доныне не могу выйти из недоумения о том скором возращении на месте, где так недавно один только обретался зимовник...
Не один сей город занимал мое удивление. Новые и весьма недавно также основанные города Никополь, Новый Кай-дак, лепоустроенный Екатеринослав, расчищенные и к судоходству удобными сделанные Ненасытские пороги с проведенным при них каналом.
Очевидно, что Потемкину было что показать Екатерине и без бутафорских хижин.
Миф о «потемкинских деревнях» как редкое исключение имеет конкретного автора. Им является саксонский дипломат Гельбиг. Сам дипломат, служивший в России уже в конце царствования Екатерины (формально секретарем посольства, а фактически саксонским резидентом), в той знаменитой поездке в Крым участия не принимал. Он лишь тщательно собрал гулявшие по Петербургу слухи, соответственно их препарировал, интерпретировал и опубликовал.
Самая первая, еще анонимная публикация увидела свет в гамбургском журнале «Минерва». Затем появилась и книга-памфлет Гельбига «Потемкин Таврический», многократно переизданная позже в Голландии, Англии и Франции. Этот опус и познакомил Европу с «потемкинскими деревнями».
Потемкин, а заодно с ним и Екатерина пали жертвами грязных политических технологий того времени. Здесь сошлись интересы российских противников князя (именно они были главными поставщиками слухов) и западных противников императрицы, использовавших эти слухи в своих интересах.
Внутренняя оппозиция в основном группировалась вокруг Павла. В его окружении фаворитизм Екатерины вызывал отвращение и страх. Появление в спальне императрицы очередного посетителя всякий раз воспринималось как прямая угроза будущему воцарению Павла. Ненависть к фаворитам и екатерининскому двору ослепляла, не позволяя объективно видеть помимо реально существовавших при дворе пороков и бесспорно сильные стороны «екатерининских орлов». Что бы и как бы ни делал Потемкин, все это оценивалось окружением Павла лишь негативно. Разнообразные слухи здесь зарождались постоянно.
Вторым источником сплетен стали придворные кружки, сформировавшиеся вокруг каждого из многочисленных екатерининских фаворитов. Соперничая между собой, царедворцы не жалели противников и уж тем более Потемкина, сумевшего сохранить свое влияние на Екатерину до конца жизни: перестав быть любовниками, князь и императрица остались друзьями и единомышленниками.
Не жаловали Потемкина и русские масоны. Немало язвительных анекдотов о светлейшем князе вышло из их среды. Так что слухи шли к саксонцу Гельбигу сами, оставалось лишь сортировать их и раскладывать по полочкам.
Что касается Запада, то здесь параллельно с восторженными комплиментами Вольтера и других просветителей в адрес русской императрицы постоянно существовал и негативный фон: каждый новый фаворит лишь увеличивал, с точки зрения некоторых европейцев, и без того длинный список «греховных деяний» Екатерины. Каждая новая сплетня, приходящая из Петербурга, обязательно находила в Европе слушателя, как скептического, так и благодарного.
Памфлет Гельбига оказался востребован Европой и по другим причинам: геополитические успехи России порождали тревогу во многих европейских столицах. Раздражение вызывало и то, как равнодушно реагировала Екатерина на любые попытки Запада протестовать против политики Петербурга. В августе 1783 года в своем письме к Потемкину Екатерина, комментируя реакцию Запада на завоевание Россией Крыма, пишет:
На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем.
Язвительный опус Гельбига русские исследователи продолжают изучать до сих пор. Современный историк Елена Дружинина замечает:
Гельбиг объявляет несостоятельными все военно-админи-стративные и экономические мероприятия Потемкина в Северном Причерноморье. Саму идею освоения южных степей он пытается представить как нелепую и вредную авантюру... Изображение всего, что было построено на юге страны, в виде бутафории - пресловутых «потемкинских деревень» - преследовало... задачу предотвратить переселение в Россию новых колонистов.
То есть памфлет пытался не только дискредитировать русскую политику в целом, но и решить вполне конкретную задачу: сорвать план колонизации новых русских земель западными колонистами (как это делалось Екатериной на Волге).
Любопытно, что атаки на Екатерину и Потемкина Гельбиг продолжил и после их смерти. Пытаясь объяснить, чем это вызвано, другой историк, Ольга Елисеева, выдвигает следующую версию:
«Русская тема» стала для Гельбига главным источником доходов, в 1808 году он издает... «Биографию Петра III», где виновницей смерти мужа объявляется, конечно, Екатерина II, а в 1809 году - новый памфлет «Русские фавориты»... Уже после смерти своих главных героев... Гельбиг с неослабевающей яростью продолжал сражаться с тенями людей, не сделавших ему лично ничего дурного. По каким-то причинам дипломату необходимо было опорочить фомадное политическое и культурное наследие Екатерины II, и в первую очередь в области внешней политики... Продолжение движения Российской империи по направлениям, намеченным императрицей и светлейшим князем, было слишком опасно для «европейского равновесия» в прусском понимании слова, слишком хорошо ложилось в концепцию «русской угрозы», тщательно развиваемой Францией на протяжении всего XVIII века, чтоб труды Гельбига остались без многочисленных переводов и переизданий.






