Красная тетрадь Мурашова Екатерина
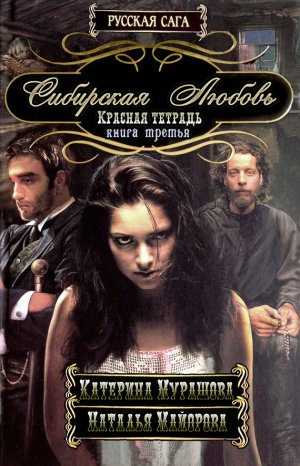
Старуха, опираясь на клюку и приподняв подбородок, оглядела комнату и сказала скрипучим, но звучным голосом (так порою звучит старый, надтреснутый колокол):
– Чем меж собой собачиться, молились бы лучше! Все бы и устроилось!
– Пески побогаче стали? Инженер жив оказался? Чего еще? – вежливо уточнил мужчина.
– Все, все в руке Божией! – трубно возгласила старуха. – И богатства земные, и судьбы людские! Али сомневаешься?!
– Нет, нет, мы не сомневаемся! – торопливо подхватила Маша. – Господь велик, а мы – ничтожны пред ним. Но ведь у каждого, кто в миру живет, свой жребий есть, и его исполнять надо по мере сил. Так ли, тетенька? – казалось, она на полном серьезе ждет ответа. Мужчина досадливо махнул рукой и снова отвернулся к окну.
– Пожалуй что так, – поразмыслив и пожевав синими губами, ответствовала старуха.
– Я думаю, что мой жребий – сохранить и приумножить то, что батюшка оставил. Если мы теперь прииски закроем, то Егорьевску – конец. Я же не должна запустения и погубления родительского строения допустить…
– Гордыня, Машка! Гордыня тебя жрет! – взвыла Марфа Парфеновна, выставив кривой палец в сторону племянницы. – Как у отца твоего! Его-то гордыня и сгубила! Гордыня и злато поганое! Смирись и молись неустанно! В паломничество к святому месту съезди. Тогда и понимание придет!
– Хорошо, хорошо, – смиренно опустив взгляд, Маша тут же пошла на попятную. – Я подумаю, тетенька, посоветуюсь с владыкой. Может, и вправду съезжу… Вы бы присели теперь в кресло… А что у нас новенького?
– Постою, небось на ногах еще, не калека, днем по креслам рассиживать, – проворчала Марфа. – У нас… Чего же у нас? – старуха плотнее налегла грудью на рукоять клюки. – А – вот! Намедни ходила Матюшу с Соней навещать, пряничков им снесла и игрушечку, что Тиша выточил…
– Тетенька! – в голосе Марьи Ивановны явственно послышалось раздражение. – Зачем вы туда ходите? Я ж вам сто раз говорила: рассудите сами, неужто Вера Михайлова детям пряничка купить не сможет? На что вам? И ей каково вам привет оказывать?
– Ничего ты не разберешь. Дело не в гостинце, а во внимании и ласке. Вера Артемьевна – женщина суровая, лишний раз детей не приголубит, не понежит… («Зато уж ты ласковая, прямо умереть до чего!» – почти неслышно проворчал себе под нос Дмитрий Михайлович) А игрушечки тишины и вовсе на ярмарке не купишь. Они каждый раз аж визжат от радости, и в корзинку, как птенцы, заглядывают… «Ну что там, бабушка Марфа, не томи, что там?!» А Вера, как бы у тебя с ней ни склодилось, насупротив меня ничего не имеет, и прямо так мне и говорит: Вы уж навещайте нас, Марфа Парфеновна, как надумаете да силы будут, детям всегда в радость и мне отрадно. Бабушек-то у них нет, да и я маменьку родную уж и в лицо позабыла…
– Вот змея-то! – вздохнула Марья Ивановна. – И вы, с вашим-то умом, ей верите?!
– Ничего такого! – возмутилась старуха. – Не склодилось у вас, так ты и рада все наизнанку обернуть! Будто ты не знаешь, что Вера, как и я сама, приязни ни к кому изображать не станет. Лучше промолчит, но никогда пустого не скажет!… Да вот, я что говорить-то хотела, да ты меня сбиваешь всегда. Письмо она на той неделе из Петербурга получила, от Софьи Павловны…
На скулах мужчины заходили яростные желваки, женщина, напротив, видимо заинтересовалась новостью. На ее бледные щеки даже вернулся румянец.
– Ну? Что у нее там? Читала она тебе? Или так рассказала?
– Так рассказала, да я поняла, что не в первый раз и уж почти до слова выучила… Погоди, вот теперь я присяду… – старуха добралась до того, с чем пришла, и, прежде, чем сообщить новость, обустраивалась со всеми возможными удобствами. – Вели Аниске чаю мне принести. Моего, с травками… Да и сама сядь, небось ногу-то не менее моего ломит. Вот… Теперь, значит, слушай… А ты, Дмитрий, не кривись, не кривись! Коли тебе про Софью слушать неохота, так уйди и не маячь туточки…
– Отчего же, я послушаю, – сам себя окончательно не понимая, отозвался Дмитрий Михайлович.
Отчего прошлое никак не может отпустить его, дать жить в полную силу сегодня и сейчас? Чем он провинился?… «Не лукавь! – приказал он сам себе. – Все свои вины ты сам знаешь.» Но все равно. Зачем же наказывать так долго и… тягомотно? Все-таки, как ни крути, но Господь Бог – удивительная зануда и иезуит! Ведь вроде бы все хорошо, так, как хотелось когда-то: он богат, женат на удивительной женщине, у них есть сын, дом – полная чаша, рабочие его уважают… Ну что бы ко всему этому еще не дать хоть немного покоя… И пусть бы забирал все это излишнее, шальное богатство, высосанное могучим Гордеевым из тощей груди этой сумрачной земли, где вместо яблок родятся шишки, а вместо веселых песен – тоскливые напевы острожников и каторжан… Когда-то, в далекой юности, самой страшной судьбой казалось прозябание в родном приволжском городке, пыль и скука провинции, занесенные снегом окошки и карты зимой, вишневое варенье летом, служба в нарукавниках, сидение в гамаке с газетой, послеполуденная дрема под плетеной шляпой… Лучше вообще не жить, чем так!… И что ж теперь? Кажется, что не так уж все это и ужасно? Пожалуй, что так… Обязанности на службе определены раз и навсегда. Один-два-три раза за жизнь следует ждать повышения и соответственного ему увеличения жалованья. Портреты Чернышевского и Добролюбова в дубовых рамках можно протереть от мушиных какашек и, как и папенька когда-то, воображать себя либералом или демократом по выбору. Для развлечения устраивать любительские спектакли…
– …А главная-то новость: замуж Софья пошла и ребеночка родила!
– Как, вот так сразу: замуж и ребеночка? – удивилась Марья Ивановна.
Старуха неодобрительно пожевала губами, соображая, как разъяснить возникший вопрос.
– Ну, надо думать, она Вере не писала долго, ждала, чтоб от бремени разрешиться, а после и о свадьбе сообщила. Должно, забеременела сразу после венчания…
– Или до венчания… – задумчиво заметил Дмитрий Михайлович.
– Митя! Как тебе не стыдно! – воскликнула жена. – Ты же знаешь: Софи не такая!
– Да уж я-то знаю… – пробормотал он.
Марфа, про которую позабыли, пристукнула об пол клюкой. Там, где она находилась, слушать должны были ее. Таков порядок. Где нет порядка, там гуляют бесы – это Марфа Парфеновна знала доподлинно.
– Муж Софьи – помещик и дворянин, естественно, – продолжала она, вернув себе внимание племянницы и ее мужа. – Еще этот, который стишки пишет, забыла как называется….
– Поэт? – скорчив гримасу, уточнил Дмитрий Михайлович.
Представить себе Софи Домогатскую, рациональную и однозначную, как обнаженный клинок, замужем за каким-то усадебным поэтом, совершенно не получалось. Что-то здесь нечисто… Да и что может быть чисто рядом с Софи?
– Точно – поэт. Стишки в журналах печатает. Это Вере особенно понравилось. А родился мальчишечка, назвали Павлом, видать, в честь Софьиного отца…
«Который застрелился из-за долгов, – мысленно продолжил мужчина. – Да, в этом вся Софи: назвать первенца именем проигравшегося самоубийцы… Ничего не боится! Сам черт ей не брат!»
– Ну что ж, я за Софи рада, – медленно произнесла Марья Ивановна, сплетая и снова расплетая пальцы. – Надо будет, пожалуй, написать ей, поздравить…
– Машенька, зачем?! Не надо! Что ей до нас?!! – какая-то излишняя эмоциональность в голосе мужа заставила Марью Ивановну пристально взглянуть ему в лицо и дождаться, когда он сам отведет взгляд.
– Ей до нас – не знаю. А я – так хочу, – утвердила Мария Ивановна.
Марфа, кряхтя, поднялась.
– Пойду, засиделась с вами, хозяйство ждет…
Когда мерное постукивание клюки уже стихло внизу, а сгорбленная Марфина фигура показалась во дворе, супруги все еще молчали. Чтобы нарушить это тягостное состояние, Дмитрий Михайлович спросил первое пришедшее на ум:
– Отчего ж Марфа Парфеновна в монастырь не идет? Уж так ей хотелось, когда Иван Парфенович был жив, а теперь столько лет…
Машенька легко рассмеялась:
– Да не уйдет она никуда, неужто еще не понял! Она ж и посейчас уверена, что все на ней одной и держится. Как нас без пригляда оставить? Мы ж в ее глазах – неразумные, без ее наставлений пропадем вмиг…
Совсем иные, легкие и торопливые шаги внезапным дождиком простучали по ступенькам, и девушка, которую невысокий рост делал похожей на ребенка, вбежала в комнату вместе с облачком окружавшей ее тревоги.
– Машенька! Машенька! Сделай хоть ты, или посоветуй! Я уж не знаю, к кому кинуться! Пропала, совсем пропала!
– Любочка, здравствуй! – Марья Ивановна вполне спокойно приветствовала Любочку Златовратскую, свою двоюродную сестру. Любочкина склонность к истерикам была давно всем известна и никаких особых чувств не вызывала. – Что ж у тебя теперь приключилось?
– Да не у меня! – Любочка с досадой топнула ножкой.
Весь ее куний облик можно было бы счесть вполне привлекательным, если бы не две досадные оплошности природы: слишком узкий лобик и крайне густые, широкие и темные брови, похожие на двух расползающихся в разные стороны грибных слизняков. Все прочее было без изъянов, особенно же хорошо удались губки – в меру капризные, с красивым чувственным изломом.
– Надя у нас в тайге! Вторая неделя пошла!
– И что ж? – не поняла Марья Ивановна. – Надя всегда по осени в тайгу ходит, какие-то корешки копает. Живет в зимовье…
– Да разбойники ж там напали! Черный Атаман! Неужто не слыхали?! Там именно, где она… – Любочка сморщила нос и заплакала мелким прозрачным горохом. – Всех убили! Вдруг и Надю то-оже…!
– Подожди реветь, Люба! Повода нет! – с досадой сказал Дмитрий Михайлович, но тревожная морщина все же прорезала его чистый лоб. Оглянувшись на жену, он понял, что и та не осталась спокойной после любочкиного заявления. Помолчав, он заговорил снова, убеждая не только свояченицу, но и себя. – Надя – опытный лесовик, тайгу как свои пять пальцев знает, ходит не по трактам, а по тропам, собирает свои корешки в каких-то заповедных местах. К чему ей разбойники? Как ей с ними повстречаться?
– Не знаю! – Любочка снова топнула ногой. – А вдруг?! Варвара должна ее еще через неделю забрать, такой уговор, я к ней побежала, прошу: поезжай сейчас, а она только смеется! Она знает что-то…
– Варвара, Алеши дочь? Знает – про кого? Про Надю?
– Да про разбойников же! – крикнула Любочка. – Нипочем не хочет раньше ехать. Каденька со своей амбулаторией дурацкой, Аглае на всех плевать, только бы ее не трогали. Папа вроде взволновался, но… ты ж понимаешь, Машенька! Папа в тайге это… это как бухгалтер в римском легионе! Я бы сама поехала, да зимовье не найду. Элайджа может, наверное, найти, ей лес – отчизна, да я с ней договориться не сумела, совсем не разбираю, чего она бормочет… Машенька! Митя! Сделайте что-нибудь!
– Митя, ты знаешь, где это зимовье, в котором Надя живет? – Машенька оборотилась к мужу.
– Нет, откуда мне! Я думаю, что следует все же подождать. Что мы нынче изменим? Варвара сейчас в городе? Поедет за ней?
– Да, Наденька своих корешков две корзины на зиму набирает, да еще мешок, и к тракту по частям приносит. Там они их грузят на телегу и в Егорьевск везут. А потом часть Каденьке в амбулаторию идет, а часть она с собой, в Екатеринбург увозит.
– Ну вот и ладно, – утвердил Дмитрий Михайлович. – На Варвару, как и на Алешу, все знают, давить бесполезно. Она будет улыбаться, кивать, а сделает все равно по-своему. Надо дождаться, как она поедет, да на всякий случай чтоб кто-нибудь из мужчин с ней был…
– Варька мужиков не возьмет! – решительно возразила Любочка. – Она всегда одна ездит. Я с ней поеду, она мне уж обещала.
– С тебя-то, с воробья, проку! – усмехнулась Марья Ивановна.
Любочка вспыхнула злым пятнистым румянцем, но отчего-то промолчала, хотя это было и не в ее обычае. Как все истерики, Любочка любила, чтоб последнее слово всегда оставалось за ней.
Поразмыслив над чем-то и пожевав губами, Марфа Парфеновна направилась в боковой флигелек, который примостился за задах у самой ограды. Не без труда взошла на низенькое крыльцо, распахнула скрипучую дверь.
– Тиша, ты тут ли?
– Марфуша! Вот хорошо! Петушка принесла? – ветхий седенький старичок поднялся навстречу Марфе из-за стола, усыпанного свежими опилками и обрезками дерева.
– Да принесла, принесла! – ворчливо отозвалась старуха и вынула откуда-то большой красный леденец. Старик тут же содрал обертку и сунул гостинец за щеку.
– Ох, Марфушенька, уважила! – неразборчиво пробормотал он и, засуетившись, принялся устраивать гостью.
Подвинул ей широкий табурет, подложил плоскую подушечку, усадил, такую же подушечку кинул на пол и, проворно согнувшись, пристроил на нее Марфины босые ступни (калоши старуха привычно скинула при входе).
– Я уж заране знал, что ты идешь, – сказал он, доставая из-за щеки леденец и оглядывая его: много ль осталось?
– Врешь, Тишка, я с другой стороны шла, ты в окно видеть не мог!
– Видеть не мог, – покладисто согласился старичок. – А слышать – пожалуйста. Ключочка твоя – тюк, тюк, тюк, а я и рад – Марфуша идет, гостинца несет…
– Только за гостинцы и рад? – желчно поинтересовалась старуха.
– Отчего ж обижаешься? – удивился Тихон. – Сидим хорошо, разговариваем. Ты рассказывай, рассказывай. Я понять-то не могу, но послушать всегда в радость. А я вот тут пока мельничку слажу…
Склонившись над столом, он принялся собирать и насаживать искусно вырезанные крылья маленькой, игрушечной мельницы. Руки старика сновали проворно, но голова мелко подрагивала на высохшей шее. Марфа молчала, вспоминая.
Тихон и Марфа были знакомы с детства, выросли в одной деревне. С юности статная красавица Марфа слыла недотрогой, всех ухажеров гнала метлой, и ждала не понять какой судьбы. Тихона же семья, да и все деревенские считали слабым умом. Он пас скот да вырезал из дерева свистульки, дудочки, медвежат и прочие игрушки. Дети и животные его любили, а прочие – не замечали. Марфа же безобидного Тишу вроде как привечала, иногда о чем-то беседовала с ним. Он ей дарил свои дудочки и бывало, на закате, когда стадо шло домой, украшал ее косы саморучно сплетенными венками.
Шли годы и Марфу уж считали перестарком, попрекали гонором и характером, которые сами по себе переломили ее женскую судьбу. Однажды в деревню приехал Иван, невиданно разбогатевший младший брат Марфы, и позвал сестру к себе, в Егорьевск. «Хватит, Марфа, победовала. Ты у меня одна кровная осталась. Поедешь со мной, будешь теперь жить в богатом дому, ни в чем отказа не знать». Преждевременно увядшие от ежегодных беременностей и домашних хлопот Марфины подружки обмерли от зависти. «Вот ведь повезло этой высокомерной гордячке! И богатство, и почет, и в город переехать. И все – даром!»
Но Марфа Гордеева опять удивила деревню. Неожиданно для всех и в первую очередь для брата она заявила, что хочет замуж за Тихона. А приезд разбогатевшего Ивана как раз уместен, он ее за Тихона и сосватает. Чего ж боле ждать?
Иван Гордеев сначала не поверил услышанному, а после впал в тяжелую ярость. Как?! Променять все его грядущие благодеяния на нищую жизнь со слюнявым дурачком Тишкой, у которого в кармане – вошь на аркане?!
Либо со мной в Егорьевск, либо за Тихона замуж.
За Тихона! – решила Марфа.
Двое Гордеевых – высокие, статные, сильные – таежными зверями глядели друг на друга. Одна кровь. Никто не мог победить.
– Тихон решит! – буркнул Гордеев, сгреб пастушка в охапку, кинул в тарантас и повез кататься.
О чем они тогда говорили, никто так и не узнал. Наутро Тиша принес своей возлюбленной последний венок и маленькую игрушечку на память. «Езжай с ним, Марфа, – сказал он. – Прав Иван: со мной тебе счастья не видать. У меня денег нет и не будет. Хозяйство вести не могу. Да и умом не удался. То, что ты мне говоришь, понимаю с пятого на десятое… Ты – чудо земное, разве тебе такой нужен?»
«Отказываешься от меня, Тиша?» – строго спросила Марфа.
Тихон заплакал и молча кивнул.
Сборы были недолгими и к вечеру Гордеевы навсегда уехали из родной деревни. В небольшом катуле марфиных вещей («не бери это тряпье, я тебе все новое куплю!» – уговаривал сестру выбившийся в люди младший брат.) пряталась детская игрушка – маленькая, лобастая росомаха сидела, расставив передние лапы и вглядываясь в кого-то сурово и вопрошающе. Сходство зверька с Марфой было просто разительным.
Спустя год после смерти Ивана Парфеновича Марфа отправилась на богомолье. На обратном пути велела везти ее в родную деревню. Темной тенью ходила по единственной грязной улице, сидела на крутом речном берегу под кривой, уцелевшей со старых времен сосной. Сверстники почти все поумирали. Молодые смотрели на черную старуху со страхом. Однако указали полуразвалившуюся избушку, в которой доживал век старый пастух Тихон. В избе не было никакой еды и ни одной целой посудины. В лохмотьях Тиши ползали насекомые. На столе лежали три аккуратные беленькие дудочки. Не узнав гостей, Тиша хвалил им чистый голос одной из них, предлагал купить, а если денег нет, так и так взять – в подарок. Марфа деловито сторговала все три дудочки за два рубля и, договорившись в деревне, отправила Тихона в баню. Распаренный, переодетый в чистое и накормленный старичок признал в Марфе прежнюю сударушку и заплакал чистыми, печальными слезами.
– Поедешь со мной теперь, Тиша? – спросила Марфа, предвидя отказ. – Брат мой, Иван, помнишь его? Так он о том годе преставился…
– Поеду, Марфуша, – неожиданно ответил Тихон. – Брата нет, теперь тебе и я нужен буду…
Только непомерная гордыня, смолоду и на всю жизнь присущая Марфе Парфеновне, удержала ее от слез. Шагнув к старичку, она подняла его высохшую руку и поцеловала в ладонь.
Поселившись в усадьбе Гордеевых, Тихон ни дня не бездельничал. Положил тощую котомку на лавку и сразу попросился работать по дереву. Мефодий, старший над слугами, но плотник по изначальному обеспечению судьбы, быстро снабдил старичка потребным материалом и инструментом. Теперь Тихон все светлое время сидел у окошка и, мурлыкая себе под нос, резал и собирал замысловатые игрушки – мельнички, медведей с пилой, зверюшек и кукол с движущимися руками и ногами. Побывав с Мефодием на прииске, две недели кумекал и к удивлению всех собрал-таки действующую модель золотопромывальной машины-бочки с водяным приводом, в которую можно было даже засыпать песок. Игрушки свои Тихон охотно дарил всем желающим (от желающих, понятно, не было отбою, но, согласно Марфиному распоряжению, преимущественным правом пользовались внуки Гордеева и дети Веры Михайловой). Сама Марфа обычно приходила в Тишину сторожку к вечеру, когда темнело, и он уже не мог работать (свечей и лампу Тихон не зажигал, привычно считая непомерным расходом). Рассказывала обо всем, что случилось за эти долгие годы с ней и вокруг нее, силилась понять, объяснить не то Тише, а скорее – себе. Тихон слушал смирно, сложив на коленях натруженные руки, наслаждаясь, пил чай с сахаром и баранками и – впервые в жизни – кофей. Спрашивал редко. Понимал ли четверть – Бог весть. Но Марфе и того было довольно – впервые в жизни она говорила о себе. Впервые в жизни (после той, далекой и призрачной, молодой поры) у нее был слушатель, которому она могла поведать обо всех своих победах и поражениях, сомнениях и страхах. Тихон действительно был нужен ей. Теперь это отчетливо понимал не только он сам, но и Марфа. Синими сибирскими вечерами два очень старых человека совместно творили что-то такое, что, приглядись кто повнимательнее, вполне мог бы назвать счастьем. Но приглядываться было некому. У всех вокруг кипели свои, очень важные, нужные и непременно спешные дела.
Глава 4
В которой Надя Коронина и Андрей Измайлов весьма близко узнают друг друга, а читатель знакомится с историей, которая случилась в Егорьевске несколько лет назад
Неожиданно в середине дня ей вдруг захотелось, чтоб он увидел ее обнаженной. Только что прошел дождь, снова выглянуло солнце и опавшие листья блестели от воды. Желтые свечки лиственниц отливали золотом, темные, почти черные ели горели угрюмым сланцевым блеском.
Надя развела в очаге большой огонь, половчее развесила связки корешков и пучки трав. Снарядила котел с водой, чтоб после сделать ему перевязку.
– Жарко, – пожаловался Измайлов.
– Сейчас дверь открою, – сказала Надя. – А вы – в окно смотрите.
Прямо на улице сбросила одежду, чувяки, белье, подняла руки и босиком закружилась по мокрым скользким листьям. Его взгляд плавил мутное стекло и это было приятно. Стыда не было совсем. Ей казалось, что она, наконец, достала платье от хорошего портного, которое много лет висело в гардеробе и не использовалось по назначению. С веток летели ледяные капли и охлаждали разгоряченную кожу.
С охапкой одежды вошла обратно в зимовье. Нагретые щербатые доски пола приятно массировали ступни. Измайлов смотрел с лежанки серьезными, темными глазами. Она поняла, что с ним никогда не будет легко. Вздохнула с сожалением и приняла, как есть.
– Ваш муж?… – спросил он.
– Мой муж, Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, – бывший член Народной Воли, – покорно объяснила Надя, оставив одежду на полу и завернувшись в какую-то пыльную попонку. – Ссыльный. Ученый, когда-то в Санкт-Петербургском университете изучал многощетинковых червей. Потом вступил в кружок, увлекся идеями, борьбой за народное дело… Вы, наверное, лучше меня знаете, как это бывает… – Измайлов кивнул, подтверждая: знаю, мол, как же не знать!
– Раньше он жил на поселении в Егорьевске, здесь мы и познакомились. У нас все образованные люди наперечет, а он и среди них выделялся. Крупнее его только Гордеев был, да, может, еще Матвей Александрович… Ипполит Михайлович много рассказывал мне, из естественных наук, о положении народа. Тут я, наверное, не меньше его знала, но он разъяснить умел, что да почему… В общем, когда ему позволили в Екатеринбург перебраться, я с ним поехала, поступила там на курсы… Мы стали вместе жить, а потом на Пасху поженились, три года уж прошло…
– Что ж Ипполит Михайлович и в Екатеринбурге какую-то работу ведет? – осведомился Измайлов. Лицо его показалось Наде холодным и отчужденным. Она заторопилась с ответом.
– Конечно! Конечно! Я не все знаю, да и конспирация у них, но… Там собрания регулярно бывают, журнал рукописный, читают статьи, которые товарищи из России присылают. В прошлом году организовали побег из Тобольского централа…
– Довольно! – Измайлов поднял руку, словно заслоняясь от Надиных слов. – Я понял. И что же вы… вы, Надя, конечно, целиком и полностью разделяете убеждения вашего мужа?
Надя нахмурила густые брови и провела рукой по лицу, словно снимая налипшую паутину. Видно было, что ответ не дается ей попросту.
– Отчего-то мне хочется ответить вам, не соврав, – медленно сказала она. – А это трудно. Я, вы уж поняли, давно медициной увлечена. С самого детства. В этом видела и вижу свое предназначение…
– А семья? Дети? – быстро переспросил Измайлов.
Он уже сталкивался с подобной позицией у женского пола, правда, она была никак не связана с медициной. Те женщины-товарищи, из его молодости, пугали его даже тогда, когда он сам был нешуточно увлечен романтикой борьбы. Горячась и дымя папиросами ему в лицо, молодые революционерки упрекали его в ригидности, консерватизме, непонимании момента и пристрастии к женскому неравноправию. Он соглашался скрепя сердце, но в глубине души все-таки считал, что изготовление бомб, теракты, тюрьмы и всякая другая подпольная, сопряженная с риском и опасностью деятельность – сугубо мужское дело.
– Детей у нас пока нет, – ответила Надя и опустила голову. – Может, я бесплодна, может быть, Ипполит… А может, просто время не пришло…
– Простите меня, – он вдруг почувствовал себя жестоким и бестактным. Она спасла ему жизнь как раз благодаря своему давнему и серьезному пристрастию к медицине. Она стояла перед ним босиком, практически голая, завернувшись в какую-то нелепую накидку. Она молода и привлекательна. Ее муж, ссыльный Петропавловский-Коронин, наверняка – бирюк и зануда. А он устроил ей форменный допрос, как в крепости…
– И вы простите меня, Андрей Андреевич. Мне легко с вами говорить и вдруг пошалить захотелось, а это в моем и вашем положении… невместно…
– Отчего ж невместно пошалить? – он приказывал себе замолчать, но язык, все тело не подчинялось приказам. – Всегда серьезным не будешь. Только надобно нам с вами сейчас уточнить, чтобы после конфуза не случилось. Вы чего ж из шалости желаете: наставить теперь господину Коронину рога или просто… покрасоваться собой перед немощным инвалидом, как дамы перед зеркалом в драгоценностях вертятся?
Он так быстро, точно и окончательно понял ее, что Надя, наконец, смутилась и впервые увидела всю ситуацию как бы со стороны. Тихонечко взвизгнув, подхватила одежду и выбежала из зимовья, на пороге обронив попонку, в которую завернулась на время разговора.
Измайлов грустно улыбнулся и принялся ждать. Что ему еще оставалось? По правилам игры надо было бы теперь побежать за ней, догнать, облапить, целовать мокрое лицо и острые, торчащие груди, но – увы! – на это у него еще не было сил.
Надя вернулась к вечеру. Полностью одетая, серьезная, отчужденная.
– Надобно вас перевязать.
Измайлов поморщился, но кивнул согласно.
Во время перевязки она старалась поменьше прикасаться к нему. В ее движениях не было прежней ласки. Он это чувствовал и кусал губы от боли и досады.
Лежанка в зимовье была одна и довольно узкая. Он боялся, что она уйдет спать в угол, подстелив шкуры и одеяло. Но, молча поужинав, они легли, как и в прежние ночи – валетом, голова к ногам. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, Измайлов осторожно просунул руку под одеяло и погладил ее крутые икры и маленькие ступни. Надя замерла, ему показалось, что даже едва слышное дыхание исчезло. Он подождал еще. Она молчала, но не противилась ласке. Он ласкал ее долго и нежно. Один раз она тихонько застонала сквозь зубы и в ее стоне ему послышалось удивление. Он мысленно, но довольно крепко высказался в адрес народовольца Коронина. В конце концов, она подобрала ноги и села на лежанке. Он видел ее черный, сгорбленный силуэт.
– Вы на меня не сердитесь, Андрей Андреевич? Не презираете меня?
– Нет, конечно, маленькая, как ты подумать могла?! – прошептал Измайлов. – Ты такая красивая была там, на полянке, дикая, на коже – золотые отблески. Я даже на секунду подумал, что это ты так шаманишь, чтобы меня побыстрее вылечить.
– Правда?
– Истинная правда. На такую красоту только взглянуть – лучше всякого лекарства.
Она всхлипнула, быстро и ловко перевернулась и юркнула в его объятия. Он прижал ее к себе и крепко поцеловал в холодные, соленые губы. Она неумело ответила на поцелуй, а спустя несколько минут уже спала, расслабившись и тесно прижавшись к нему. Измайлов смотрел в окно и механически гладил ее жесткие короткие волосы.
Наутро они проснулись так, как будто знали друг друга всю жизнь. Готовя завтрак и утреннее питье для больного, Надя фальшиво напевала и пританцовывала. То, что ее репертуар наполовину состоял из колодных и острожных песен, смешило Измайлова чрезвычайно.
Во время еды и собираясь в лес за очередной порцией корешков она все время старалась как бы ненароком коснуться его – плечом, рукой, щекой. Он ловил ее за руку и целовал и брал в рот по очереди грубые маленькие пальчики.
– Не тронь, грязные! – с испугом говорила она.
Она умывалась, но под ногтями у нее была въевшаяся грязь все от тех же корешков.
Стремление уяснить все до конца всегда мешало ему жить, и портило даже самые лучшие моменты. Его вопрос остановил ее на пороге.
– Ты ведь никогда не оставишь своего Коронина, так?
Она обернулась и опустила мешок. Маленькая лопатка тихонько звякнула внутри. Лицо ее казалось разом потухшим, и ему захотелось сползти с лежанки, опуститься на колени, просить прощения и целовать ее ноги, которые он так долго ласкал минувшей ночью. Но что толку просить прощения за то, что ты такой, какой есть? Это все равно ничего не изменит…
– Так. Ты правильно понял, – Надя помотала стриженной головой. – Я вижу: ты ругаешь себя, что спросил. Но ты правильно спросил. Лучше знать сейчас, пока мы еще не… Я уважаю его и, наверное, даже люблю. Он очень умный и несчастный. Хотя и думает, что счастливый. Он тоже уважает меня и во всем мне доверяет. Между народным делом и многощетинковыми червями для меня остается немного места, но большего мне никогда и не обещали. Ты понимаешь, Ипполит никогда не обманывал меня…
– Понимаю, – кивнул Измайлов. – Сам был таким. И черт бы побрал это народное дело вместе с многощетинковыми червями!
– Прости за все. Я понимаю, что теперь мы… ты… Ты не волнуйся! Я стану уходить надолго, а потом в углу спать. Через пять дней уж должна Варвара приехать. И… спасибо тебе! Ты даже представить себе не можешь… – она нагнулась за мешком, кожаные штаны плотно обтянули ее небольшие ягодицы.
– Оставь все и иди сюда! – властно сказал Измайлов.
Она взглянула на него глазами, полными слез и надежды. Он закусил губу, почувствовав какую-то странную ответственность. Совершенно абсурдную по только что выясненным обстоятельствам.
Надя присела на краешек лежанки. Он был еще слишком неловок и ограничен в движениях, чтобы раздеть ее. Совершенно по-деловому он сообщил ей об этом. Повинуясь его словам и взгляду, она сделала все сама. Ее тело было прохладным, плотным и упругим, как свежий, недавно вылезший грибок. От нее даже пахло только что вспаханной землей. Этот запах Измайлов помнил из детства. Ее ласки были похожи на случайные прикосновения воды и веток с листьями к разгоряченной коже. Он как будто бы бежал нагишом через мокрый весенний лес. В лицо ей он старался не смотреть. Она все время жмурилась и кусала губы, как будто он причинял ей боль. Он точно знал, что это не так, но все равно переживал и нервничал.
После она казалась растерянной. Он не понимал причины и старался лаской и нежностью утишить все, чтоб это ни было. По устройству характера ему хотелось расспросить ее немедля и поподробнее, но Измайлов волей давил в себе эту неуместную сейчас любознательность.
Три следующих дня были похожи на предыдущий. После завтрака Надя уходила-таки в лес, но возвращалась быстро, так, как это казалось ей приличным. Иногда она вовсе ничего не собирала, а просто сидела на берегу лесного пруда, заворожено глядела в его темную воду и ждала, когда можно будет идти назад. Он легко разгадывал ее уловки и они казались ему смешными и трогательными.
В физической любви она поначалу сторожилась его, и была на удивление неумелой для женщины, которая четвертый год замужем. Измайлову ее неумелость не мешала, он сам был достаточно опытен, чтобы разрешить все проблемы, тем более что Надя не стеснялась спрашивать и обучалась по видимости охотно.
Сам себя Измайлов считал мужчиной вполне тривиальных и консервативных взглядов и возможностей, и никаких преувеличенных да и вообще никаких амбиций относительно своих достоинств не имел.
Надя же чувствовала в нем удивительное. Он желал ее страстно и истинно по-мужски, и здесь она не могла ошибиться. После его «допроса» и первой близости они много и откровенно говорили обо всем на свете, в том числе и об отношениях с противоположным полом. Она знала, что за жизнь у него было всего две серьезные связи, и оба раза он собирался жениться. Брак не состоялся по вине женщин, одна из которых нашла более выгодную с материальной точки зрения партию, а вторая была суфражисткой по убеждениям и революционеркой по образу жизни, три года из 25 лет своей жизни провела в казематах Петропавловской крепости и вообще не собиралась выходить замуж. Напрямую она спросить не решилась, но Измайлов не производил впечатление человека, регулярно посещающего женщин легкого поведения или имеющего интрижку с собственной кухаркой. Сколько времени у него не было женщины? Месяц, полгода, год? Больше?
Итак, он желал ее, в то же время как бы оберегал от силы собственной страсти. Это странное, поистине чарующее для женщины сочетание просто сводило ее с ума. В буквальном смысле. Иногда ей, никогда в жизни не падавшей в обмороки, казалось, что в его объятиях она вот-вот потеряет сознание. Он же полагал, что она притворяется и добродушно бормотал: «Ну, будет, будет…»
После они, как уже упоминалось, говорили обо всем на свете. Она рассказывала ему о жизни в Егорьевске, о людях, с которыми ему предстоит встретиться и наладить отношения. Он слушал внимательно, борясь со сном, понимая, что это важно.
– А эта Варвара, которая за тобой приедет, она – что? Тоже от мужа и – свободна?
– Нет. Вот ты называешь меня дикой. Это не так. По сравнению с Варварой я – образец цивилизованности. Вот она – дикая и прекрасная. И не замужем. Отец пытался ее выдать, но она не далась. Проводит в тайге не месяц в году, как я, а без малого – полгода. Чего там делает, никто не знает. Даже я – лучшая подруга. Мне: «прости, не скажу», а обывателям: «колдую», чтоб боялись. Здесь она – в отца. Варвара – остячка. Ее отец, остяк Алеша, богатейший в здешних краях человек, он еще с Гордеевым покойным работал, а нынче с Верой, которая жена убитого инженера…
– Погоди, погоди, я запутался, – перебил Измайлов. – Жена инженера связана с остяком Алешей?
– Ну, Вера Матвею Александровичу не настоящая жена, конечно, они не женились, но все у нас так считают, и ребенок растет… Вообще-то Вера была горничная девочки из Петербурга, Софи, а когда Гордеев умер, а Матвея Александровича убили, она тут осталась…
– Ничего не понимаю, давай по порядку! – снова влез Измайлов. – Почему горничная – жена инженера? Как так может быть? Что за девочка из Петербурга? Куда она потом подевалась?
– Ну это, так сказать, демонология нашего городка. Фольклор, хотя и недавно образовавшийся.
– Расскажи. Я спал целый день, пока ты собирала траву, и теперь все равно не усну, да и должен же я знать, чтобы не попасть впросак, когда, наконец, окажусь там и встречусь со всеми героями воочию…
– Со всеми не выйдет. Иных уж нет, а те – далече…
– Все равно расскажи. Мне интересно.
– Ладно, слушай. Только учти, если заснешь в середине рассказа, как в прошлый раз, я обижусь не в шутку!
– Нет, нет! Смею, однако, надеяться, что нынешние демоны будут поинтересней самоедских, о которых ты рассказывала прошлый раз…
– Ты невозможен! Я тебя накажу и не дам ночью есть! – засмеялась Надя.
– Ты не будешь так жестока! К тому же тебя замучит профессиональная совесть. Ты доктор и знаешь, что выздоравливающим надо хорошо и много питаться. Так я слушаю внимательно…
– Развязка всех событий произошла лет семь… да, пожалуй, уж восемь лет назад. И началось все опять-таки с приезда инженера из Петербурга. Хотя нет, что я говорю, началось раньше. Тогдашний хозяин города и прииска – Иван Парфенович Гордеев, перенес сердечный приступ и узнал от врачей, что у него аневризма и, стало быть, он может умереть в любую минуту. Законных, уже взрослых детей у него было двое: Петр Иванович и Марья Ивановна, оба холостые и без всяких достойных перспектив. Петя, которому было уже под тридцать, – пил и балбесничал, Машенька, 23 лет, по нашим местам, считай, старая дева, хромала, молилась и собиралась в монастырь. Я эту диспозицию хорошо знаю, так как Иван Парфенович, можно сказать, нашей семье родственник. Маша с Петей мне двоюродные, а моя мать и Мария, Ивана Парфеновича покойная жена, были родными сестрами, она рано умерла и Каденьку Иван Парфенович, можно сказать, самолично вырастил.
– Каденьку? – переспросил Измайлов.
– Каденька – это моя и сестер матушка, Леокардия Власьевна Златовратская. Крестильное имя ее, конечно, Леокадия, но это она еще в детстве так придумала: Леокардия – львиное сердце. Так и стало. А Каденькой уж мы ее все зовем. Чужие люди удивляются, что мать – по имени, а нам всем так удобно – так что ж. Каденька у нас передовых взглядов, эмансипэ, как я, в молодости радикалка была, теперь-то помягчела слегка, хотя… Ну это вы сами увидите… И вот Иван Парфенович в таком разрезе совершенно не знал, кому оставить дело…
– А что ж у него за дело было?
– Прииск «Мария» в честь жены, еще два небольших, подряды, рыболовные пески – всего-то и не упомню, я – человек неделовой, да и зачем мне? А он-то сам из крестьян, все – своим горбом да руками. Матерый человек был, сильный, выломился из своего слоя за облака, и где-то надломился, видать… И вот придумал он такую штуку: выписать из Петербурга управляющего на прииск, да с тайным условием – жениться на его хромоногой Машеньке, да в придачу всю Гордеевскую империю после его смерти и получить. Кто-нито да польстится, так он рассуждал. Так и вышло. Приехал из Петербурга молодой да пригожий инженер Дмитрий Михайлович Опалинский. А по дороге на него и карету разбойники напали, да всех и поубивали…
– Да брось ты! – усмехнулся Измайлов. – Это что ж у вас, в обычае что ли – инженеров приезжих убивать?
– Ты дальше слушай, – усмехнулась в ответ Надя. – Дальше краше будет… В общем, остался тот инженер жив и даже относительно невредим (не тебе чета!), очнулся и пошел по тракту. Пришел в Егорьевск. Стал работать на Гордеева. А про уговор с Машенькой то ли позабыл, то ли решил – обойдется… Ну вообще-то его разбойники по голове стукнули, почитай целый день без памяти лежал, всякое по такому случаю могло произойти…
– А что ж Машенька-то? Она знала ли, что ей папаша жениха прикупил?
– Ничего она не знала, что ты! От нее-то в первую голову и скрывали! Машенька, она тогда была… ну, цветок оранжерейный – так правильно будет. Молилась все, к владыке чуть ли не через день бегала и про монастырь талдычила. Тут, правда, ее еще тетка направляла – Марфа Парфеновна, Ивана Гордеева сестра, она у них после смерти Марии хозяйство вела и Машеньку, почитай, вырастила. Куда, объясняла, хромоножке дорога? – Только в монастырь. И я, мол, с тобой двинусь. Это у нее самой много лет такая мечта была.
– Что ж, ушла Марфа Парфеновна?
– Да нет, что ты! На том же месте тетенька Марфа сидит, всех веником гоняет. Скрючило ее только от старости, но ничего – бегает еще, на клюку опирается… А у нас, надобно тебе знать, был уже тогда на прииске свой инженер – Матвей Александрович Печинога. Голова у него была светлая, а внешность – только детей пугать.
– Это отчего же? Покалечился где?
– Да нет, уродился таким. Жил анахоретом, с котом и собакой, с женщинами не знался. Людей не понимал совершенно, сам никогда ни копейки на золоте не украл и другим не давал. Работал день и ночь и от других того же требовал. Пьяниц на дух не выносил. Сам понимаешь, ненавидели его все без разбору.
– За что же ненавидели? Уважать должны. Специалист и честен. Неужели за внешность?
– Андрюша, ты вправду дурак или прикидываешься? Не человеческий он был. Совершенно. Я девчонкой была, но помню хорошо. Даже рядом с ним молча стоять – и то неловко. Страшный, огромный, без друзей-приятелей и без недостатков. Все время носил с собой тетрадь и что-то в нее записывал. Никто не знал – что, рабочие думали – штрафы, но я полагаю, что-то еще. Жутко. Как будто из другого мира посланный. Зачем? Понимаешь?
– Ну, я его не знал…
– Может, тебе и приглянулся бы… Но вряд ли, ты на вид – обычный человек, без этого… Значит, Матвей Александрович. Жил он себе, жил и полагал, что место управляющего прииском – его по праву. Кто лучше его в горном деле разбирается? Кто работает больше? Кто прииск лучше своей ладони знает? Никто. А тут приезжает из Петербурга какой-то никому неизвестный хлыщ, и Гордеев ему – все на блюдечке подносит.
– А чего ж Гордеев Машеньку-то за этого Печиногу не сосватал? Все бы разом и уложилось…
– Господи, Андрей! Да ты представить себе не можешь – это же ужас какой-то был, и не улыбается никогда. Ну вот алтайских каменных баб видел? Матвея Александровича портрет в лучшие годы – один в один!
– Да, не повезло мужику. И что ж дальше было?
– Понятно, что Печинога Опалинского сразу невзлюбил. Тот уж и так, и этак к нему, ан нет – нипочем не идет. Тому и досадно. Он вообще такой, Опалинский, – нравиться любил всем, почитай, без разбору. С рабочими заигрывал. Ухаживал сразу и за мной, и за сестрами моими, и вообще за всеми юбками, кто попадется. Бывают, знаешь, такие люди – хочу, чтоб меня все любили, и все тут. Не из корысти даже, а так – на всякий случай, по зову души. Всеобщий угодник… Гордеев, понятно, на все это смотрел с удивлением. Когда же свадьба? А Машенька-то, скромница, возьми и влюбись по-настоящему.
– В кого, в инженера?
– Ну конечно, в кого ж еще? Впрочем, у нее тут как раз и еще один кавалер образовался. Это уж вообще, совсем циничный расчет был. Николаша Полушкин.
– Кто таков?
– Престранная личность. Он после всего исчез, так что его уж не повидаешь. Зато родители его и брат младший туточки. Маменька их, Евпраксия Александровна, московская дворянка, отчего-то вышла замуж за подрядчика местного, Викентия Савельевича Полушкина. Гонор в ней так дворянский и остался, да и Николаша уродился…. ну, право не знаю, в кого, но уж не в Викентия Савельевича – это точно. Николашу Евпраксия Александровна любила безмерно, а младшего сына, Василия, как бы и не замечала вовсе. А Вася, между прочим, преинтересный юноша был. Наблюдения делал за природой, записи вел, Ипполит Михайлович его заметки над муравьями даже в Петербург посылал… Многие тогда Васю дурачком считали, да после передумали… А Николаша был себе на уме, с Петей Гордеевым как бы дружил, но если с кем и откровенничал, так это с матушкой, как бы странно не звучало. А Машенька Гордеева еще, почитай, в детстве на Николашу заглядывалась, а он тогда на малышку-хромоножку… Ну ты сам понимаешь. После-то изменилось все. Петя ему, должно быть, разболтал про отцову болезнь, ну вот Николаша с матушкой, видать, и рассудили: женится Николаша на Машеньке, Петю окончательно споит, вот все денежки и его. И работать, как на отца, не надо.
Ежели бы им пораньше решить, так, может, все и прошло бы, как они задумали. Но уж тогда-то у Машеньки сердце занято было, и Николаше – невместно.
Николаша был ловелас, а у Пети, хоть и в годах, – никого. Что ж такое? Потом оказалось, он тайно любил Элайджу, еврейку, трактирщиков Розы и Самсона дочь. Она уж тогда от него ребенка ждала, а Илья, это ее брат, в Петю стрелял.
– Зачем же стрелять? – удивился Измайлов. – Что он разрешить хотел?
– Да ничего, просто с отчаяния. Элайджа, она… Ну, если по-русски рассудить, то это называется юродивая. Не глупая и не больная, просто… другая, понимаешь? Кто-нибудь может быть даже сказал бы: святая. Если б не еврейка, впрочем, Петя ее потом, кажется, крестил… Трактирщики ее от всех прятали, только в лес возили погулять… Она по-русски и сейчас плохо говорит, зверей, птиц, даже траву ей понять легче… В общем, как они с Петей сошлись, этого понять нельзя. Зато каждому понятно, что никогда Иван Парфенович Пете бы жениться на ней не разрешил. Мало в дому блажных…
Николаша на том с Петей и сыграл. В самом общем так: вот отец помрет, вы с Машкой будете всему хозяева. Я на Машке женюсь и все дела на себя приму, а ты – Элайджу за себя возьмешь. А к Печиноге Николаша по-другому подъехал. Вот, мол, вы Ивану Гордееву столько лет верой и правдой служили, как пес, а он вас побоку, и какого-то выскочку из Петербурга к себе под бочок… Да и моему с Машенькой счастью – преграда… А как не станет Гордеева, да я на Маше женюсь, сразу выскочку – вон, а вы – всему производству хозяин. Я и мешаться не стану, потому что не понимаю в золотодобыче ничего…
Да все бы, может, так и стало, но тут Гордеев с Опалинским уехали в Екатеринбург, оборудование заграничное получать, а в Егорьевск явилась та самая девочка из Петербурга с горничной – Софья Павловна Домогатская.
– Как, ты сказала, ее звать? – неожиданно встрепенулся Измайлов, задремавший было под рассказ о кознях Николая Полушкина. – Ну-ка, повтори!
– Софья Павловна. Для своих – Софи.
– Правильно, Софи. А сколько ж ей тогда было лет? – спросил Измайлов, явно что-то подсчитывая в уме.
– Да совсем ничего – она ж моложе меня. Шестнадцать – около того. А отчего ты спрашиваешь, Андрей? Ты что, разве знаешь ее?
– Да вот, прикидываю. Роман «Сибирская любовь» – это не она ли писала?
– А, ты читал?! Так ты тогда все про нас знаешь! Там же узнать всех легко.
– Да я такого чтения не любитель, – невнятно отговорился Измайлов. – Помню смутно, только хвосты. Ты уж расскажи, чем там кончилось-то…
– Софи сама нам роман не прислала, постеснялась, что ли, хотя на нее это и не похоже. Метеоролог наш…. после уж в Петербург по научным делам ездил, вот он и прикупил. Привез, в дороге прочел. Как стал рассказывать, да хохотать (его-то там, в романе, не было, он в то время на Лене пробы какие-то собирал), так у него книгу отобрали, да больше он ее не видал. Веришь, в две недели до дыр зачитали! Каждый себя искал. И вправду, умора, как она все перевернула. Вера только одна не дивилась, думаю, ей Софи и раньше как-то передала, да только она никому говорить не стала. Из Веры Михайловой лишнее слово клещами тащить… Но мне-то понравилось, особенно папенька наш хорошо вышел, как он все из латыни говорит, и Матвей Александрович с Верой. Про меня там мало, ты, должно, и не помнишь…
– Но погоди, там ведь какая-то путаница с бумагами была. У этого, приезжего инженера, и того, ее жениха, который погиб…
– Ну это она, понятно, для красоты придумала. Чтоб завлекательней для читателя. Жених ее тогда погибшим считался, но… вот ведь подумай, как жизнь-то оборачивается! Врешь, врешь, да ненароком и правду соврешь. Выжил он!
– Так и у нее в романе – выжил! Она знала! Я так тебе и говорил!
– Да что ты говорил! – Надя досадливо махнула рукой и двинулась на лежанке. – Дубравин и появился-то первый раз через год после того, как она в свой Петербург отъехала. И где? Кем?
– Кем? – эхом повторил Измайлов.






