Красная тетрадь Мурашова Екатерина
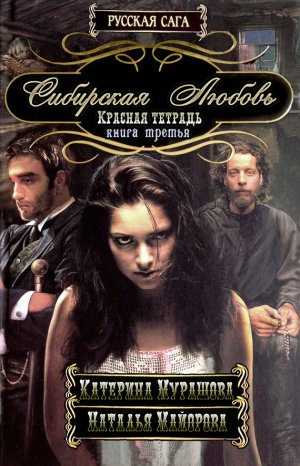
– Да ты ведь, голубчик Андрей Андреич, и его знаешь! – усмехнулась Надя.
– Кого? Дубравина? Откуда?
– Помнишь главаря шайки, которая тебя добить не сумела? Сергей Алексеевич?
– Это… он?!
– Точно, он. Сергей Алексеевич Дубравин собственной персоной.
– С ума сойти! – искренне воскликнул Измайлов. – А как же так вышло? Ты знаешь?
– Ну, здесь я только догадываться могу. Скорее всего, его во время нападения ранили, а камердинер его, Никанор, его где-то припрятал, а сам взял сторону разбойников. Потом уж они вдвоем… Никанор-то все по Вере сох…
– Той самой Вере? Которая с инженером и горничная Софи? Что ж она им всем?
– Той самой. Ее ты еще повидаешь и, гляди, сам… – Надя добродушно улыбнулась, но где-то в глубине ее темных глаз мелькнули язычки пламени. – Сам не присохни…
– Что ж? Такая удивительная женщина? – невозмутимо уточнил Измайлов. – Красавица? Умница?
– Да уж поумнее иного мужика будет. Увидишь, – Надя решительно закрыла тему, а Измайлов сделал себе в памяти зарубку. – Значит, Софи. Она с самого начала стала во все влезать и всех тормошить. А уж любовные-то истории, которые у нас тут замотались… Как так, без ее участия?! И не сказать, чтоб она была умна как-то, или красива. Говорила она – это да, это уж тогда заметить можно было! Этот невозможный стиль, в котором юная Софи заявляла обо всех, – маленькие, злые, незаконнорожденные фразы. Их нельзя было забыть или игнорировать. Про мою старшую сестру: «несокрушимая верблюжья элегантность». Аглая до сих пор злится, хотя столько лет прошло. Но – точно невероятно!
В общем, над Машенькой Гордеевой Софи мигом взяла шефство и принялась устраивать ее счастье. Так, разумеется, как сама понимала. Тут как раз у ее горничной начался с Матвеем Александровичем роман, а она в это время латынь учила, и у папы уроки стихосложения брала…
– Кто – Софи?
– Да нет же, – Вера!
– Вера учила латынь и брала уроки стихосложения? – Измайлов осторожно помотал головой.
– Я же тебе уж сказала, Вера впитывала все, как лишайник воду во время дождя, – с легким раздражением уточнила Надя. – Что ей латынь? Она теперь со всеми поставщиками из инородцев на их языках говорить может. Им лестно, а ей – в любопытство.
– Замечательная парочка – Софи Домогатская и ее горничная Вера, – признал Измайлов. Спать ему уже совершенно не хотелось. – И что ж дальше?
– Дальше все просто колесом закрутилось. Софи сначала Веру с Матвеем мирила. Тут Николаша к Машеньке посватался, она побежала объясняться с Опалинским, чтоб решиться на что-то. Но тут, видать, и Гордеев устал ждать и решил на Опалинского нажать, а Машенька как-то про их сговор и прознала. Ей это в обиду показалось, как же, высокие чувства, а тут… В общем, она решилась – в монастырь, немедленно. Софи взбунтовалась, побежала объясняться со всеми. Тут на прииске бунт, у Гордеева – удар, Николаша с Петей замыслили все под шумок в свою сторону повернуть, но Петя в последний момент испугался и пьяным упал. А Николашу с его корыстными замыслами Машеньке заложил внебрачный Гордеева сынок – Ванюша. Матвей Александрович вышел рабочих успокаивать и его убили. Гордеев умер. Потом казаки прискакали…
– Да… это-то я и в романе помню… Как его напечатали, еще дискуссия была: правые говорили, что слишком много симпатий к рабочим, которые суть преступники, а левые упирали на то, что симпатии автора на стороне эксплуататоров, и он, она, то есть, остается в позе наблюдателя народных страданий и совершенно не сочувствует освободительному движению…
– Софи никому не сочувствует. Даже себе. Она просто действует. Такая эманация поступка. Во всяком случае, такой она была здесь, раньше. Теперь – не знаю.
– И теперь такая же, – неосторожно заметил Измайлов.
– Так ты ее знал?! Знаешь?!
– Нет, нет! Видал пару раз, мельком…
– Потом расскажешь все подробно! – безапелляционно заявила Надя. – Это важно. Софи Домогатская здесь уже не личность, а основа егорьевской мифологии. Несколько главных для города людей, ты уж догадываешься – кто, живут как бы в постоянных контактах с ней, хотя и не видели с тех пор. Полемизируют с ней, ссорятся, демонстрируют достижения, завидуют, любят, ненавидят. Остальные, из тех, кто видел кусочки, строят какие-то боковые фантазии. Они ветвятся, пересекаются, срастаются. Понятно, что к реальной теперешней женщине все это отношения не имеет, но все же… «Блажен, кто посетил наш мир в его минуты роковые…» Понимаешь? Вот эта девочка пронеслась, как комета, по егорьевскому горизонту как раз тогда, когда здесь события были в самом накале, и запомнилась потому, и осталась, как знамение, по которому счет ведут…
– Удивительно! – Измайлов согласно качнул головой, но более ничего говорить не стал.
– Ты что-то бледен, – Надя озабоченно заглянула мужчине в лицо, провела ладонью по обросшей щеке. – Тебе, наверное, отдохнуть надо. Я тебя заговорила. Ложись.
– Да я-то лежу давно, ты забыла? – усмехнулся Измайлов. – Ложись сама. Да не к ногам уж, ко мне под бочок.
– Ты… тебе вредно, Андрей…
– Ничего мне не вредно. Только о том и думаю, рассказчица. Иди сюда. Будем греться.
Глава 5
В которой читатель знакомится со взглядами на жизнь остячки Варвары, а Черный Атаман декламирует Некрасова новым членам банды
Березы теряли листву, и по черной воде озера плавали пригоршни золотых монеток. Заходящее солнце наискось, сквозь поредевший лес, поджигало их своими лучами и они вспыхивали по очереди, как сокровища в древних сказочных кладах, освещенные лампой нашедшего их отрока.
Варвара, стоящая на берегу озера, едва заметно усмехнулась и нашла взглядом вершину недалекой сопки, на которой росла кривая, расщепленная молнией сосна. Клады бывают не только в сказках, уж она-то знала это доподлинно…
В неподвижной воде, как в совершенном старинном зеркале, отражались стена леса, редкие подсвеченные розовым облачка и опрокинутый сказочный терем, возведенный над озером как будто по мановению руки лесного волшебника. Варвара знала источник и прообраз этого мановения – цветная гравюра из книги русских сказок, которые когда-то привез с ярмарки их с Анной отец, остяк Алеша. Именно по этой картинке, под ее, Варвариным, руководством и строился сказочный терем с его резными столбиками, крылечками, башенками, открытой галерейкой и верандой с цветными витражами, на которой даже самый пасмурный день казался светлым и веселым.
В крутом береге озера спускались к воде выложенные камнем ступеньки, которые продолжались широкими мостками, стоящими на толстых, зеленоватых бревнах. На берегу между соснами на цепях висела скамья-качели. Перед крыльцом несколькими куртинами рос специально высаженный шиповник с блестящими оранжевыми плодами. В детстве Варвара с сестрой делали из ягод шиповника нарядные колечки, выковыривая и отрезая ногтем серединку с лохматыми семечками. Шиповник цвел все лето, и сейчас на нем еще сохранилось несколько цветов такого густого розового оттенка, что ему, казалось, не хватало всего одной капли краски, чтобы превратиться во что-то столь же пронзительное, как алый крик крови или слышный каждому уху стон ветреного заката. Между десятками розовых кустов затесались два белых, которые были объектом особенно пристального внимания хозяина. Сейчас на них грустили два явно умирающих цветка цвета топленого молока. Варваре захотелось нарисовать их. Она рисовала белый шиповник уже несколько раз, сделала два десятка набросков, но вот таких цветов, сумеречных, остановленных прямо на пороге осенней смерти, у нее еще не было. Когда-то придет весна, на голых ветках снова распустятся почки, появятся бутоны, но это будет уже без них, и не для них… Впрочем, не стоит. Варвара подошла к кусту, сорвала оба цветка и растерла между пальцами жухлые бессильные лепестки.
Снова охватила взглядом терем и окружающий его, тонкой кистью нарисованный мирок. Он был не похож ни на что, кроме открытки, случайно упавшей в тайгу и равнодушным колдовством обращенной в явь. В детстве Варвара много ездила с отцом, и доподлинно знала: ничего похожего на это в Сибири не было и быть не могло. Может быть, в России, или, скорее, в чьем-то сне о ней. Она знала, чей это сон, и отчетливо понимала, что рано или поздно чары развеются, и вся картинка исчезнет без следа. Но так же бесшумно будут стоять вековые лиственницы, и березы будут сыпать свое неистощимое золото в непроницаемую гладь Черного озера…
Светлое озеро было в тайге одно. Оно всем известно и на нем стояли Выселки. Чернозерье состояло из нескольких небольших озер, точное число которых знали разве что охотники из самоедов. Но они никогда, никому и ничего не скажут. Себе дороже.
Никто не узнает. Варвара принимала временность и хрупкость этого укрытого от всех мирка так же, как принимала исчезающую протяженность всех других явлений мироздания. Так устроен мир, и глупо, а главное, совершенно бесплодно испытывать по этому поводу какие-то чувства. В этом она всегда расходилась с Машенькой Гордеевой, теперь – Марьей Ивановной Опалинской. Та с детства любила играть в останавливание времени и часто употребляла в разговоре слова «навсегда» «никогда» «постоянно» и даже слово «вечность». Последнее для Варвары всегда отчетливо пахло тряпками, в которых мыши свили гнездо. Петербургская барышня Софи Домогатская, которую когда-то занесло в Егорьевск прихотью западного ветра, тоже начинала чихать и дергать носом от этих слов: «Вечная дружба! Вечная любовь! Вечный Бог! Фу, какая глупость!» – восклицала она, и жила тем, что происходило с ней и окружающим ее миром в настоящий момент. Варвара стояла между ними, протянув руки к обеим. Все вещи и явления имели свою протяженность, и это было существенно для обращения с ними – Варвара единственная понимала это. Обе барышни не видели Варвару и жили рядом с ней так, как будто бы младшей дочери остяка Алеши не было на свете вовсе. Варвара этому не удивлялась и, уж тем более, не обижалась. Чего же обижаться, если она сама спряталась от них, и от всех других тоже. Спряталась под личиной, которую нарисовала для себя без помощи кистей и красок. Ей было десять лет, когда она поняла, что отец всегда носит маску. Тогда же она решила, что у нее тоже должна быть маска. Еще год ушел на ее изготовление. Маска пригодилась сразу же, потому что именно в тот год умерла их с Анной мать. Никто не мог понять, почему младшая дочь Алеши все время улыбается и молчит. Потом привыкли и перестали замечать.
Софи Домогатская, также не заметив, сделала Варваре огромный подарок – она показала ей, как рисовать на листе уходящую вдаль дорогу. Самой Софи это объяснял учитель рисования два года. Варвара поняла с одного урока. Она даже запомнила название, которое произнесла Софи: «закон перспективы». Запомнила из благодарности, потому что во многих русских словах совсем не было плоти, и это было из их числа. «Верность» «отчуждение» «восторг» «особенности» – и еще много-много других. Все они состояли из ветра. Варвара была земным существом и не любила разговаривать дуновениями. Она рисовала днем и ночью. Две недели ее трясло от возбуждения и внутреннего жара, она ложилась голой в снег и даже стягивала себе платком грудь под платьем, чтобы бешено колотящееся сердце не разорвало ее на куски и не выскочило наружу между ребер.
Варвара с самого раннего детства тонко понимала цвета и формы мира, умела отражать и превращать их в своих руках. Но теперь мир на листе бумаги перестал быть плоским – и это было подлинное чудо, с которым нечего было даже сравнить! Софи, как у нее водилось, ничего не заметила, и побежала дальше, в погоне за какой-то своей, неясной и неважной для Варвары целью. Варвара же осталась со своим богатством… О, она уже тогда умела копить!
Сумерки между тем сгустились, над озером пролетел нетопырь, где-то в лесу, пробуя голос, прокричала ночная птица. Луна лениво ворочалась в ветвях, пыталась выпутаться из них и взойти на небо.
Варвара медленно развернулась и взошла на крыльцо. Из сеней отворила дверь в самую большую комнату, в которую хозяин разрешал входить только ей. Скинула туфли и босиком прошла по тканым половикам, которые приятно щекотали ступни. Хозяин хотел постелить здесь персидский ковер, но она уговорила его и сама разрезала тряпки и соткала половики нужной длины и расцветки. Ковра тут не надо – это Варвара знала наверняка, и Сергей в конце концов согласился с ней, очередной раз признав за ней первобытное и абсолютное чутье на краски, вещи и их сочетания между собой.
Не зажигая свечи, Варвара прошла по комнате, которая более изощренному человеку могла бы напомнить сектантский молельный дом. На полу от окон уже лежали лунные тени. Вся мебель была накрыта льняными чехлами, и оттого казалась призрачной. На боковой стене висел большой женский портрет в тяжелой раме, написанный маслом. Под ним стоял подсвечник на шесть свечей и букет осенних ветвей в дорогой китайской вазе. Все вместе походило на алтарь. Лицо белокурой женщины на портрете было задумчивым и прекрасным. Тонкие черты лица пронизывала печаль. Богатое, поистине королевское платье со шлейфом красивыми складками ниспадало на узорчатый пол. В руке женщина держала белую розу, которая как-то странно напоминала растущий во дворе шиповник.
Варвара по-приятельски кивнула женщине на портрете, не испытывая трепета от их явного неравенства. Портрет писала она сама по просьбе Сергея. Образцом служила полустершаяся эмаль в маленьком медальоне в виде желудя, который Сергей всегда носил с собой. Варвара поняла это так, что на нем изображена женщина, которую Сергей когда-то любил в Петербурге. Была ли она его возлюбленной, или он любил безответно, так и осталось для нее загадкой. Никакой злобы или обиды к таинственной петербургской незнакомке Варвара не питала, ведь это было так давно, да и вправду ли было? Варвара давно уже поняла, что русские склонны придумывать себе не только пустые, наполненные ветром слова, но и целые куски не бывшей жизни. Кажется, они полагают, что это может расцветить жизнь действительную. Не так ли поступил и Сергей? Черты женского лица на миниатюре из медальона были практически неразличимы, и потому Варвара дала волю своей фантазии, постаравшись, чтобы угодить Сергею, сделать незнакомку как можно более красивой на русский лад, так, как она сама это понимала. Белокурые локоны спускались почти до пояса. Алые, налитые губы приоткрыты, кожа медового оттенка, полные открытые плечи. Никакого платья в крошечном медальоне, естественно, не было видно. Варвара, недолго думая, покопалась в библиотеке Златовратских и выбрала картинку с самой пышно одетой принцессой, которую только смогла отыскать. Именно в ее платье она и одела петербургскую красавицу. По-видимому, получилось неплохо. По крайней мере, Сергей был доволен и подарил художнице три золотых слитка и костяной гребень с самоцветами. Его благоволение и радость были для Варвары дороже, но и золото казалось отнюдь не лишним.
Приподняв чехол, Варвара открыла крышку рояля и указательным пальцем нажала на басовую клавишу. Долго слушала умирающий в воздухе звук.
Потом снова вышла на крыльцо. Лес чернел закрывшейся дверью. В высоком небе томительно и странно проплыла и погасла яркая звезда.
– Что это?!! – прошептала за Варвариным плечом Агнешка, сирота, внучка ссыльного поляка, которую хозяин недавно привез в терем для услужения.
– Не знаешь разве? – Варвара равнодушно повела бровью. – Кто-то из наших шаманов в Верхний мир отправился. Может, Мунук, может, еще кто…
Помолчали.
– Варвара, как ты думаешь, Черный Атаман будет нынче? – снова спросила Агнешка.
– Может, да, а может – нет. Я жду до утра, а потом – уеду. Меня Надя Златовратская ждать будет.
– Не надо бы вам! Сергей Алексеевич дюже рассердится, коли вас тут не сыщет, коли без его наказа уедете. Накажет потом! – опасливо сказала Агнешка.
– Я – не его собственность, а свободный человек! – Варвара ответила фразой, которую когда-то давно подслушала у Златовратских и полюбила за звучность. Агнешка испуганно перекрестилась.
Варвара знала, что полячка опасается вовсе не за нее, а за себя, боится попасть Черному Атаману под горячую руку. Она презирала трусость Агнешки, так как сама практически ничего не боялась. В том числе и наказания. Черный Атаман ценил ее и берег от всех, а пуще прочего – от себя. Сказать больше, Варвара иногда сама нарывалась. Прошлой весной случайно услышала про дело, в котором втемную хотели использовать ее соплеменников, и на них же после свалить грех перед полицией. Варвара от имени отца (ее саму бы и слушать не стали) объяснила ситуацию старейшинам и сорвала договоренность. Отчего она так поступила – и сама не знала. Соплеменников она, пожалуй, презирала. Так же, как и отца, ее более всего удивляла и раздражала в них неспособность думать вперед и рассчитывать последствия собственных и чужих действий. Как-то существенно изменить их было невозможно.
Люди Черного Атамана явились на место и не нашли там самоедов, которые ушли в тайгу. Разъярившись до крайности, Дубравин велел поймать кого-нито и любым способом выпытать причину. Когда причина стала ясна, он один прискакал на Черное озеро и сходу избил Варвару нагайкой. Потом, проспавшись и отойдя от гнева, сам отыскал ее на сеновале, промыл свежие раны, целовал руки и ноги и просил прощения за жестокость.
– Отчего ты в тайгу не ушла? Могла бы ведь переждать, покуда я перебешусь, успокоюсь… – спрашивал он, заглядывая в непроницаемые глаза.
Варвара молчала и улыбалась запекшимися губами. Она не могла сказать ему, что ей нравится, когда он ее бьет, и этот контраст между его жестокостью и жалостливым, почти бабьим утешением. Варвара была достаточно умна и знала, что Сергею, который стыдился своих вспышек, не понравится ее признание.
Потом он подарил ей целую пригоршню самоцветов, и она ласкала его ночью с таким жаром, что он даже позволил себе усмехнуться: «Тебе как будто побои на пользу идут!»
Варвара знала, что по ее лицу русский ничего не сможет прочесть, но на всякий случай отвернулась.
С утра, когда Сергей еще спал, разметавшись на широкой кровати и постанывая во сне, Варвара поднялась на сопку, к расщепленной сосне, подняла кусок дерна, тяжелую деревянную крышку и открыла маленький, зарытый в землю сруб. Сруб сладила она сама, с детства любившая работать не только с красками, но и с деревом, и с камнем, и с глиной. Внутри сруба стоял небольшой, аккуратный сундучок. Варвара подняла его за железное кольцо, отперла, откинула крышку и, разжав ладонь, медленно ссыпала внутрь полученные накануне от Сергея самоцветы. Потом опустила в сундучок обе руки и стала перебирать свои сокровища. Сундучок был полон приблизительно на две трети. Кроме золота, украшений и самоцветных камней, в нем лежали деньги – в ассигнациях и монетах. Варвара почти не носила украшений и не любила пестрых и дорогих нарядов. В еде она была также неприхотлива и неразборчива, как енот или ворона. Почти вся Варварина выручка от торговли в мангазее, полученные от Сергея и отца подарки, доходы от иных сделок (они имелись у остячки, так как слегка мошенническая предприимчивость отца была унаследована ею в достаточной мере) – все это практически полностью попадало в сундучок. Зачем, для чего она копила все это? Варвара не могла бы сказать наверняка, но само обладание, разглядывание и касание своих тайных сокровищ доставляло ей чувственное удовольствие. Кроме того, она полагала, что, когда мир вокруг нее очередной раз переменится, все это может пригодиться ей во вполне практическом смысле.
– Варя!
Варвара сама не заметила, как, раздумывая, спустилась с крыльца, прошла на мостки. Сейчас темная высокая фигура сбегала к ней по ступенькам. Мужчина остановился рядом с ней, не касаясь ее. Она тоже не торопилась с прикосновениями. Пока они стояли так, кокон невидимых нитей опутывал их все сильнее. Напряжение и даже боль, возникающие от этого длящегося мгновения, были приятны обоим. Лунные блики, проникающие сквозь листву, играли на волосах, скулах и плечах Варвары. Где-то глубоко в черных глазах скрывалось холодное рудничное серебро.
– Ты хотела уехать, меня не дождавшись? Хотя я и велел тебе…
– Агнешка – гадина, – равнодушно откликнулась Варвара. – Хочет нас с тобой поссорить, или мне – пакость. Намедни всю тесьму на шали спутала, отрезать пришлось. Дура. А велеть ты мне ничего не можешь. Я – сама по себе.
– Варвара! – предупреждающе вскрикнул Сергей.
– Что? Зарежешь? Плеть возьмешь? Брось, не надо тебе. Сам же после мучиться станешь.
– Отчего, ну отчего ты такая?!
– Уродилась такой. У меня мангазея, надо отвезти кость, что у хантов собрала, да свое. А до того – Надя Коронина меня на тракте ждать станет…
– Почему ты не бросишь это все? «Мангазея»… «Магазин» – я ж тебе сто раз говорил. Ты – мастерица, тут слов нет, но зачем – на продажу? И поделки эти уродские, которые ты в стойбищах собираешь… Чего тебе не хватает? Скажи, я все устрою…
– И что ж дальше? Сидеть здесь твоей полюбовницей, тебя поджидать? То ли приедешь, то ли позабудешь, то ли вовсе – голову тебе с плеч? Не нужно мне.
– А как ты хочешь? Хочешь, женюсь на тебе? Украду где-нибудь попа, привезу сюда, пусть обвенчает нас. Ты ведь крещеная? Будешь моей женой, детишки пойдут…
– Полукровки – они всегда неудачливые выходят. Нельзя промеж двух стульев сесть – так у вас говорят? Чтоб хорошо вышло, тебе надо от своей детей родить, а мне – от своего. Только я не хочу. Что в том? Анна, сестра моя, троих уже родила. Ходят, все трое на чурбачки похожи, только по размеру и отличаются. Словно для разных печей нарублены. Зачем мне?…
– А чего ж ты для себя хочешь?
– Сейчас – как есть. После – не ведаю. А ты, про себя, знаешь – чего?
Луна поднялась над лесом и тут же через озеро пролегла дорожка, словно из небесного кувшина кто-то плеснул на землю серебристым молоком.
– Пойдем в дом, – сказал мужчина, так и не прикоснувшись к ней.
В комнате он зажег одну свечу, подошел к раскрытому роялю, тремя пальцами сыграл простую, болезненно наивную мелодию. Ей, как всегда в таких случаях, сделалось его жалко. Зная, что будет, если он об этом догадается, Варвара отошла к окну, отвернулась, смотрела на полосатые от лунных теней стволы.
– Ложись, – велел он, отходя от рояля.
– Здесь? – Варвара подняла бровь.
– Я так хочу, – он уже не приказывал, а просил.
Девушка повиновалась и, скинув платок и платье, легла, ощущая спиной холодную шероховатость половика. У него была светлая кожа на плечах и груди и очень темные, почти черные соски. Варвара ласкала их пальцами и губами, пока он не застонал. В минуты нежности он называл ее Чернавкой. Ей нравилось, что он такой светлый. Луна добавляла свою лепту в богатство оттенков.
– Я хочу тебя нарисовать. Так, – прошептала она.
Он удивился и широко раскрыл глаза.
– Потом! – наконец, сказал он и по-щенячьи затеребил зубами ее косу.
Потом они лежали на боку, стараясь уместиться на узком половике, еще сохраняющем жар их любви. Она – за его спиной, перекинув руку ему на грудь. Луна наискось освещала их обоих. Его тело казалось серебряным с каким-то совершенно невозможным для живой кожи зеленым оттенком, ее – бронзовым. Варвара, лежа на полу, одновременно смотрела на всю картину с потолка и жалела, что не может раздвоиться в действительности и одной из половин немедленно отправиться рисовать.
После он проснулся от холода и сквозняка. Варвары за его спиной не было. Утро лишь едва серело за окном. Шлепая босыми ногами, он подошел к окну и увидел ее, уже одетую, гарцующую на берегу озера. Небольшая ладная кобылка, похожая на саму Варвару, играла под ней, изображая поединок всадницы и коня. Варвара, не улыбаясь, натягивала поводья. На ветках и уцелевших листьях висели большие прозрачные капли, как будто чудом удерживающиеся в воздухе. Озеро морщилось от рассветного ветерка, как нос сердитой дворняжки.
Варвара направила кобылку в кусты, туда, где скрывалась едва заметная тропа. Ее не заплетенные в косы волосы реяли по ветру, как черный парус пиратского фрегата. Он проводил ее взглядом и сжал кулаки с такой силой, что ногти багровыми полукружьями отпечатались на ладонях.
К полудню приехал Рябой и привез троих. Как было заведено, новички ехали последнюю версту с завязанными глазами и теперь, щурясь, с изумлением оглядывали сказочный терем, озеро и все окружение. Черный Атаман наблюдал за ними из стрельчатого окна.
Ни люди, ни предстоящий разговор не вызывали в нем никаких чувств. ОН искусственно попытался вернуть себе потребную настороженность, звериную остроту восприятия, которая и позволила ему когда-то пройти по грани безумия и выжить в Сибири – этом нечеловеческом, полном изначальных земляных сил мире, предельно равнодушном не только к отдельной человеческой судьбе, но и ко всей человеческой массе разом. Однако чувства не возвращались, и все тело казалось каким-то хрупким и звонким, не плотским совершенно, словно он, не заметив того, поменялся местами со своим отражением в зеркале.
– Отчего же теперь собрались, а, братцы? – голос звучал фальшиво и своей откровенной неестественностью пугал даже его самого. Алмазные лучи безумия ощутительно вылетали из глаз и щекотали роговицу. Мужики (двое в годах, а один – еще совсем зеленый, почти мальчик) ежились и переступали сбитыми сапогами. Как Варвара посмела уехать? Сейчас, когда у него опять кризис и нужда в ней?!
– Слыхали, что Сохатый снова в наших краях, к тебе прибился, а с ним – знакомцы давние…
Нелепый и опасный, как поднятый из берлоги медведь. Кныш – фамилия или кличка? Скорее, последнее.
– Так ли? Рябой говорит, ты с Воропаевым накоротке был, а вовсе не с Никанором.
– Правду говорите, – мужик опустил голову. То, что он не стал врать и отпираться, сразу расположило к нему Черного Атамана. – Как Климентия Тихоныча порешили (Кныш тактично не упомянул о том, кто именно порешил старого атамана), так мы с Фокой в тайгу подались. После я на Выселках жил, с бабой, нанимался там… на вскрышку торфа, – на лице Кныша отразилось столь явное отвращение к честному труду, что Сергей едва удержал смех. – В общем, не выходит у меня… тоска гложет… А тут еще племяш подбивает, – мужик кивнул в сторону потупившегося от смущения подростка. – Давай, дядька Кныш, да давай… Старому был годен, глядишь, и новому атаману на что сгодишься…
– Понятно, – протянул Черный Атаман и кинул быстрый взгляд в сторону юноши. – Как звать?
– Власом.
– «А как же зовут тебя, крошечка?
Власом.
А кой тебе годик?
Шестой миновал.
– Но, мертвая! – крикнул малюточка басом.
Рванул под уздцы и быстрей зашагал…»
Помолчали. Мужики стояли, прикрыв глаза, как провинившиеся, но неусмиренные лошади. Сергею захотелось схватить кнут и выгнать всех прочь.
– Это чего же? – спросил наконец крошечка-Влас.
С Черным Атаманом иногда случались приступы предвидения. Например, сейчас он совершенно отчетливо увидел, что отныне юношу будут звать именно так – Крошечка.
– Это Некрасов, болваны, – устало сказал он. – Великий русский поэт, певец народной вольности. – А ты? – он мазнул беглым взглядом по третьему новичку.
– Липат, ваше благородие. Когда-то давно тоже короткое время при Климентии Тихоныче состоял, вот Кныш помнит меня, после – на Выселках. Нынче в стесненных обстоятельствах нахожусь… и пожелал вот, ежели ваше благородие изволит…
– Пошли все прочь! – не выдержал Дубравин. – Идите! Идите! Рябой вам объяснит, что к чему. Но – молчать! Поняли, канальи – молчать!!!
Сергей ощутил, как в углах губ выступила пена. На крик в дверь всунулась на мгновение любопытная физиономия Агнешки. Мужики испуганно закивали и попятились, увлекая за собой Власа. Крошечка таращил глаза и смотрел не испуганно, но завороженно. Сергею захотелось своротить ему конопатый, с зеленой детской соплей в ноздре, нос, но он смирил себя, уговаривая, что вполне можно обождать удобного случая. Теперь уж он был рад, что Варвара уехала с заимки и неизвестно, когда вернется.
Глава 6
В которой Марья Ивановна знакомится с новым инженером, читатель – с внуками Ивана Гордеева, а Любочка Златовратская желает сестре счастья
Марья Ивановна стояла, незаметно опираясь рукой о стол, и в упор разглядывала нового инженера. Можно было б и сесть, но стоять казалось удобней – не придется смотреть снизу вверх. Все мужчины, кроме остяка Алеши, были выше Машеньки ростом, да еще и хромота полвершка убавляла. По природе это было правильно, по делам же выходило неудобно.
– Носи каблучки! – советовала Любочка Златовратская.
В насмешку, что ли, или по глупости, у нее не разберешь. Какие каблучки при хромой ноге, да еще и в Егорьевске?!
Впрочем, инженер Измайлов, вежливо поклонившийся при встрече, и теперь стоявший у входа, статями отнюдь не подавлял. Среднего роста, высокие скулы, широко расставленные зеленые глаза, нос-картошка, русые волосы, уже начавшие редеть со лба, аккуратно подстриженная рыжеватая бородка. Брюки, рубаха и пиджак, явно с чужого плеча, сидят слегка мешковато. Крепкие, приятно расправленные плечи, но скован, неловок в движениях, и то явно не от волнения, а от природы.
– Может, присядем? – мягкое широкое лицо с постоянной готовностью к улыбке. С правой стороны, сверху не хватает клыка, но необъяснимым образом щербина улыбку не портит, а лишь добавляет обаяния.
Видно, что незлой и милый человек. Но не слишком ли мягок окажется? Сможет ли с рабочими? С ротозейством, с пустотой душевной, с злонравием, с лживостью людской человеческой массы?
– Да, конечно. Садитесь, пожалуйста, – Марья Ивановна с облегчением опустилась в кресло.
«Брось, Маша! – сказала она сама себе. – Он инженер и в годах, значит, с опытом по специальности. Того довольно. Не путай его и себя. Твои надежды прозрачны: однажды явится невесть откуда, как в русских былинах, второй Матвей Александрович Печинога, станет за твоей спиной прибрежным утесом, и будет стоять неколебимо, и знающе, и любая производственная хитрость ему по плечу, а на остальное он просто плевать хотел. И все его боятся и уважают… Брось! Не будет никогда второго Матвея Александровича, и первого тоже не будет, потому что его убили. Те самые рабочие, которых он так и не сумел или не захотел понять… Знает ли уже этот Измайлов, что случилось на прииске с его предшественниками? И что об этом думает? Спросить нельзя, но как бы не забоялся, узнав… На вид он вроде не суеверен, но все же…»
– Вы слышали ли, какой конфуз непонятный с моими документами случился?
Измайлов разводит руками, словно извиняется за что-то.
Разумеется. Еще бы она не слышала. Помощник исправника ей лично доложился, не поленился приехать. Портмонет с паспортом и прочими бумагами и кошелек Измайлова третьего дня принес в правление прииска какой-то оборванный, никому не известный инородец, молча сунул первому попавшемуся на глаза человеку (им оказался уставщик Дементий Лукич) и тут же убежал неизвестно куда.
Самым для полиции удивительным показалось то, что в вернувшемся к хозяину кошельке оказались деньги. Двести тридцать семь рублей и сорок копеек.
– А у вас сколько было? – приставал к инженеру полицейский чин.
– Да я точно не помню, но, кажется, аккурат столько и было… – растерянно отвечал Измайлов.
Кроме денег, в документах обнаружилась записка. Красивым, нервным, слегка небрежным подчерком образованного человека там было написано:
«Милостивый государь Андрей Андреевич! Не обессудьте, что вещи пропали. Мне бы раньше спохватиться, но теперь эти канальи все растащили, и концов не найдешь, хоть обломай об них палку. Простите покорно, что не доглядел. Вы – крепкий орешек, с такими всегда приятно иметь дело. Позвольте пожелать Вам удачи во всех начинаниях.
Искренне Ваш Сергей Дубравин»
Мысли про Черного Атамана вызывали у Измайлова головную боль и резь в животе. Отчего он сначала отдал приказ найти его и добить, а потом вступил с ним в переписку и извиняется за то, что не уследил за его вещами? Зачем вернул документы и деньги до копейки? Как-то это все… глупо… навязчиво… Измайлов морщился. Он не любил таких игр. Впрочем, нет. Точнее будет сказать, он в них давно наигрался.
– Может, вы его знали? – продолжал настаивать пристав. – Давно, еще в Петербурге? Он-то вас в горячке не признал, а потом, по бумагам…
– Знал? – Измайлов честно перебирал в голове имена и лица. Нет, никакого Сергея Дубравина ему точно никогда не встречалось. – Нет, не знал.
– Но отчего тогда… – пристав лупил глаза и собирал в складки без того низкий лоб.
– Да он же сумасшедший, ваша честь! – с досадой откликнулся не то письмоводитель, не то другой какой-то мелкий чин, сидящий в углу и чинящий карандаш. – Черт его разберет, почему он делает то или это! Что об этом толковать!
– Что, действительно сумасшедший? – заинтересовался Измайлов. – По-настоящему?
– Ну да! – горячо заговорила личность из угла. – Это всем ясно, потому что иначе не объяснить. В марте о том годе его люди устроили резню в Сорокине. Семеро убитых, раненных я уж позабыл. А в сентябре в том же Сорокине он наделил приданым пять неимущих девиц-сирот, чтоб они замуж пошли. Это как? А когда они захватили приезжего чиновника-ревизора из Москвы и вместо выкупа требовали улучшить содержание арестованных во время волнений на Битых приисках и свободы печати в Ялуторовске!
– Ну, это-то я понимаю… – протянул Измайлов. Пристав и его неясный сослуживец взглянули на инженера с комичным изумлением. – Хотя, конечно, тоже помешательство своего рода… Но, может быть, он воображает себя эдаким таежным Робин Гудом?
– Веревка по нему плачет, вот что я вам скажу, Робин Гуд он там или не Робин Гуд! – как-то обиженно заявил пристав.
Бог с ними! Вряд ли в ближайшее время доведется еще увидать воочию этого Дубравина, а переписываться с ним Измайлов и вовсе не собирается.
Теперь эта женщина, хозяйка приисков. Марья Ивановна Опалинская, бывшая Машенька Гордеева. Белая, вроде бы приятно округлая, но тело спрятано совершенно. Носит накидку на волосах, из-под которой выбивается всего один, очень светлый локон, длинное платье с подолом, закрывающим не только лодыжки, но и ступни. По-своему она даже красива, как некая разновидность упитанного ночного мотылька.
Измайлов видел, что Марья Ивановна не слишком-то впечатлена его видом и манерами. Что ж! Мысленно он пожал плечами, во всем соглашаясь с ее оценкой. Удивительно, но сам Измайлов считал себя именно таким – неинтересным внешне, слабым и трусоватым. Он знал о себе и большее, но надеялся скрыть от всех, стыдясь едва ли не половины прожитых им лет.
Ему было нелегко и неловко жить в Петербурге. Он устал от всех и от всего и уехал сюда, чтобы все стало легко, просто и понятно. Но и здесь все сразу пошло как-то… нелепо. Этот странный разбойник, играющий в непонятные игры с вполне реальными жизнями вполне реальных людей. Надя в самоедских штанах, обтягивающих маленький, аккуратненький задик… Надя Петропавловская-Коронина-Златовратская. С ума сойти! Где-то здесь, по сибирским меркам неподалеку, маячит ее муж… Ипполит Корнеевич? Нет, кажется, Михайлович. Он изучает многощетинковых червей, издает рукописный журнал и организует побеги колодников из Тобольского централа. Боже упаси! Либо я ничего не понял, либо Надя немедленно поделится с мужем сведениями о его, Измайлова, прошлом. С гордостью расскажет, как пели песни в тайге… Коронин, конечно, очень обрадуется: как же, в числе товарищей прибыль! – и станет строить планы. Тысячу планов, каждый из которых известен Измайлову уже сейчас. А чем еще она с ним поделится, докудова у них там, в идейной семье, простирается взаимное доверие, а?… Измайлов вспомнил, как Надя ставила ему, полумертвому, самодельную клизму, а потом, спустя две недели, он учил ее целоваться. Она совала узкий горячий язычок в щербину между его зубами и тихо, гортанно смеялась…
Измайлов едва не застонал сквозь стиснутые зубы, и Марья Ивановна взглянула на него с удивлением. Что это с ним? Может быть, еще беспокоит рана?
Под ее взглядом Измайлов немедленно пришел в себя и даже впопад ответил на какой-то незначащий вопрос.
С мужем Марьи Ивановны, Дмитрием Михайловичем Опалинским, он встречался и беседовал уже не то два, не то три раза, и даже ездил с ним на Мариинский прииск. И здесь не слава Богу! Помня Надины слова об общительности, демократичности и беспорядочном дружелюбии Опалинского, Измайлов сначала старался держаться в тон, шутил, балагурил и беспрестанно улыбался, так, что даже щеки заболели. Но горный инженер Опалинский вел себя странно, все время настаивал на том, что ему, Измайлову, надо еще полежать, отдохнуть, подлечиться и прийти в себя после дерзкого нападения. Измайлов твердо уверил работодателя, что уже достаточно отдохнул, поправился, и готов приступить к ознакомлению с делами, а Дмитрий Михайлович отчего-то все бормотал про отдых и отводил глаза, словно не желая смотреть на инженера. При ходьбе Измайлов заметно припадал на раненную сторону, оберегая себя от боли в боку. Может быть, ему неприятно это видеть, потому что напоминает о хромоте жены? Но ведь чушь какая-то! Да и на обычные вопросы только что повстречавшихся коллег, типа: «Где и с кем кончал курс? С кем из коллег сохранил связи? Кто читал минералогию и физическую химию в альма матер?» – Опалинский начал как-то неприлично юлить и суетиться, как будто Измайлов пытал его о невесть каких секретах.
На прииске Измайлов, устав попусту улыбаться, сразу засел за документацию. Просидел, не поднимаясь, четыре часа, и совсем запутался в происходящем. Когда спохватился, оказалось, что Дмитрий Михайлович уже уехал, впрочем, передав любезнейшему Андрею Андреевичу свои извинения и оставив свой собственный, вполне щегольский по местным меркам, экипаж.
Измайлов вернулся в лабораторию, еще раз перелистал журналы, взял лист бумаги и, подумав, записал на нем пять вопросов по существу дела. Сложил бумагу и спрятал в карман.
Во время следующей встречи с Опалинским Андрей Андреевич осторожно, вразбивку задал тому все пять означенных вопросов. Получил ответы и остался в совершеннейшем недоумении.
Ну почему в его жизни ничего и никогда не получается легко и просто? Могло ведь хотя бы иногда, в виде исключения…
После окончания визита Марья Ивановна самолично спустилась во двор, чтобы проводить гостя. Надобности в том не было никакой совершенно, и зачем потащилась, Машенька не понимала до той поры, пока не увидела. Увидев, сразу разгадала собственный, сложившийся помимо сознания, замысел. Дети Элайджы! Почему-то никак невозможно было даже мысленно назвать их Петиными детьми. Ей хотелось посмотреть, выйдут ли навстречу и как отнесутся к новому инженеру дети Элайджы, странные существа, верный барометр, даже более верный, чем собаки… Привычно и почти равнодушно Машенька укорила себя за то, что равняет Божьи души с животными. Ну что ж, если все так делают, отчего ж ей-то… Хотя они, конечно, крещеные. Грех, грех, грех! Прости, Господи! Живем дальше…
Во время охоты, когда едва ли не полгорода собралось во дворе, дети Элайджи куда-то спрятались и никто не мог их отыскать. Особенно и не старались, потому что знали: они никогда не подойдут к человеку с ружьем. Даже любимого отца отлучили от себя на две недели, после того, как он принес домой два мешка битой дичи, из которых капала в пыль бурая кровь.
А теперь? Машенька огляделась. Теперь вот они тут, стоят невдалеке все трое, придерживаясь по обыкновению друг за друга, и зыркают глазенками. А две одинаковые собаки-гончие уже подбежали к Измайлову и симметрично встали по бокам на задние лапы, крутя хвостами и требуя ласки или подачки.
– Два, три, отойдите! – скомандовала Марья Ивановна.
– Что, простите? – вежливо переспросил Измайлов, который, одинаково дозируя ласку, попеременно и рассеянно чесал сующиеся к нему собачьи морды. – Что вы сказали?
– Два, три – так зовут наших собак, – разъяснила Марья Ивановна. – На самом деле они Пешка-два и Пешка-три, но мы их все сокращаем. У Пети… у Петра Ивановича была гончая Пешка. В охоте не так, чтобы отменно хороша, но в прочих делах умна была удивительно, почти как человек. Вот он и оставил ее щенков, и пронумеровал их. Есть еще Пешка-раз и Пешка-четыре…
– Забавно, – пробормотал Измайлов, увидел таращащихся на него детей Элайджи и присел на корточки.
Мальчик вышел вперед, прикрывая собой девочек.
– Ты – Измаил? – требовательно и почти правильно спросил он.
– Юрочка, познакомься, это Андрей Андреевич, – попробовала влезть Машенька, но, как всегда, безуспешно.
– Это неправильное имя, – сказал мальчик и утвердил. – Ты – Измаил, архангел.
– Ну пускай Измаил, если тебе так хочется, – улыбнулся Измайлов. – Хотя насчет архангела ты, конечно, погорячился…
– Я – Волчонок, – сказал мальчик. Нынче он говорил удивительно хорошо, и Машенька сделала вывод, что Измайлов ему явно понравился. – А это мои сестры – Лисенок и Зайчонок.
– Замечательные имена! – развеселился Измайлов, шагнул вперед гусиным шагом, и попытался обхватить и поднять самую маленькую из троих – Зайчонка. Девочка протянула к нему ручки, но старшая из детей, Лисенок, внезапно сделала запрещающий жест.
– Не надо! – низким и глухим голосом сказала она. – Тебе больно. Здесь, – она приложила руку к своему боку. – Потом, когда поправишься, ее покатаешь. Она любит на ноге.
– Обязательно покатаю. Спасибо за заботу, Лисенок, – серьезно сказал Измайлов, с видимым трудом встал, склонился над детьми и нежно погладил рыжеволосые головки. Марья Ивановна машинально отметила, что детей он гладил совсем не так, как ластившихся к нему собак.
Все правильно! Все так, как я и думала. Дети Элайджи разговаривают с ним и даже позволяют к себе прикасаться. Они никогда не ошибаются. Значит, он такой и есть, и у нас действительно прибыло полку мягкотелых, ласковых, не умеющих драться, кусаться и убивать… С ума сойти! Зайчонок, самая дикая из троих, трогает его за бороду и гладит по щеке!
– Дети, идите к маме или к няне! – распорядилась Марья Ивановна. – Андрею Андреевичу нужно уходить по делам. Вы его задерживаете.
– До свидания, Измаил! – хором сказали Лисенок и Волчонок и дружно, в четыре руки, оттащили от нового знакомого младшую сестру.
Господи, как же они меня все раздражают! Машенька закусила губу и привычно подавила поднимающуюся к горлу досаду.
Первый ребенок Элайджи и Пети был рожден вне брака и умер сразу после рождения. Элайджа родила одновременно с Верой Михайловой, вскоре после смерти Ивана Парфеновича и инженера Печиноги. Смерти ребенка никто не удивился, и, кажется, даже никто особенно не расстроился. Какая из Элайджи мать?!
Когда Петя и Элайджа поженились, она сразу же забеременела снова и почти подряд, легко, как кошка, родила троих детей – двух девочек и мальчика. Отчего же в первый-то раз не сложилось? – думала иногда Машенька и не находила ответа. К родившимся детям Элайджа отнеслась ровно и ласково-равнодушно, в какой-то момент кормила огромной, разбухшей грудью всех троих без разбору, того, кто попросит. Маша, заходя в Петин флигель по делам, видела эту вполне первобытную картину и едва сдерживала тошноту. Огненноволосая, широкобедрая Элайджа с вываленной из ворота веснушчатой грудью казалась ей похожей на троглодитиху, а суетящиеся вокруг нее замурзанные дети – на каких-то диковинных и неприятных зверьков, вроде маленьких и грязных обезьянок. Когда дети подросли, трактирщица Роза, бабушка детей, прислала им няньку-калмычку, племянницу ее прислуги Хайме. Калмычка легко обихаживала диковатых и неприхотливых детей, пела им степные песни и общалась с ними на таком странном, ломаном языке, что когда старшие дети, наконец, заговорили, никто ровным счетом не мог их понять. Сама Элайджа говорила в основном по-еврейски, и, видимо, как-то договаривалась со своими отпрысками. Их неспособность говорить по-русски ее нисколько не волновала. Дмитрий Михайлович не раз говорил Маше, что надо бы как-то вмешаться в ситуацию, и дать детям хоть какое-нибудь развитие, кроме пения калмыцких песен и прогулок по лесу с полоумной матерью. Машенька в уме и вслух соглашалась с мужем, но по душе почему-то совершенно ничего не могла предпринять в направлении образования племянников.
Сама Марья Ивановна после свадьбы беременела четыре раза. Первая ее беременность протекала крайне тяжело, с тошнотой, рвотой, отеками, но навалившиеся после смерти отца дела не терпели проволочек, и, несмотря на помощь мужа и Алеши (тогда он еще был с ними), регулярно требовали присутствия «хозяйки». Машенька ломала себя и всегда имела с собой в возке специальный кувшин, в который блевала во время поездок. Кончилось все, естественно, выкидышем.
Вторую беременность она целиком отлежала в постели и сама себе напоминала мучительно медленно подходящую квашню. Читать она не могла, есть хотелось постоянно, сколько б ни съела, но доктор Пичугин велел себя ограничивать, чтоб не получился слишком большой плод. Замотанный делами Митя навещал ее по вечерам, гладил по голове и молча улыбался бледной, отстраненной улыбкой. Она пыталась с ним говорить, он невпопад отвечал и иногда засыпал, прямо сидя на стуле. Ни о каких супружеских радостях Пичугин велел не думать, «коли хотите дитя доносить». Никто и не думал.
Сынок Александр родился в срок, но маленьким и слабым. Закричал не сразу и до года тряс подбородком, все время мерз и лежал в кроватке в окружении нагретых кирпичей. Молоко у Машеньки так и не появилось, и ребенка выкормила одна из бесчисленных племянниц остяка Алеши. Может быть, поэтому глаза у Шурочки получились узковатыми и чуть-чуть как бы заплывшими.
Вылезши из колыбели, Александр первое время ходил на цыпочках, но после выправился и стал весьма бойко бегать и везде залезать. Слабое и тонкое сложение у него оставалось. Если ему что-нибудь не давали или запрещали, он падал на пол, синел и «заходился». Отец, Дмитрий Михайлович, который в таких случаях страшно терялся, велел не портить ребенку нервы. Все домашние так и делали, и во всем Шурочке уступали. Если кто-то не услышал требования или замешкался, Шурочка бил ослушника кулачком или ногами. Впрочем, по характеру он был незлопамятный и отходчивый, и, когда находился в добром настроении, любил ласкаться ко всем и делился сладостями. Единственным человеком, которого Александр, пожалуй, побаивался, была бабка Марфа Парфеновна с ее клюкой и пронзительным взглядом. В ее присутствии он ощутимо притихал, не падал на пол, и старая женщина даже догадаться не могла, каким бывал любимый внучок в ее отсутствие.
Несмотря на теплую и дорогую одежку и хороший уход Шурочка часто простужался. В три года после простуды он перенес круп. Всю болезнь внука Марфа, не зная устали, простояла на коленях в приделе Покровской церкви, и никакие увещевания отца Михаила не могли ее оттуда изгнать. После кризиса, который случился на четвертый день болезни, Машенька нашла у себя в голове целую прядь седых волос. Шурочка поправился, но с тех самых пор у него появились странные приступы удушья, которые возникали непонятно от чего, и по непонятным же причинам проходили. Вначале каждый приступ казался несчастной матери последним. После самоедский шаман Мунук передал ей сладковатый корень, который надо было заваривать и давать Шурочке в период обострений. Отвар корня вроде бы помогал.
Потом Машенька беременела еще два раза и оба раза не доносила дитя даже до половины срока. После последнего выкидыша доктор Пичугин сказал ей, что детей у нее, по-видимости, больше не будет, но это, может, и к лучшему, так как очередная беременность могла бы ее просто доконать.
Дмитрий Михайлович, тоже переговоривший с врачом, поверил ему как-то наполовину, и теперь с осторожностью относился к исполнению супружеских обязанностей, словно ожидая от жены какого-то подвоха в этом вопросе. Машенька сначала плакала от всех этих напастей, а потом смирилась, и только трое здоровых детей отстранившейся от всего мира Элайджи порой вызывали у нее глухое раздражение. Да еще эти их идиотские клички… Они сами придумали их для себя и требовали, чтобы все называли их именно так, нарочно не откликаясь на свои вполне христианские имена – Юрий, Елизавета, Анна.
Все в дому, кроме Машеньки, смеялись и называли их угодным им образом. Впрочем, до звероватых отпрысков Элайджи и Пети никому особенно не было дела. Словно само собой разумелось, что они скорбны разумом и ни на что не годятся. Наследником всего считался Шурочка, и к нему соответственно и относились.
Раньше, год или два назад Шурочка пытался подружиться с двумя старшими кузенами. Чтобы задобрить и подманить их к себе, умненький мальчишка взял кулек сластей и свои лучшие игрушки. Машеньке все это не нравилось, но и противиться она не решалась. В чем причина? – спросил бы ее Петя. Что ответить?
Впрочем, все быстро разрешилось к ее удовольствию. Шурочка, который привык верховодить даже над слугами и родней, быстро получил от диких кузенов недвусмысленный отпор, прибежал к матери в слезах и заявил, что они все «дулаки», сломали его игрушку, и он с ними играть больше не будет. Увидав, что ребенок вот-вот начнет задыхаться, Машенька перепугалась, во всем согласилась с сыном и пообещала ему купить целых три игрушки взамен сломанной.
Теперь Шурочка «звериную троицу» великолепно не замечал, и благополучно играл с дочкой плотника Мефодия и сыном конюха Игната, которые, наученные родителями, во всем ему поддакивали и поддавались.
Любочка сидела в кресле, уютно подвернув под себя ноги, и читала очередной роман из великосветской жизни. К чтению она относилась серьезно и вникала в текст так, как, к примеру, горный инженер читал бы журналы по минералогии. Давно уже Любочка Златовратская поставила себе целью вжиться в этот странный, никогда не виденный ею мир. Из заснеженного или запыленного, по времени года, захолустья Егорьевска все это трудно было даже представить: холеные, сдержанные в движениях и словах люди носили бриллианты и парчовые платья, посещали балы и театры, ужинали в ресторанах, хранили деньги в банках, ездили летом на воды, а на Рождественские каникулы – в Европу. Это был тот мир, в котором родились и жили до поры Софи Домогатская, муж сестры Нади Коронин и Евпраксия Александровна Полушкина. Двое первых покинули блистающий мир кровных аристократов по своей воле, и за одно это Любочка их презирала и ненавидела. Если бы ей повезло так, как им, то она бы зубами и когтями держалась за эту привилегию, и никому не позволила бы… Евпраксию Александровну Любочка, пожалуй, жалела, ибо своей волей там и не пахло.
Любочка снова склонилась над книгой. Несмотря на все трудности, она должна была себе представить этот мир, более того, слиться с ним настолько, чтобы, когда придет время, никто не заметил фальши и разницы. Времени на обкатку навыков у нее просто не будет. Придется сразу, с колес… Любочка давно знала, что рано или поздно этот мир с желтоватых страниц станет ее миром. С раннего детства она верила не в христианского Бога, а в овеществленную силу желания. Если очень сильно хотеть – обязательно получишь. Так всегда получалось. А уж кто именно обеспечивает функционирование этого закона – какая разница!
Очень хотелось поделиться своими планами и уверенностью хоть с кем-нибудь. Поразмыслив, выбрала старшую сестру Аглаю, которая казалась самой амбициозной из всех. Аглая только скептически усмехнулась и назвала все Любочкины прожекты пустыми надеждами. Потом посоветовала не разевать рот на чужой кусок, который как раз в глотке и застрянет. «Не застрянет, не застрянет, не застрянет!» – закричала Любочка и затопала ногами от ярости. Ей просто до щекотки на языке хотелось немедленно привести сестре доказательства своей правоты, но она укусила собственный палец, и сдержалась. Нельзя! Слишком многое поставлено на карту!
В сущности, все окружающие обманывались насчет любочкиного характера, считая ее человеком открытым и даже демонстративным. На самом деле она вполне унаследовала фамильную замкнутость Златовратских и умела хранить все в себе не хуже других членов семейства. Только увидеть и разобрать эту черту в плаксивой и крикливой Любочке было куда сложнее, чем в горделиво-высокомерной Аглае и диковатой, немногословной Наде.
Надя, даже приезжая в Егорьевск, редко виделась и уж, тем паче, беседовала с младшей сестрой, и потому Любочка, увидев ее на пороге, с готовностью отложила книгу и преисполнилась любопытством, хотя предмет разговора был ей известен заранее.
– Ипполит Михайлович вчерась прибыл, – сказала Надя так, как будто бы сестра могла как-нибудь не заметить ее мужа, со вчерашнего дня остановившегося в доме Златовратских.
– Зачем же, он тебе сказал? – спросила Любочка. – Навестить нас, как он заявил? Это не в его обычае, ему до нас и дела нет. Неужто по тебе соскучился? Или почуял что…
– Не говори ерунды! – отрезала Надя. – У него здесь какие-то свои, политические дела, он мне толком не объяснил пока…
– Какие ж у нас в Егорьевске политические дела?! – искренне изумилась Любочка. – У нас же, как Ипполит Михайлович съехал, так и ссыльных не осталось, если Веревкина не считать…
– Отчего же не считать?
– Да ну его! – Любочка махнула рукой с великолепно отрепетированным презрением. – Бирюк, еще почище твоего Коронина. Сидит один в немытой избе и пишет историю Тобольского централа. Для будущих поколений… Дурак! Нет, ну вот хоть ты мне скажи, Надя, – вдруг загорячилась Любочка. – Ну вот какое мне дело до будущих поколений, если меня самой там уже не будет и я ничего не увижу? А?
Надя задумалась, потом нерешительно предположила:
– Может быть, это оттого, что там будут твои дети жить? Внуки, правнуки?
– Мои-то будут, – усмехнулась Любочка. – Да им самим разбираться придется. А вот внуки Веревкина, о которых он, по-твоему, радеет… Трудно представить…
– Да уж… – Надя сама не удержалась от улыбки и продолжила, вспомнив. – Так вот же, кроме Веревкина, ты забыла, еще один на поселение приехал – Гавриил Кириллович, кажется? Может, у Ипполита к нему дело?
– Да, Давыдов, я его у Каденьки видала, – согласилась Любочка. – Нормальный, вроде бы, человек, хоть и ссыльный, говорит, шутит, улыбается… Позабыла, верно, но тому удивляться нельзя, потому что ты со своей новостью этого Гавриила Давыдова и все прочее перебила…
– Я?
– А то? И не делай, пожалуйста, такое лицо, будто не понимаешь! Я Измайлова имею в виду, которого ты в тайге подобрала…
– Ну и как он тебе? – независимо поинтересовалась Надя.






