Ратоборцы Югов Алексей
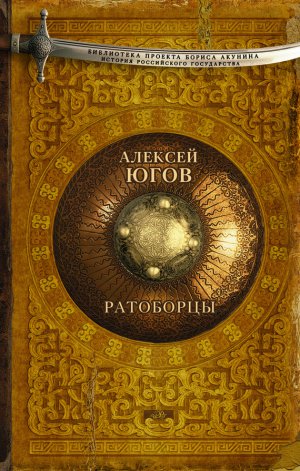
Хатунь вздрогнула – от звука ли его голоса, от неожиданного ли и столь благозвучного по-татарски приветствия ей, сказанного этим русским князем, а быть может, и от впервые услышанного, да еще от чужеземца, титула «императрица», обращенного к ней, – титула, столь вожделенного, которым, однако, именовали не ее, супругу Батыя, а ту, что обитала где-то за Байкалом, эту хитрую Огуль-Гаймышь, которая вертит, как ей вздумается, своим глупым и хилым Куинэ. Подумаешь, «императрица»!..
«Однако где, кем рожден этот высокорослый, темно-русый, нечеловечески прекрасного облика чужеземец?» – так подумалось маленькой ханше с чувством даже некоего испуга, когда оборотила наконец свое набеленное и только в самой середине щек слегка натертое для румянца порошком бодяги плосконосое прелестное лицо.
И уже не понадобилась бы ей сейчас бодяга! – так вспыхнули щеки. Однако буддийски неподвижное, юное лицо маленькой ханши для подданных ее оставалось все так же недосягаемо бесстрастным.
«Понял ли он, этот рус-князь, какие слова я кричала на этих дур? Высечь их надо!» – подумала с беспокойством хатунь и еще больше покраснела. Однако тут же и успокоила себя тем соображением, что, наверное, русский заучил для почтительности и для благопристойности два-три татарских приветствия, как нередко делают даже и купцы – франки и румы. «Сейчас узнаю!»
И, уже вполне справясь со своим волненьем, ханша, не прибегая к переводчикам, слегка гортанным голосом по-татарски обратилась к Даниилу:
– Здравствуй, князь! Мы принимаем тебя, ибо таково было повеленье того, кто излучает свет, приказанье нашего супруга и велителя Бату-каана. Скажи: что можем мы сделать для тебя? О чем ты пришел просить нас?
Положив руки свои – с длинными пунцовыми ногтями – на подлокотники кресла, хатунь застыла в неподражаемом оцепенении.
Черные наклеенные ресницы еще более затенили и без того узкие, хотя и длинные в разрезе глаза.
И снова на ее родном языке, только медленно, необычайный человек ответил:
– Нет, хатунь! Я ничего не пришел просить от щедрот твоих. Но я пришел поклониться тебе тем, что в моих слабых силах. Я пришел засвидетельствовать тебе, что имя твое почитают и народы далекого Запада. Прими, хатунь, пожеланье мое, чтобы ты пребывала вечно в неувядаемой красоте своей. И прошу тебя, отнесись благосклонно к скромному приношению моему!..
Сказав это, Даниил принял из рук мальчика белый, тончайшего костяного кружева, плоский и довольно широкий ларец.
В изящном полуобороте, еще на один шаг приблизясь к престолу, Даниил легким нажимом на потайную пластинку возле замка открыл перед ханшею ларец. Прянула с тихим звоном белая, с большим венецианским зеркалом изнутри, резная крышка, и перед хатунью Батыя сверкнула, повторенная зеркалом, в гнезде голубого бархата, унизанная драгоценными каменьями золотая диадима.
Хатунь пискнула, как мышонок.
Красные высокие каблучки ее туфель стукнули о подножье трона: она привстала.
Но тотчас же и спохватилась, опомнилась. Тонкая меж бровями морщинка досады на самое себя обозначилась на гладком монгольском лбу.
Искоса хатунь глянула по сторонам: видел ли, слышал ли, запомнит ли кто ее восхищеньем исторгнутый возглас?
Но где ж там – и евнухи-чиновники Баракчины, и несколько ее «сенных девушек», и знатнейшие монгольские жены ее свиты, позабыв на мгновенье этикет, заповытягивали шеи, заперешептывались между собою – о диадиме и о ларце. А и не одна только золотая диадима была на том голубом бархате, но и золотые серьги, с подвескою на каждой из одного лишь большого самоцвета – и ничего более! – на тонкой, как паутина, золотой нити, да еще и золотой перстень с вырезанной на его жуковине печатью Баракчины покоились в малых голубых гнездах!
Ханша, уже успокоившаяся немного и притихшая, созерцала то диадиму, то серьги, то самого Даниила.
Что-то говорил ей этот человек – и говорил на ее родном языке, но Баракчина вдруг будто утратила способность понимать речь.
Ее выручил старый евнух – правитель ее личной канцелярии. Простершись перед нею, он промолвил:
– Супруга величайшего! Князь Галицкий, Даниил, просит, чтобы кто-либо из нас, кто разумеет язык греков, огласил бы перед лицом твоим надпись именного перстня-печати: будет ли она благоугодна твоему величеству?
– Да… да… – проговорила Баракчина.
И тогда личный битакчи ханши взял перстень-печать и громко и с подобающей важностью прочел:
– «Баракчина-императрица», – так гласила первая надпись на древнегреческом. А по-уйгурски: «Силою Вечного Неба – печать Баракчины-императрицы».
Маленькая монголка на троне еще более выпрямилась и глубоко-глубоко вдохнула воздух.
Она сделала легкий жест левою рукою, означавший: «Убрать!» Однако ревностные рабыни, скатывая поспешно сукна, произвели шум, и хатунь слегка сдвинула брови. Тогда один из вельмож догадался попросту закрыть всю эту кладовую пурпурным шелковым полотном.
И тогда наконец Баракчина сказала:
– Мы благодарим тебя, князь!
И снова молчание. С великим усилием хатунь отводила взор свой от диадимы. И Даниилу вдруг стало понятно, как хочется этой женщине с лицом отрока Будды выгнать всех, за исключеньем служанки, и поскорее примерить перед зеркалом диадиму и серьги.
Он подыскал слова, с которыми приличествующим образом можно было бы откланяться ханше.
Но в это время хатунь тихим словом подозвала своего битакчи и что-то еле слышимое приказала ему. Сановник быстро подошел к одной из служанок – исхудалой и бледнолицей, возможно русской, – и что-то спросил ее.
Женщина с глубоким поклоном что-то ответила ему.
Он возвратился к престолу и тоже едва слышно проговорил раздельно какие-то слова почти на ухо своей повелительнице.
Баракчина беззвучным шепотом, про себя, как бы стараясь запомнить, несколько раз повторила их.
Даниил в это время, поклонившись, попросил разрешения не утруждать более своим присутствием императрицу.
И тогда, отпуская его, Баракчина, краснея, однако с видом величественным, сказала по-русски – впервые в жизни своей! – слегка по-монгольски надламывая слова:
– Мы хочем тебя увидеть ичо!..
…Приблизительно через час после возвращения из дворца князь принял в своих покоях двух сановников Баракчины: супруга Батыя прислала князю Галицкому большую серебряную мису драгоценного кипрского вина и велела сказать:
– Не привыкли пить молоко. Пей вино!..
А не более как через день после поднесения печати и диадимы один из ярлыков Баракчины с новою печатью – «императрицы», ярлыков, выданных разным лицам по разным поводам, мчался, зашитый в полу халата Ашикбагадура, прямо в Каракорум, в не отступавшие ни перед чем руки Огуль-Гаймышь, в руки великого канцлера Чингия.
Другой же ярлык, с такою же точно печатью, в шапке другого ямчи, Баймура, несся к неистовому, до гроба непримиримому ненавистнику обоих златоордынских братьев – Бату и Берко – к хану Хулагу.
Яблоко Париса докатилось и ударило в цель!
Неслыханное благоволение Батыя к Даниилу простерлось до такой степени, что ему, единственному из князей и владетелей, единственному из герцогов, разрешалось входить к хану, не снимая меча.
И весьма круто изменилось отношение к Галицким среди всевозможных нойонов, батырей, багадуров и прочих – несть им числа! – сановников хана.
Правда, по-прежнему вымогали подарки – все, начиная от канцлера, кончая простым писцом и проводником, однако с некоторой опаскою, и не обижались, не пакостили, получая отказ.
– Что с ними будешь делать, Данило Романович! – восклицал дворский. – Вся Орда на мзде, на взятке стоит!.. Видно, уж ихняя порода такая!..
Особенно же заблаговолил Батый к Даниилу после золотой диадимы и перстня с печатью.
Дар свой, пребывавший у Баракчины в великом почете, князь Галицкий мог созерцать на первом же приеме послов, где ему, вместе с дворским, предоставлено было в зале наипочетнейшее место – на правой, считая от хана, ближней скамье царевичей.
Здесь Даниил впервые увидел Невского, однако и не приветствовал его и даже виду не подал, что знает.
Юный Ярославич нахмурился.
Баракчина, сидевшая на приеме рядом с Батыем на троне-тахте, только одного и приветствовала Даниила легким наклоненьем темноволосой, гладко причесанной головы, которая на сей раз, вместо диковинного убора, увенчана была тою самого диадимой, что преподнес Даниил.
И драгоценные подвески князя также сменили прежние, жемчужные, – и казалось, что реют, что сами плавают вкруг смуглой и стройной шеи ничем не удерживаемые самоцветы.
Особый почет, воздаваемый князю Галицкому на каждом шагу, был всеми и чужеземными замечен.
А были тут, кроме русских князей и послов, кроме грузинского царевича, бесчисленное множество прочих коронованных владетелей: были и от китаев, и кара-китаев, и булгар, и куманов, и меркитов, и туркоманов, и хазаров, самогедов, и от персов, и эфиопов, и от Венгрии, и от сарацинов – всего от сорока и пяти народов!
После большого посольского приема князь был снова позван к Батыю, на этот раз вместе с дворским.
Беседовали за кумысом, пилавом и фруктами – неторопливо, о многом, и мысль и воля карпатского владыки боролись с мыслью и волей азиатского деспота, как бы переплетаясь и обвивая друг друга, подобно двум гладиаторам, которые, уже отбросив мечи, стиснули друг друга в крепком, смертельном, а извне как бы в братском объятии.
– Князь Данило, – сказал вдруг Батый, – почему все приходящие ко мне государи просят у меня один – то, другой – другое, ты же у меня ничего не просишь? Проси: ты отказа не встретишь.
Батый испытующе смотрел в лицо Даниилу.
– Великий каан! – сказал Даниил. – Возврати мне моего Дмитра!
Батый надвинул брови.
– Того нельзя, князь, – угрюмо ответил он.
Наступило молчанье.
– Это, – промолвил, вздохнув, Батый, – даже и вне моей власти! Твой доблестный тумен-агаси недавно умер. Но его прах с великими почестями вашими единоплеменниками похоронен за городом, на христианском кладбище… Я держал Дмитра, хотя он был и захвачен с оружием, поднятым на меня, в великой чести, точно нойона. Дмитр умер…
– Я знал это… – тихо промолвил князь. – Разреши мне перевезти его прах, дабы похоронить на родной, на карпатской земле…
Возвратясь после этой аудиенции, князь и дворский сперва тщательно просмотрели все настенные ковры, а затем стали делиться наблюдениями.
– Да-а… одряхлел хан, – сказал дворский. – И видать, желтенница у него и отек… А будто бы и кила: нет-нет да и за чрево двумя руками схватится… Али желудок у него больной? Онемощнел, – добавил дворский, покачав головой, – а ведь, почитай, боле пяти десятков ему никак не будет. Но то больше от беспутства! Мыслимо ли дело столько иметь жен? В его ли это годы?! Ну и пьянство! Вино-то само собой. Но и кумыз ихний тоже! Я ежели выпью того кумызу три чашки, то и головы делается круженье!
– Как?! – изумился князь. – Ты уже и кумыз пьешь? И не брезгуешь? Так на тебя ж теперь митрополит Кирилл епитимью наложит!
Дворский лукаво отразил нападенье.
– После тебя, княже, что не пить! – воскликнул он. – Коли ты испил – все равно что освятил!..
Даниил рассмеялся и только головой покачал.
– Увертлив! – проговорил он.
А Андрей-дворский, уже и без тени усмешки, продолжал:
– Но если, княже, того кумызу испивать в меру, то на пользу!
– То-то я смотрю на тебя, – пошутил князь, – в бегах, в бегах, а потолстел как!
– Шутки шутками, Данило Романович, – сказал дворский, – но разве я для себя творю? Да ведь мне муторно у них на пиру. Неключимое непотребство творят!.. А говорят между собою – якобы себе в горло, ужасным и невыносимым образом. А как запоют!.. – Дворский схватился за голову. – Как быки али волки!.. А черное молоко свое, тот кобылий кумыз, ведрами пьют, будто лошади, – и то не в пользу!.. Тошно смотреть! А хожу по ним, зане постоянно зовут на гостьбу: то векиль, то какой-либо туман-агаси, то иной какой начальник; а намедни сам букаул позвал – то как не пойти?! – нашему же будет народу во вред!..
– Ох, Андрей Иванович! – сказал Даниил. – Боюсь, отгостят нам они как-нибудь за все сразу! Батый сам говорил мне, что весной собирается в великий поход…
– Ничего, Данило Романович! Поборает Господь и сильных! – успокоил его дворский. – Аще бы и горами качали, то все едино погибели им своей не избегнуть!.. А я про то и хожу и кумыз их кобылий пью, что разведки ради! – сказал он, понизив голос. – Ты знаешь, Данило Романович, – продолжал он, – от кого приглашенье имею на гостьбу? Диву дашься! От Соногура Аеповича, которого ты выгнал. Но уж тут переломить себя не могу! А надо бы сходить. Сей Соногур – он все с Альфредом-рыжим между собой перегащиваются. А Альфред-то враг наш лютый, да и как иначе? – из темпличей, из тевтонов. И Альфредишко тот наушничает хану все на тебя: «Он, мол, не хочет ни войска, ни дани давать… А ты, хан, дескать, ему потакаешь!..»
Так, мешая дело с бездельем, частенько беседовал с князем своим дворский. И тот любил эти беседы его, ибо у дворского был хваткий глаз, и памятливое ухо, и смекалка, и большой ум.
А теперь дворский невозбранно ходил по всей столице улуса – было и заделье: собирать и снаряжать к выезду пленных, которых выкупил у Батыя князь, – и галичан, и волынцев, и киевлян, и берладников.
Так что видел он много – от дворцовых верхов до преисподней, где под бичами надсмотрщиков, в зубовном скрежете, изнемогали и гибли сотнями от каторжного труда, от голода и мороза русские пленные.
– Жалостно зрети на наших людей, княже! – не в силах удержаться от слез, говорил дворский. – Сердце кровью подплывает! Ну, еще мастеры, рукодельцы – те как-никак, а прозябают, друг друга поддерживают: в братствах живут, в гильдиях. Ну а которых татаре к себе разобрали, на услугу, – те на помойках у псов кости отымают, до того оголодали!
И с неистовым рвением, но и с немалой осмотрительностью отбирал дворский пленных для возврата на родину. О каждом узнавал, чем занимался в Орде, каков был для братьев, не отрекся ли от веры и отечества своего.
Однажды к Даниилу пришел в караван-сарай старейшина крымских караимов, плененных Батыем и угнанных в Золотую Орду: он умолял князя выкупить их и поселить где-либо в Галичине. Было их двести семейств.
Князь посоветовался с дворским.
– А дельные люди, князь, и трудовые и оборотистые: от таких государству – польза. Караимы – они и здесь, в Орде, стройно живут. На мой погляд – надо их выкупить, княже.
Князь отпросил у Батыя и караимов.
Шла уже четвертая неделя пребывания князя Даниила в Орде. Дела приходили к завершению. Готовились в обратный путь. Дворский поднимался ни свет ни заря. Возвращался же только под вечер, запыленный, усталый.
– Ух… пришел есмь! – утирая пот красным платком, говаривал он. – Охлопотал караимов! И лошадей под наших пленных дадут, сколько надо. Дровни, сани, хомуты с великой радостью сами взялись строить наши галичаны, волынцы… Княже, – сообщил он, и скорбя и радуясь, – а тот ведь слепец на родину просится ехать!.. А и божевольна дивчина просится.
– Ну дак что ж, возьмем!.. – отвечал князь. – Очи, правда, не возвратишь. Ну а этой девушке, не вернет ли ей рассудок родимая сторонка? Про то не нам знать… А возьми!
Не выходя из своих покоев никуда, помимо аудиенций у Батыя, князь знал и видел благодаря дворскому все, что совершалось во всех закоулках и клеточках утробы чудовищного левиафана, именуемого Золотой Ордой.
А что совершалось в голове этого чудовища – об этом своевременно сведать и разгадать ставил он задачею для себя самого.
Каждая встреча с Батыем, с ханом Берке, с нойонами приносила ему что-либо новое.
Каждодневные доклады Андрея-дворского восполняли недостающее.
Дворский сведал и уразумел в Поволжском улусе многое: начиная от всех тонкостей механизма гениальной китайской администрации, от изумительного устройства конницы буквально вплоть до копыта лошадиного.
– О! Княже! – говорил он. – Долго еще нам с ними не потягаться!
Он принимался рассказывать:
– Смотрел я, смотрел на их конницу: экое сонмище! Где же тут совладать!.. Нет! Доколе союзных нам нету – одна надежда на строителей, на градоделей наших, что крепости созидают, – на Авдия, на Олексу, на прочих! А на чистом поле не устоять! И правильно ты, Данило Романович, устроял. И впредь надо города укреплять. Но и конницы добывать, елико возможно!
Однако воевода, высоко оценивая татарскую конницу в массе, о каждом отдельном всаднике отзывался пренебрежительно:
– Сидит некрепко. Сковырнуть его не долго дело. Телом против наших жидки. А пеши ходить вовсе не способны. Но лошадь ихняя, Данило Романович! – Дворский от восхищения закрывал глаза, прищелкивал языком. – Копыто у ихней лошади твердее железного! Подков не кладут. Некованая отселе и до нашего Карпата дойдет. Копытом своим корм из-под снегу, из-под чичеру выбивает прошлогоднишний! Это есть конь!.. Одним словом – погыбель Западу!
Даниил внимательно слушал его.
– Норов и обычай их пестрый, – говорил дворский. – Есть хорошее, есть худое. Самос лучшее, я считаю: нету у них, чтобы кто из войска сотворил нечто бы самовольно. А когда хан прикажет, то и в огонь головой кинутся! Что царь потребует – свято! И обычай добрый имеют: спать в шатрах при полном вооруженье. И сызмальства, с двух-трех годков, учатся стрелять, и копья метать, и на конях ездить, – учатся, окаянные, художествам сим!
И вдруг разводил руками в недоуменье и начинал осуждать:
– А работать – глядишь, все женщина и женщина! Ленивцы эти татары, мужской полк, и не говори!.. Разве что кобылу когда подоит да кумыз потрясет в турсуке! А с телегами ихними – арбами – все татарушка, бедная, ворочает! Мужик ихний – только бы ему война, да грабеж, да охота! Более нет ничего! Не любит работать!..
Не укрылось от зоркого его взгляда и расслоение Орды:
– Богатый у них тоже бедными помыкает: просто сказать – как вениками трясет! Взять хотя бы кумыз: ведь в том и радость им, и пища, и лакомство. А простой татарин всю зиму и чашки единой кумызу не увидит. У богатых – у тех и всю зиму не переводится. И богаты татары уж до чего же ленивы! – лень ему, барсуку, даже и ладонь свою за спину дотянуть, когда спина зачешется. Но другие ему спину чешут!
Дворский едва не плюнул.
Сильно расхваливал рынки.
– Рынок у них что море!
Не нравилось ему, что при этаком богатстве Орды нет у татар призрения нищих и жалости к больным.
– У нас ведь на Руси к нищим жалостны: издревле ведется. А у татар – захворал, занедужил, сейчас возле шатра черну тряпку на копье взденут: не ходите сюда, здесь больной! Ни больниц у них нету, ни странноприимных домов, ни богаделен!
Иное увиденное им в Орде вдруг неожиданно изумляло и умиляло дворского:
– А огольцы у них, ребятишки, в бабки тешатся, в свайку, ну точно бы наши, галицки!.. Стоял я, долго смотрел. Только понять ихню игру не мог. Девчушки – те в куклы играют, в лепки, в мяч тряпишной… Ну точно бы наши!..
И слеза навернулась на глаза воеводы.
– Не утерпел, княже, дал им леденца: своих ребятишек вспомнил…
Беседы с дворским были не только что пригодны, но подчас и утешительны князю. Иногда же – забавны:
– Хан к сударке пошел…
Поражаясь охвату его наблюдений, Даниил как-то пошутил с ним:
– Эх, Андрей Иванович, и всем бы ты золото, да вот только неграмотен ты у меня! Это не годится! Тебя же и государи западные и послы именуют: «палатинус магнус». Нет! Как только возвратимся в Галич, так сейчас же за книгу тебя посажу. К Мирославу – в науку.
Дворский не полез за словом в карман:
– То воля твоя, княже. Прикажешь – и за альфу сяду, и до омеги дойду! Но только и от книг заходятся человецы, сиречь – безумеют! Ум мой немощен, страшуся такое дело подняти!..
Помолчав, добавил:
– А вот про Батыя говорят, будто и вовсе малограмотен: только что свой подпис может поставить!..
Часть четвертая
Дня за два до выезда из Орды Андрей-дворский сказал Даниилу:
– Княже! Соногур на базаре мне повстречался: тоже всякую снедь закупает на обратный путь. Олександр Ярославич свое отбыл у Батыя: к выезду готовится.
– Когда? – как бы между прочим спросил князь.
– В среду, до паужны.
– Среда – день добрый ко всякому началу, – сказал князь. – Увидишь Поликарпа Вышатича, скажи: брату Олександру кланяюся низко.
Дворский опять заговорил о Соногуре:
– Я ведь не домолвил, княже. Соногур на рынке и говорит мне: «Прискорбно, – говорит, – для меня, если худодумием своим огневал твоего князя. Да простит! Хочу, – молвит, – повинну ему принести: прощенья попросить. Узнай: не допустит ли перед светлые свои очи?»
– Нечего ему у меня делать, – отвечал князь.
– Ино добро! – довольный тем, сказал дворский. – Соногур тот не иначе лазутчик татарский, а и пьяница, празднословец, развратник! – добавил он.
– Вот что, Андрей Иванович, перебью тебя, – сказал князь. – А у тебя все готово в дорогу?
Дворский даже обиделся:
– У меня-то, княже?
– Добре! – сказал князь. – И у меня все готово. А уж досадила мне погань сия донельзя!
– И мне они, княже, натрудили темя пронырством своим бесовским и лукавством! Надоело кумызничать да хитрить с ними: который кого!
– Прекрасно! – заключил князь. – А среда – хорош день для всякого доброго начинанья!
Дворский понял.
Потеплело. Стоял неяркий зимний денек. Шел тихий и редкий снег. В безветрии и не понять было, падают или подымаются большие снежины. Под расписными дугами княжеской тройки звенел золоченый колоколец, а на хомутах пристяжных, ярившихся на тугой вожже, сворачивавшихся в клубок, мелодично погромыхивали серебряные круглые ширкунцы.
Галицкие ехали к северу по льду Волги, держась правого, нагорного берега. Местами начал уже встречаться набережный лесок.
Ехать льдом Волги, дабы не намытариться опять в половецкой степи, посоветовал дворскому Вышатич.
– Зимою мы завсегда так ездим в Орду, – сказал он. – Уж глаже дороги не сыщешь! Суметов гораздо меньше. Только правого берега держитесь. А по стрежени такие крыги в ледостав наворочало – рукой не досягнешь!.. Волгою поезжайте!..
Решено было ехать сперва на север льдом Волги, вплоть до Большой Луки, а там уже свернуть на запад, на устье Медведицы, и далее – прямо на Переславль, людными, хотя и сильно опустошенными местами.
…Князь ехал в возке, но так как было тепло, то откидной верх кибитки, на стальных сгибнях, снаружи кожаный, изнутри обитый войлоком и ковром, был откинут.
Даниил надел тулуп наопашь, сдвинул слегка соболью шапку на затылок и ехал в одном коротком гуцульском полушубке. На его ногах были сапоги из оленьего меха.
Князь дышал отрадно и глубоко.
«Боже! – так думалось Даниилу. – Да неужели же все это позади: Батый, верблюды, кудесники, ишаки и кобылы, лай овчарок, не дававший спать по ночам, и все эти батыри, даруги, нойоны, агаси, исполненные подобострастия и вероломства, их клянча, и происки, и гортанный их, чуждый русскому уху говор, и шныряющие по всем закоулкам – и души и комнаты – узкие глаза?! Эти изматывающие душу Батыевы аудиенции… Неужели все это позади, в пучине минувшего?
Неужели скоро увижу увалы Карпат, звонкий наш бор, белую кипень цветущих вишневых садов… Анку?.. Неужели вновь буду слышать утрами благовест холмских церквей?.. Дубравку мою увижу?!»
Так и порывало крикнуть на облучок, чтобы дал волю тройке лютых коней, которых, однако, сам же он приказывал сдерживать, сколь возможно.
И ехали медленно. Иногда же останавливались и поджидали.
Дворский, ехавший впереди, на розвальнях, чтобы проминать дорогу, то и дело слезал и, пробежав обратно, до конца растянувшегося по белой льдяной равнине галицкого поезда, долго с последней подводы всматривался назад.
Потом возвращался к повозке князя, присаживался на боковом облучке и говорил:
– Еще не видать, княже. Но должны догнать непременно. Поликарп Вышатич заверил в том. А его слово – то все равно что крестное целованье.
И впрямь, когда зимнее солнце, багровое, стало западать на правый берег Волги, когда рубиновой стала снежная пыль, а тени лошадей на снегу сделались неправдоподобно длинными и заостренными, будто неумелой рукой мальчугана выстриженные из синей бумаги, дворский заметил, как из-за белого, накрытого снегом утюга-утеса вымчалась первая заложенная тройкой, яркая ковровая кошевка князя Александра.
Спотыкаясь в снегу, дворский кинулся известить своего князя.
– Едут! – только и смог проговорить он, завалясь в возок Даниила. А когда отдышался, то изъяснил: – Олександр Ярославич догнали нас!..
Уже поблизости звенел новгородский звонкий колоколец, и осаженные на всем скаку, храпя и косясь налитым кровью оком, разгоряченные пристяжные жадно хапали снег.
Прочие сани и кошевы, где разместились дружина и воины Александра, вскоре примкнули в конец поезда галицких.
Даниил поспешно сронил накинутый на плечи тулуп, вышел из возка и пошел навстречу приближавшемуся Александру, высвобождая правую руку из длинной, с раструбом, шагреневой готской перчатки.
То же самое сделал и Александр.
Встреча их произошла на льду Волги, возле выдвинутого над берегом, накрытого сугробом утеса.
На мгновенье остановились. Снова шагнули. Приблизясь, одновременно сняли левой рукой шапки и, обменявшись крепким рукопожатьем, обнялись и облобызались друг с другом троекратным русским лобзаньем.
Легкий парок клубился от их дыханий в зимнем воздухе.
– Сколько лет вожделел сего часа, брат Александр! – промолвил властелин Карпат и Волыни.
– Всей душой тянулся к тебе, брат Данило, – ответствовал голосом столь же благозвучным и мощным, голосом, обладавшим силою перекрывать и само Новгородское вече, победитель Биргера и тевтонов.
Молчали.
Душа их испытывала в тот миг неизреченное наслажденье – наслажденье витязей и вождей, впервые созерцающих один другого!
«Так вот где встретились по-настоящему… Мономаховичи, одного деда внуки!..»
Порошил легкий снежок, ложась на их плечи и волосы. Тишина простерлась над белою Волгой. Лишь изредка вздрагивал под дугой колоколец. Всхрапывал конь. И опять – белая снежная тишина…
На ветвях нависшей с берега, отягощенной пышным снегом березы трескотала сорока, осыпая куржак. И снег падал с ветвей – сам точно белая ветка, разламываясь уже в воздухе. А иногда и долетал не распавшись, и тогда слышно было падение этого снега, а в пухлом сумёте под березой обозначалась продолговатая впадина, будто и от впрямь упавшей ветки.
Оба в оленьих меховых унтах, в коротких княжеских полушубках, светло-румяные, подобные корабельным кедрам, высились Мономаховичи даже и над дружинами своими из отборнейших новогорожан, псковичей и карпаторусов!
О таких вот воскликнул арабский мыслитель и путешественник: «Никогда не видал я людей с более совершенным сложеньем, чем русы! Стройностью они превосходят пальму. У них цветущие и румяные лица».
Даниил любовался Александром:
«Так вот он каков, этот старший Ярославич, вблизи – гроза тевтонов и шведов! – светло-русый, голубоглазый юноша! Да ведь ему лишь недавно двадцать и четыре исполнилось! В сыны мне! Да еще и пушком золотится светло-русая обкладная бородка. И самый голос напоен звоном юности! Но это о нем, однако, об этом юном, пытали меня и Миндовг, и Бэла венгерский, и епископы – брюннский и каменецкий – легаты Иннокентия. Это о нем говорил скупой на хвалу князьям Кирилл-митрополит: „Самсон силою, и молчалив, и премудр, но голос его в народе – аки труба!“
И со светлой, отеческой улыбкой князь Галицкий проговорил:
– Ну… прошу, князь, в шатер мой! – Даниил повел рукой на возок и слегка отступил в снег, пропуская вперед Александра.
Стремглав кинулись по коням, по кошевам и окружавшие их дружинники – новгородцы, суздальцы, волынцы и галичане – и возчики, столпившиеся вокруг.
Облучной князя Даниила разобрал голубые плоские, с золотыми бляхами, вожжи, приосанился, гикнул – и запели колокольцы! И понеслись, окутанные снежною пылью, уже ничем теперь не удерживаемые кони-звери!..
Буранная, безлунная ночь. И хотя по льду, Волгою ехали, но едва было не закружили, – да ведь и широка матерь!
Раза два заехали в невылазный сумёт.
И Андрей-дворский, приостановив ненадолго весь поезд, приказал запалить на передней подводе и на княжеской высоченные берестяные свечи, укрепленные на стальных рогалях, – нечто вроде факелов, туго свернутых из берёсты.
Даниил велел накинуть кожаный верх болховней, в которых они ехали вдвоем с Ярославичем.
Горела в ковровом возке большая восковая свеча, озаряя лица князей.
Мономаховичи, одного деда внуки, – о чем говорили они?
О многом. И о Земле и о семьях. И о Батые и о святейшем отце. О Фридрихе Гогенштауфене и об императоре монголов – Куюке.
И хотя надежнейший из надежных дружинник сидел на козлах княжеского возка, однако князья предпочитали иногда говорить по-латыни.
Ярославич рассказывал, как на сей раз погостилось ему у Батыя. Худо! Хан орал, ярился, кричал, что высадит из Новгорода, а посадит где-нибудь на Москве, чтобы и княжил под рукою, да и чтобы не заносился.
– Москва? – И владыка Карпат и Волыни, как бы припоминая, взглянул на Александра.
Тот ответил:
– Суздальский городец один. Деда, Юрья, любимое сельцо.
Говорили о том, что Миндовг литовский уже захватил и Новгородок на Русской Земле и Волковыск и, по всему видно, зарится на Смоленск.
– Да-а… – сказал Ярославич. – Черный петух литовский не уступит серому кречету Чингиза. Разве крылом послабее! Но продолжай, князь!
И Даниил раскрыл перед Александром свои подозренья. Говорил ему о том, что не случайно же Фридрих-император, только что многошумно сзывавший христианских государей в крестовый против монголов поход, вдруг как-то затих, притулился где-то в своем недосягаемом замке и даже признаков жизни не подал, пока Батыевы полчища топтали земли Германии.
И если бы не воевода чешский, Ярослав из Штаренберга, а в Сербии если бы не князь Шубич-Дринский!..
Да что говорить! Случайно разве – в одночасье с Батыем – и тевтоны и шведы ударили с двух сторон против Александра, приковав к Шелони, к Неве, к Ладоге отборнейшие его силы?!
Ярославич усмехнулся.
– Покойник Григорий-папа – тот анафемствовал даже и меня и новогорожан моих! – сказал он. – Однако прости, брат Даниил, и прошу тебя, продолжай!
И князь Галицкий развернул перед юным братом своим улики чудовищного заговора против Руси.
Германия. Тевтоны. Меченосцы. Шведы. Фридрих Гогенштауфен, фон Грюнинген, ярл Биргер фон Фольконунг – ведь это же отбор среди лучших стратегов Запада! И что же? Все это ринулось не против Батыя, нет! – а против христианской Руси: против Александра и Новгорода, против Даниила и Волыни!






