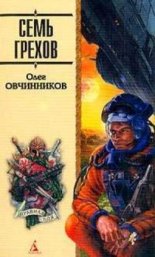Карл, герцог Зорич Александр
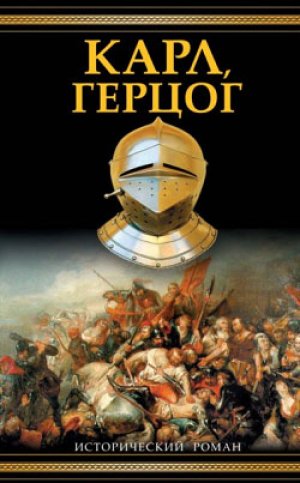
– Твою мать!
Так кричала восхищенная толпа, отвечая восторгом на восторг, и не было самого последнего мерзавца, который не завидовал бы Мартину и в то же время не радовался бы искренне его возвышению и триумфу.
45
Распорядитель подал знак. Блок, через который проходило чудо-вервие Даре, треснул и распался на две беспомощные доли. Мартин, тело Мартина, повторив в реверсивном нисходящем пируэте уже единожды описанную восходящую дугу, скользнул, скользнуло обратно к земле.
Восторг публики излился через край в безудержном хаотическом вое и улюлюкании. Дождались наконец-то, да здравствует фаблио, треснуло, долгие лета, а душа-то едва ли способна воспарить в божественную лузу, вот уж дадут по шее кому-то, я не я буду.
Продравшись сквозь тугие волны отнюдь не злорадных зрителей, Дитрих фон Хелленталь взбежал на вершину холма Святого Бенигния. На обломке копья, как жареная рыбка над огнем, скорчился Мартин.
Роланд-Луи, начисто сорвавший голос за двенадцать часов непрерывной драки, приподнялся на локте и прошептал:
– Жаль пацана.
Шепот избавил его голос от неизбежной фальши, а Дитрих вообще предпочел промолчать, ведь он был убит горем.
На трофейном жеребце подъехал язычник Марсилий. Жестокие законы фаблио требовали от него ядовитой улыбки и слов «Цвет Франции погиб – то видит Бог». Но он понимал: стоит ему улыбнуться и сказать так, и его начнет презревать даже собственное отражение в зеркале.
«На фаблио всегда ровно одно недоразумение, ровно одна пропажа». Карл снял уродливый сарацинский шлем и подошел к Мартину, закутанному в смятые крылья. Нет, он посмотрит на него позже. Карл обернулся к толпе. Карл поднял вверх перчатку, требуя внимания.
– Фаблио окончено.
46
– Он тебе понравится, – всхлипнула Гибор. Прошло уже почти шесть часов, а она все никак не могла успокоиться – словно Мартин действительно был их сыном.
– Понравится, только успокойся.
Гибор полоснула Гвискара взглядом, исполненным немой ярости, и разревелась с новой силой.
Прагматичный Гвискар искренне и оттого вдвойне по-свински недоумевал: чего ради плакать, если свершилось неизбежное и – для них, глиняных скитальцев по дхарме[82] – радостное событие?
Неизбежное – ибо четыре дня назад из дома Юпитера в дом Марса переместилась падающая звезда, и они с Гибор были теми двумя из двадцати миллионов, которые поняли этот знак единственно верным образом.
Радостное – ибо теперь у них впервые появился шанс завести своего настоящего, выстраданного сына, и жить чем-то большим, чем гранадским danse macabre,[83] флорентийскими карнавалами или бургундским фаблио. И вот здесь-то, на этом спонтанно вспыхнувшем и неуточняемом «чем-то большем», Гвискар осознал всю многоярусную фальшь только что сорвавшихся с его языка слов, понял двойное свинство своего искреннего недоумения и, обняв Гибор, прошептал:
– Извини. Я весь сгорел изнутри за эти четыре дня.
– Какой ты нежный, – слабо улыбнулась, наконец-то улыбнулась Гибор и неловко поцеловала Гвискара в подбородок.
47
Греческих стратегов, убитых на чужбине, отправляли в Элладу залитыми медом.
Сердца Роланда, Турпена и Оливье по приказу Карла Великого были извлечены и закутаны в шелк, а их тела омыты в настое перца и вина, зашиты в оленьи кожи и в таком виде прибыли для погребения в Ахен.
Чтобы упокоить прах Мартина в Меце, его тело выварили в извести, кости сложили в серебряную вазу с семью опалами и под траурный колокольный перезвон вверили Дитриху.
Дитрих фон Хелленталь возвращался домой один, верхом. Арфа, меч, Евангелие, ваза с костями приемного племянника – все. Строгий внутренний розгоносец Дитриха запрещал ему проявлять малейшие признаки ликования по поводу смерти подопечного, и поэтому он лишь смиренно молился. Первое: за упокой души Мартина. Второе: за быстрейшее делопроизводство по поводу наследства покойного, которое по справедливости должно попасть в чистые и праведные руки. То есть в его, Дитриха, лапы.
Дитрих очень спешил. Он позволял себе остановиться на отдых только с заходом солнца, ужинал, четверть часа музицировал на арфе, истово молился, спал, вскидывался в пять утра, вновь молился и в половину шестого уже выезжал на дорогу.
На третий день, расположившись в фешенебельном постоялом дворе «У Маккавеюса» на восточной границе бургундских владений, Дитрих впервые позволил себе облегченный вздох. Богопротивная Бургундия, где на проповедях болтают о Тристане, подкопытной пылью растаяла за спиной. Сердце Дитриха пело, душа ликовала, и их согласному крещендо не могли помешать даже спертый дух, оставленный в его комнате предыдущими хозяевами, и скребучий грызун размером с чеширского кота (о чем можно было судить по его грузной возне в подполье). Сон Дитриха впервые со дня отъезда из Меца был глубоким и ровным, а по пробуждении он обнаружил, что серебряная ваза с семью опалами бесследно исчезла.
Путного разговора при посредстве клинка и тевтонского неколебимого духа с хозяином постоялого двора не вышло, ибо у Маккавеюса оказалось шестеро братьев, пятеро сыновей и трое заезжих шурьев. Каждый формата одесского биндюжника и с основательным вилланским дубьем. После умеренного скандала Дитрих почел за лучшее оплатить перерубленный стол и убрался прочь, пылая жаждой мщения.
На пятой миле он успокоился. На десятой – понял, сколь сильно на самом деле тяготился прахом приемного племянника. А на двадцатой миле решил, что если проклятой Бургундии в лице анонимных воров было угодно прибрать не только жизнь, но и кости Мартина – так на здоровье, пусть подавится своими семью опалами.
Глава 6
Расследование
Погонимся за врагами нашими и посмотрим, не сможем ли мы как-нибудь поживиться от них.
Петр из Дусбурга[84]
1
Даре – Людовику
Пока было за чем следить, король Франции Людовик следил за перипетиями бургундского фаблио глазами своих шпионов – ревниво, завистливо, с интересом. Но фаблио окончилось почти месяц тому назад, а запасливый Людовик по-прежнему лакомился агентурным десертом. Мастер Даре Арльский, тот, что поставил декорации для «Роланда», подвизался теперь при французском дворе.
Интерес Людовика отличала тотальность. Но тотальность неумолимо подразумевает неразборчивость, а неразборчивость – безразличие. Людовику нравилось казаться безразличным. Это довольно респектабельно – выглядеть опытным собирателем фактов, по мелочам пополняющим коллекцию.
Людовик слушал в три уха. Но чтобы оттенить свое коллекционерство, ел лущенные грецкие орешки, монотонно, как кочегар, выуживая их из милой тонкостенной вазочки и закидывая скульптурные четвертинки в пасть горстками и поодиночке. Причмокивал, сплевывал горькие переборки орехового средостения, причем, случалось, отдельные обломки приземлялись Даре на колени. Людовик не находил нужным извиняться. Он был уверен, что поступает правильно – подданные, слуги, агенты, дипломаты, как и то, что они сообщают, должны быть презреваемы. Иначе они залезут тебе на шею, возгордясь своей полезностью, а потом будут дергать тебя за усы, пока не додумаются до конституции, республики и гильотины.
Когда ореховая соринка приземлилась на щеку Альфонсу Даре, речь как раз зашла о Мартине фон Остхофен. О его жизни, смерти и о том, что произошло промеж этим.
– Думаете, это был несчастный случай? – подстрекал Людовик. – Вот вы лично верите, что треснул какой-то блок, оборвалась ваша «веревка-невидимка», и несчастный упал на копья?
– Ни на миг не допускаю! – податливо горячился Даре. – Я занимаюсь машинами для зрелищ четверть века и ни разу нигде ничего не ломалось, не трескалось. А тот блок, что якобы треснул, был сработан мною собственноручно из каменного дуба и трое суток томлен в перечном масле. Он выдержал бы возок, запряженный двумя першеронами, не то что мальчика. О веревке и говорить нечего.
– В самом деле? – оживился Людовик, несколько более чем из одной вежливости.
Даре негодовал. Под монаршим каблуком вскрикнула больная мозоль, именуемая цеховой честью.
– Нет, ни на минуту не допускаю! Ясно же, что Мартина фон Остхофен убили, а затем обставили все задним числом так, будто виноваты блок и веревка.
– Сдается мне, вы несколько, кхе-кхе, преувеличиваете. – Людовик чуть не поперхнулся, шершавая ореховина ободрала ему небо. – Зачем убивать мальчика, который не дофин и не свидетель убийства дофина? Неужто в Дижоне не сыскалось более логичных жертв и, если уж на то пошло, более изысканных методов? Это все воображение, воображение, – играл Людовик, склоняя Даре к новым признаниям.
– Я уверен – его убили, – твердил Даре.
– Это воображение!
– Его убили.
– Это воображение! – припечатал Людовик и помолчал, закрепляя успех. А потом с умеренной иронией осведомился: – И кто же, по вашему мнению?
– Мне все равно. Может быть, его опекун – парень был богат, и этот Дитрих фон Хелленталь после его кончины урвал порядочное наследство. Может, Дитрих был в тайном сговоре с третьим лицом или еще что. Марсель, мой сын, был ближе знаком с Мартином и со сплетнями вокруг него.
– И что Марсель? – Людовик даже перестал жевать.
– Он как-то говорил, что Мартин испытывал к графу Шароле нечто вроде приязни: ходил хвостом, баснословно задаривал, что они все время нежничали. Не помню точно, что-то было такое даже про любовь, которая себя назвать не смеет.
– Ваш Марсель, я вижу, унаследовал от вас богатое воображение. Кстати, где он?
– Умер, Ваше Величество. Я неделю назад снял траур. Он заразился от матушки, когда ходил за ней, – сдержанно ответил Даре и поцеловал величеству руку. Осколки опрокинутой вазочки вперемешку с недоеденными орехами хрустнули под его преклоненным коленом.
2
Людовик – Фридриху
Впечатленный Людовик пожаловал горемыке Даре одежду со своего плеча – бледно-синие в обтяжку рейтузы, сорочку и парчовый пурпуэн.[85] Остроконечный носок туфли пажа Людовика, несшего одежду на столовом подносе в покои Даре, зацепился за железную петельку на обочине лестницы – при помощи множества таких петелек держали в узде, не позволяя выходить из берегов, ковровые дорожки. Их расстилали по случаю. Сейчас ковровых дорожек не было.
Паж потерял равновесие и едва не растянулся в полный рост, но в последний момент, по-чаплински изогнувшись, устоял. Некто Оливье ле Дэн по прозвищу Дьявол злодейски расхохотался – он обожал курьезные падения, даже несостоявшиеся.
Празднично улыбаясь, пересмешник ле Дэн снарядил коня и заныкал в рукав письмо, посредством которого Людовик сносился с гроссмейстером Тевтонского ордена Фридрихом фон Рихтенбергом, первейшим покровителем семейства Остхофен. Если отжать светские тюр-лю-лю-лю, текст письма усохнет до спартанской радиограммы: «Имею сведения, что Мартин фон Остхофен погиб отнюдь не в результате несчастного случая, но был убит. Разберемся?»
3
Гельмут – Филиппу
Филипп Добрый пребывал в канцелярии среди своей излюбленнейшей канцелярской сволочи. Братья-бенедиктинцы, книгочеи и кошкодавы, трудились. Филипп надзирал.
Что может быть лучше этого? – фолианты, фолианты, папки от пола до потолка, нумерные архивные ящички – хранители эпистул входящих и исходящих, истинный латинский Плиний, в котором каждая буковка являет собой буковку, и в этом почивает совершенство. Филипп дремал, убаюканный стохастическим шорохом писчих тростинок. Филипп дремал, и в его visiones,[86] монотонных, как стансы уголовного кодекса, бессловесно совокуплялись пастухи и пастушки, пастухи и пастушки, до бесконечности, до изнеможения.
Вывалив раскрасневшийся от острой бургундской кухни язык встречь июньскому солнцу, Луи был занят недеянием на ступенях канцелярии, куда он зачем-то был послан Карлом, но по пути предмет поручения кстати забылся, и теперь Луи сыто цепенел – цель прямого путешествия была утрачена, а обратное, дабы переспросить, виделось хлопотным и чреватым – герцоги бургундские отходчивы, но поначалу очень уж вспыльчивы.
– Милейший, это канцелярия?
Говорили тихо и как бы в пустоту, ненаправленно. Луи продолжал жмуриться.
– Делает вид, что не слышит, – пояснил второй голос.
– Вы, который сушит язык, с вами говорят, – громче и ближе.
Вынужденный открыть глаза, Луи вопросительно посмотрел на первого, на второго, снова на первого.
– Чем могу служить?
– Нам сказали, герцог Филипп в канцелярии. Это канцелярия?
– Это. Сюда, разумеется, нельзя, – злорадно сказал Луи в уплату за «который сушит язык».
Обдав Луи прохладным дуновением, посетители исчезли за дверью.
Луи, ожидавший долгого базара, шумно выдохнул «ух». Бесцеремонность двоих в штатском была дика и немыслима. Луи отодрал расплющенную задницу от ступеней и сделал несколько ни к чему не обязывающих шагов. Так, на всяк про всяк. Пусть все думают, что здесь нет ни тайны, ни загадки.
Филипп слышал скрип двери и, как потом вспоминал, расслышал даже ассонансную вытяжку из запретительного замечания Луи (э-а-е-я), чей чистый тенор держали при дворе за красивую безделушку, и здесь важно «красивую», а не «безделушку».
Они заполнили плоскость по канонам ассирийского официоза: Филипп велик и профилирован слева, неизвестные в штатском, каждый в отдельности меньший великого, но в паре перевешивающие, тяжелые и ладные, профилированы справа. Монахи же по знаку хозяина покинули местодействие и в стеле не увековечены. Заполнив же плоскость, посетители говорили в надлежащей очередности, и никто не посмел бы упрекнуть Филиппа в потере достоинства, а прочих – в косноязычии и скудоумии, пусть даже небо назовут землей, а землю – небом, что безразлично.
– Государь, – первый провел ладонью по столу, стирая дымчатую пыльную плеву, – мы представляем весьма достойную организацию – Орден Тевтонских братьев. Я – комтур ордена Гельмут фон Герзе, мой спутник – брат-причетник Иоганн Руденмейер,[87] толкователь законов Божеских и людских. Вот наши верительные грамоты.
На унавоженную чистотой гладь стола легли бумаги, выгнутые арками или, напротив, ладьями.
Филипп молча кивнул, не удостоив грамоты внимания. Любой ответ на подобный наезд, любая попытка потянуться за выложенными – не переданными из рук в руки! – грамотами низвели бы его до ранга мелкого дворянчика, на щите которого написано спесивое «Никто не лапнет меня беззастенчиво» ну или там по-другому.
Зафиксировав в своем интернальном протоколе комильфотную мудрость государя, Гельмут вел далее:
– Нас, между тем, не двое. С нами в Дижоне пребывает с сегодняшнего утра также третье лицо духовно-рыцарского сана, известный вам Дитрих фон Хелленталь, опекун покойного Мартина фон Остхофен. Орден весьма обеспокоен недавними событиями, приведшими к столь спорной кончине упомянутого отрока, и считает делом чести добиться кристальной ясности в вопросе его смерти, обстоятельства которой позволяют заподозрить вмешательство коварной и злой воли. Человека ли, демона ли – не составляет, в сущности, содержательной разницы, ибо Господь вложил в наши руки меч обоюдоострый – и светский, и духовный.
– Монсеньоры, – завел волынку Филипп, питаясь живительной бумажностью канцелярии, – ни вы, ни тем более почтенный Дитрих фон Хелленталь, не можете пребывать в неизвестности относительно всех подробностей дела упомянутого отрока, сорокадневная служба по которому в нашем кафедральном соборе была оплачена мною более чем щедро. Всему виной недобросовестность одного из наших людей, просмотревшего трещину в блоке. Он был уличен, лишен исповеди и последнего причастия, а затем повешен при малом стечении публики, но, заметьте, в присутствии монсеньора Дитриха. Таким образом, было преступление, было, однако, и возмездие. Боюсь, что ваше расследование не достигнет цели, ибо нельзя дважды казнить одного преступника, а иные не сыщутся. Таково положение вещей здесь, в Бургундии, монсеньоры, – закончил Филипп, изучая пустоту в просвете между главами тевтонов.
Гельмут ответил сразу же, будто бы они играли в буриме и установили правило языком промедлившего украсить кокарду победителя-острослова.
– Орден исполнен глубокого уважения к бургундскому правосудию и ни в коем случае не склонен сомневаться в вашей искренности, государь, равно как и в верности ваших вассалов, проявивших, бесспорно, должное рвение в наказании виновных. Увы, заблуждение, пусть самое чистосердечное, благое – частый гость на судебных разбирательствах, в особенности когда преступник искушен в своем темном ремесле. Христианский мир за пределами бургундских земель полнится пошлыми слухами. Христианский мир, увы, не желает удовлетвориться предложенной версией смерти Мартина фон Остхофен. Эти слухи не идут на пользу в первую очередь бургундскому двору и, следовательно, полное и гласное уличение истинных убийц послужит лишь возвышению Бургундского Дома, сколь бы ни были неожиданны результаты нашего расследования. Уместно также указать, государь, на высочайший авторитет Ордена при дворе нашего общего сюзерена, императора германской нации Фридриха. Наш отчет об убийстве Мартина, а мы беремся утверждать, что речь идет о преднамеренном убийстве, будет вынесен на рассмотрение императорского Совета, где также намечено обсуждение вопроса о взымании прямого налога с лотарингских ленов. Едва ли кто-то осмелится оспаривать бургундские откупные права на Лотарингию, если будет удостоверено, что в герцогстве правит святой закон, а не химеры флорентийских карнавалов. Поэтому мы нижайше просим вас, государь, дать нам достаточную свободу действий для исполнения нашего служебного долга.
Филипп Добрый, герцог, отнюдь не химера флорентийского карнавала, Филипп, лишь одна из многих химер бургундского фаблио, был окован и искусно инкрустирован хрустальной тевтонской логикой по самые помидоры. Внедрение инородных тел следователей в нежную архитектонику дижонского двора не сулило ничего хорошего в любом из узлов необозримого древа сослагательно-событийных ветвлений. Но, радость моя, изгнание тевтонов за сто первый километр, гневное «Подите вон!» или несчастный случай на дороге с привлечением разбойников или сверхъестественных сил – пустяк, мелочь, просто весьма несчастный случай в череде не таких артикулированных несчастных случаев, составляющих наше существование – все это будет плохо, определенно плоше, о чем в аристотелевой «Политике» (взор Филиппа, бихевиористической машины, чиркнул по соответствующему стеллажу) написано недвусмысленно и с должной лапидарностью.
– Что ж, монсеньоры, – сказал Филипп, размягченный шантажом, – я не буду возражать, если результаты нашего правосудия будут подкреплены авторитетом следователей Ордена и тем самым обретут недостающую убедительность в глазах христианского мира. Располагайтесь в дипломатической гостинице. Я позволяю вам вести дело так, как вы считаете нужным, при условии, разумеется, что все обстоятельства расследования будут доводиться до моего сведения во всех подробностях. Засим полагаю аудиенцию завершенной.
В то время как Гельмут собирал арки, подбирал ладьи и возвращал им первоначальную форму свитков, вдруг завелся Иоганн:
– Прошу прощения, государь, – Филиппу в спину камешком, – мы не оговорили важную юридическую тонкость, что может привести к опасному недоразумению.
И уже в лицо нехотя обернувшемуся Филиппу:
– А именно вопрос об уличенном преступнике, буде, разумеется, мы предоставим неопровержимые свидетельства его вины. Положим, пока еще неведомый злоумышленник окажется особой дворянского звания, находящейся на службе при бургундском дворе. Мы ни минуты не сомневаемся в беспристрастности Вашей Светлости, и все же просим извинить нашу дерзость. Мы хотели бы услышать из ваших уст подтверждение тому, что преступника постигнет заслуженное возмездие.
– Всякого постигнет заслуженное возмездие, – благочестиво заверил Филипп.
4
Сен-Поль – Гельмуту
– А вы не могли бы рассказать мне о Дитрихе фон Хелленталь и его пребывании в Дижоне поподробнее?
Господин экс-распорядитель на фаблио, эрудит и сластолюбец, держатель бойцовых петухов и отменный щеголь, отпустил портного в состоянии вселенской усталости, какую испытывает, думается, зрелый шелковичный червь, волею Творца обреченный пятьдесят раз окукливаться и пятьдесят же раз менять едва прикинутый кокон на другой – не исключено, лучший; худший, не исключено.
«Так я буду слишком красен. И берет, и штаны, и куртка – все красное, что за бычий темперамент. А так, с этими разрезами по самые подмышки, буду чистый англичанин. И ладно бы путевый англичанин, так нет – капитан шотландских стрелков, трактирный буян, противный мальчик. Черное с золотом – эффектно, броско, но, увы, приелось всем стараниями нашего пылкого графа», – в конечном итоге он пропустил обед у де Круа, где обещали подавать чудного заморского фазана, глаголющего юношеским голосом оракулы, недурно, между прочим, сложенные александрийским стихом. А ныне, в увенчание паскудного дня, лишенный просодических услад, голодный, обутый, кстати, в совсем уже неприличные туфли, которые давно пора отослать именитым нищим родственникам в Лилль, Сен-Поль вынужден говорить с этим типом, который отличается от Дитриха только именем. Что тебе сказать о Дитрихе? Рассмотрись в зеркале получше, мудак.
– С удовольствием, монсеньор Гельмут. Единственно, хотел бы узнать: наш разговор носит ведь характер совершенно откровенного, но и глубоко конфиденциального, не так ли?
– О да, несомненно.
– В таком случае мне, конечно, не следует опасаться, что мои слова достигнут ушей вашего холодного соотечественника… С первого взгляда я нашел его человеком несветским, угрюмым, а ведь если май-прелестник, май, как говорится, забавник, не в состоянии расшевелить человека, воззвать его к радости, то страшно и подумать, каков он промозглым ноябрьским вечером. Я имел с ним несколько бесед о бургундском образе жизни – в преддверии фаблио мне хотелось, чтобы все гости отчетливо представляли себе суть нашего празднества – и нашел, что он не просто нелюдим, но и, представьте, весь буквально напитан черной желчью. Так, однажды он спросил, во что обходится фаблио. Это не секрет, это предмет нашей бургундской гордости, что мы ежегодно тратим на майские игры сто двадцать тысяч флоринов. «Сто двадцать тысяч флоринов! – Воскликнул он, бледнея. – Когда мне хватило бы и пятисот!» А ведь я не предлагал ему и двух, ибо деньги герцогской казны есть деньги герцогской казны, и монсеньор Филипп вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. А монсеньору Дитриху фон Хелленталь не должно быть никакого дела до этих средств, из чего я и заключил, что Богу нет места в его душе, где навеки воцарился златой телец, и он…
– М-да, – нейтрально протянул Гельмут, – да.
Поговорили еще с полчаса о пустяках.
Неожиданно Сен-Поль выпалил:
– Поэтому, если хотите мое мнение, вот оно: Мартина убил Дитрих. Убил, чтобы присвоить его наследство.
5
Сен-Поль – Людовику
Лежа по-любому думается лучше. Когда задаются вопросом «А думают ли животные?», то представляют себе лежащего пса с умными глазами или бородатого, в шапке, заломленной на лбу, жнеца, растянувшегося на брейгелевском холме, локти под голову. Ты всегда лежишь после занятий любовью, даже если занимался ею стоя. После, кстати, превосходно думается, а еще после – спится. Сен-Поль лежал с закрытыми глазами.
С головы Гельмута, которой тевтон покачивал встречь каждому обличительному выпаду Сен-Поля, упал волос. Можно даже сказать, что Гельмут позабыл свой длинный седой волос на колченогом столе, сообщающем запасную горизонталь гостиной Сен-Поля. Можно даже пойти дальше и предположить, что это было сделано с умыслом, чтобы позднее под благовидным предлогом вернуться, дескать, я позабыл на столе свой гордый тевтонский волос, вернуться в самый неурочный час, предрассветный, и уже третировать Сен-Поля до полного изнеможения. Или так: лесные феи охотно оставляют влюбленным героям магические предметы – пояса, кольца, подвязки (почему бы не волос?) с тем, чтобы, возжелайся герою свидеться, он мог вызвать фею из астрала, проделав с фетишем условленную манипуляцию. Провернув кольцо на мизинце, подцепив подвязку. Принцип работы тот же, что у шнурка для вызова прислуги. Сделай – фея появится. Сен-Полю стало не по себе от мысли, что, разорви он волос пополам (как в таких случаях положено), не ровен час появится фей Гельмут:
– А вы не могли бы рассказать мне о феях и их пребывании в вашем лесу поподробнее?
Тевтоны ему, конечно, не поверили. Как обычно, потому что не хотели. Они не хотят, чтобы виновным в смерти Мартина оказался тевтон. Преступником, по замыслу следствия, непременно должен быть уроженец Бургундии, причем дворянин, причем не какой-нибудь худородный с перхотью на плечах и распахнутой настежь мотней, а такой, какого было бы смачно уличить. Сен-Полю было тревожно, потому что он понимал: сам он является чудо каким кандидатом на эту вакансию.
Тевтоны копают для него ямку.
Провидческий слух Сен-Поля, растревоженный Гельмутом, уловил слабые, негармоничные обертоны надвигающегося скандала со своим непременным участием. Без него судилище не обойдется, как не обошлось фаблио. Эта сценарная незаменимость портила аппетит – не хотелось есть, не хотелось гулять, не хотелось женщин. Сен-Поль расправил рейтузы, под которыми волей-неволей контурировалось его мужеское достоинство.
Гельмут ушел, а Сен-Поль остался. Он лежал. Он думал. Увы, стало очевидно, что доказать свою невиновность в случае чего ему не удастся. Что у него есть? Кора с каракулями Мартина? Стило с кровью Мартина? Тем хуже. Все это с легкостью начинает свидетельствовать в пользу Гельмута. Из личного опыта Сен-Поль знал, что шансы на удачу падают по мере того, как возрастают мощь и хаотичность прилагаемых усилий. Так что же делать? Запасать алиби? Искать правосудия у Филиппа, который, кажется, с этими тевтонами заодно и сдаст его с потрохами, лишь бы Карловы похождения не подверглись огласке?
Увы, оставалось то, что остается всем, кого зачерпнули сачком для ловли человеческих пиявок, всем, чей сапог накрепко застрял промеж двух неподъемных скрижалей кармы. Оставалось попытаться сбежать. Где он, этот вольный край, Chiortovy Kulichki?
Сен-Поль плохо представлял себе, как нужно это делать – бежать от опасности – хотя в общем, как обычно, все было ясно. Правильно скрепленная последовательность «приуготовления» – «дополнительные приуготовления» – «собственно бегство» в теории гарантировала спасение. Но многие опции в ней пока не были правильно выставлены. Нельзя было вот так, вот сейчас, покинуть насиженное место.
Неопределенной оставалась конечная станция, неизвестным – имя убежища. От бывших друзей, как водится, бегут к бывшим врагам. Врагов у Бургундии валом – выбирай на вкус, все равно пожалеешь и все равно будет уже поздно. Это как с женщинами: из толпы одинаковых нужно выудить одну, чтобы затем какое-то время считать ее самой подходящей. Сен-Поль запустил руку в рейтузы и погладил себя, настрадавшегося.
Волос на столе невзначай стал пахнуть Гельмутом – жженым салом, старым вязом и ржавчиной. Сен-Полю показалось, что пока он так лежит, волос успел свернуться пригласительной удавкой. Стоп. Дворян не вешают. Под рейтузами, где поначалу царил полный штиль, пришли в движение соки. Размышления продолжались. В чем его могут обвинить? В том, что он, как распорядитель, устроил все так, что Мартин убился. Все свидетели «устроений» мертвы, кроме Жювеля, чтоб он сдох. Но может еще кто-нибудь видел, как он нес тело через лесок? Как он стоял над мальчиком и читал надпись на коре? Какой-нибудь грибник, лесник, дух источника? А вдруг этот Гельмут не так христианен, как выглядит, и не погнушается обратиться за помощью к… Чтобы покончить с навязчивыми тевтонским мыслеобразом, Сен-Поль хотел было осенить себя крестным знамением, но его правая рука, его десница, была занята. Она жалела Сен-Поля, вздымая айвазовскими волнами добротные шерстяные рейтузы зеленого цвета, цвета влюбленности. Креститься левой нельзя. Да и вообще делать обе эти вещи одновременно, попеременно или непосредственно последовательно представлялось Сен-Полю кощунством.
Над графом, как летучие акулы над Летучим Голландцем, кружили мысли о бегстве.
Из врагов Бургундии Сен-Поль отдал предпочтение французскому вождеству под началом Людовика. В Дижоне несчетно раз крыли матом Париж, французские порядки и французского государя. Это означало, что в Париже не так уж дурно. К примеру, султана Мегмета с его языческой бандой поругивали умеренно. Итальянских дожей[88] вспоминали часто, но склоняли редко, оправдывая это тем, что в Италии люди устроены иначе, на манер антиподов, а значит им, наверное, лучше быть под дожами. От тоскливой степенности англичан и их угрюмых, свинцово-мерзостных междоусобий у Сен-Поля, имевшего библейские россыпи английской родни, с детства сводило скулы. Итак, бежать к Людовику.
Дыхание Сен-Поля стало вкрадчивым и частым. К Людовику! При всех «за» это все равно что бежать к Гаю Калигуле. Сен-Поль исполнился самосостраданием и задул свечу – он помогал себе как мог, но облегчение не приходило. Наверное, свет мешал, решил он. Под рейтузы отправилась левая рука, также отменно милосердная.
Беглецу положено снестись с врагом бывших друзей посредством письма. Это особый текст, он вне географии, вне истории.
«Здесь плохо, здесь меня притесняют и не ценят. У вас все лучше, и мне по душе ваш мудрый образ правления. Я готов служить вам. Падаю в ноги. Возьмите меня к себе. Я полезный, хороший мальчик». К этому следует приложить трехэтажные формулы вежливости, неуклюжие книксены и несуразные описочки (у них своя роль – свидетельствовать о волнении корреспондента, его чистосердечном трепете, о том, что письмо не замусолено рассудочным расчетом, а, напротив, есмь вдохновенный крик души).
Та голова, с которой упал волос, исполнена флюидов мщения, да и сам волос тоже. Сен-Поль бросит его в огонь, нет, вышвырнет на помойку, но не притрагиваясь руками – руки у него заняты. Затем заберет самое дорогое и ускачет в Париж. Пусть разбираются сами, кто убил Мартина, где, за что и зачем. Но самоустраниться можно будет не раньше, чем Людовик призовет к себе своего блудного сына, графа Сен-Поля. Не раньше, чем ему будет дозволено свить гнездо у ног справедливого и мудрого монарха. Стало быть, придется ждать ответа. Бегство – это то, чего еще нужно дождаться. На глаза Сен-Поля навернулись слезы, и пролил он семя свое на все и вся, обернувшееся столь скверным образом.
Слуга, поспешивший на вызов, отнес рейтузы прачке. Перо Сен-Поля возносило скрипучие похвалы Людовику.
6
Франсуаза – Гельмуту
– Я пришла, потому что говорили – вас интересует, кто убил Мартина.
Гельмут покосился на девушку и сделал согласительный жест вроде «говорите дальше, не останавливайтесь».
– Так я правильно понимаю? Интересует?
– Это в общем верно… ну а кто вам сообщил? Или это… впрочем, ладно, продолжайте, – Гельмут, как и все рыцари Ордена, с трудом включался в беседы со шлюхами. Даже деловые.
– Говорят… мало ли кто, знаете, говорит, важно, чтобы это была правда. Так?
– Разумно, продолжайте…
– Если вас интересует, то я, конечно же, знаю, кто его убил. Это очень просто – всегда найдется кто-то, кому кто-то не по душе. И вот этот, кому не по душе другой, в один прекрасный момент гоп – да и перережет веревочку, например. Ну это так, к слову. Впрочем…
– Что?
– Ну, впрочем, например, я даже знаю кто это был, кому не по душе был, скажем, Мартин. Это интересно?
Гельмут старательно выражал одобрение и поощрение. Конечно, это очень интересно, даже если полная чушь.
– Говорите что знаете, а я отвечу, интересно или нет. Быть может, ваши сведения тривиальны или общедоступны?
«Триви-тривиальны?» Франсуаза почувствовала, что ее собираются надуть.
– Нет, они полезные. Я слыхала, что за полезные сведения полагается денежка. И я, конечно же, очень интересуюсь ее размерами. Скажите честной девушке, какие размеры?
– Пятьдесят флоринов, если укажете убийцу и сможете доказать. И ничего – если нет. Понятно? – пригласив Франсуазу следовать рядом, Гельмут двинулся по дорожке вглубь парка.
Двести шагов туда, двести десять шагов назад, десять шагов в жертву анизотропии пространства,[89] усталости, небольшому подъему. Пятьдесят флоринов?! Как же, как же, достанет и двадцати. Разве что если докажет, что убийца Филипп или Карл – лучше всего если Карл. Пятьдесят флоринов!
Франсуаза трезво взвесила свои шансы в этих торгах и обиженно поджала губки.
– То есть вы мне не заплатите. Ладно. Я скажу, кто убил Мартина, а доказывать ничего не буду. Если вам интересно – платите двадцать флоринов, тогда я скажу еще зачем и почему. Не хотите – не надо.
– Кто же, по-вашему, убил Мартина?
Франсуаза смолкла. С тем же дальним прицелом молчит учитель, спросивший у класса: «В каком году почил герцог Карл Смелый?». И только, садонасладившись озадаченным сопением и дежурными шутками вроде «А я и не знал, что он болел», упоенно возвещает: «Ну конечно же в одна тысяча четыреста семьдесят седьмом году».
– Ну конечно же Сен-Поль, – выдала Франсуаза.
Вместо того, чтобы хлопнуть себя широкой ладонью по широкому лбу со словами: «Как это я сразу не догадался?!», Гельмут повел головой из стороны в сторону, словно это движение позволяло ему лучше впитать и равномернее распределить информацию между клетками мозга.
– Сен-Поль. Хорошо.
– Ну так что, – Франсуаза раскрыла ладошку, – двадцать флоринов мне?
– Говори дальше.
– Так. Граф Сен-Поль убил Мартина. Он ревнивец, это хорошо известно и без меня. Сен-Поль, я имею в виду. Его подруга Лютеция, Вы знаете ее? Так вот она заодно и моя подруга не в том смысле разумеется что подруга Сен-Поля но она очень доверяет мне поскольку мы с ней в молодые годы были ну работали что ли вместе то она до сих пор мне все говорит это порой интересно так она когда фаблио было в самом разгаре а Мартин еще был жив то говорила мне как они ну вы понимаете с Мартином словом как она спала с Мартином хотя он совсем был мальчишка она говорит он влюблен был в нее без памяти ну вы знаете когда совсем еще мальчишка ему было так просто влюбиться но она говорила он ух был силен в постели ну постель то у них понятно в кустах была но он ее всю измучил такой он был горячий маль…
Франсуаза осеклась на полуслове. Ей показалось, будто рука Гельмута незаметно, хотя вполне даже заметно, куда-то юркнула, быть может дремать, убаюканная ее бойкой трелью, а может поцеловать на прощанье свои двадцать флоринов, которые ей, этой руке, уже не принадлежали. Гельмут недоуменно покосился на Франсуазу. Они остановились.
– Значит, она спала с Мартином, – Гельмут был показательно деловит. – И дальше…
– А дальше Мартин, глупыш, даже клялся ей, что он кого-то убьет. Сен-Поля, кажется. Ну вы же понимаете, как он ее ревновал! Ну а тот тоже ревновал, но, видно, шибчее или был расторопнее. Словом, убил он мальчишку, хотя кто его знает – не убей он его, так искали бы вы теперь убийцу Сен-Поля. Лютеция очень переживала. Вы ее, наверное, не беспокойте, хорошо?
– Почему же? Теперь мне просто необходимо поговорить с ней.
– Ну я хотела сказать, не надо говорить, что это я вам все рассказала. Так лучше – если она не будет знать. А то ведь зачем ей знать?
– Приятно было побеседовать, – деньги перекочевали из рук в руки. – Очень хорошо, что вы пришли, надеюсь, в будущем нас еще ждут минуты общения, – деньги пересчитаны, – но сейчас к сожалению я должен спешить, – Франсуаза в гневе («Десять флоринов, всего лишь десять, какая скотина, мы же договаривались!»), – мне еще предстоит разговор с Лютецией. Или вы хотите, чтобы я вам дал еще десять? – этот неожиданный вопрос поставил гордячку Франсуазу в тупик. Но ненадолго.
– Да, то есть да, то есть конечно, то есть да, то есть… нет, то есть катитесь вы к черту, денег ему жалко, скупердяй хренов, – разгоряченная Франсуаза зашагала по дорожке к прудам, куда ей совсем не было нужно.
7
Лютеция – Гельмуту
Лютеция жила в самом сыром и самом левом флигеле замка. Дверь была резная, петли старые, но без скрипа. Лютеция аккуратно смазывала их оливковым маслом, которое исправно тащила с ужинов и обедов. Смазывала и любовно протирала тряпочкой, как если бы это был маузер. Гельмут замер возле двери и принюхался – оливковое масло, что ли? Накануне был тот самый День Умащения Петель, но Гельмуту вдруг подумалось, что он заблудился и оказался у кладовой. Пламя свечи, марионетка коридорных сквозняков, упорно пыталось гореть вниз головой, наплевав на соответствующие предписания со стороны знатоков естественного порядка вещей. Особенно сильно сквозило из-под двери. Гельмут постучал три раза.
– Кто? – поинтересовалась Лютеция с секундным промедлением. Она заслышала гулкие тевтонские шаги еще в постели, на цыпочках подскочила к двери и притаилась в надежде разузнать, кто это и к кому направляется. К ней. Сюрприз.
Преимущество на ее стороне. Гельмут опешил. Все-таки это неожиданно – он рассчитывал выцарапать ее, непонимающую, из-под перины и учинить допрос с пристрастием. А она, оказывается, не спит. И, возможно, не одна.
– Я, Гельмут фон Герзе, желаю срочно переговорить с вами по одному важному делу, – выдавил Гельмут.
Сейчас еще возьмет и не откроет. Но она открыла.
– Чем могу? – Лютеция сияла. Впервые за десять дней к ней пожаловал мужчина. А это означает катание на лошадках, милые безделки, цветы, мороженое.
Лютеция была рада, по-честному рада видеть у себя статного, в летах фрица с толстой золотой цепью на шее. Гельмут вошел и без приглашения оседлал стул.
– Я хочу расспросить вас о Мартине фон Остхофен, с которым вы, как мне стало известно, были накоротке, – выпалил Гельмут и, спохватившись, уточнил: – Вы не спите?
– Нет, я делала педикюр, – Лютеция села на свою теплую кровать, задрала рубаху и показала ноги. Между пальцами были вложены полированные деревянные клинышки – чтобы когда красишь ногти, пальцы не соприкасались. У Гельмута эти клинышки вызвали неприятную, но, увы, неизбежную ассоциацию с пыточным подвалом.
– Все равно извините.
Лютеция ассертивно,[90] по-американски улыбнулась. Прощаю.
– И все-таки насчет Мартина.
– Я была с ним знакома, – подтвердила Лютеция, как будто этого подтверждения от нее и добивались. – Вы же знаете, он умер, – Гельмут воодушевленно проглотил свежую порцию откровения. – Все говорят, то был несчастный случай, но я другого мнения.
– Очень, очень интересно. Какого?
– Я думаю, он свершил великий грех перед Господом и самоубился. Обставил все как несчастный случай, чтоб никто не узнал. Он был такой совестливый. Наверное, не хотел бросать тень на бургундский двор, хотел, чтобы никто не подумал, что ему здесь плохо.
– Да-а, – протянул Гельмут, переваривая услышанное. – А отчего, собственно, ему было плохо в Дижоне?
– Ну уж я не знаю! – ни с того ни с сего взорвалась Лютеция. – Не могу же я все знать о бедном мальчике?!
– Но вы ведь были с ним близко знакомы! – напомнил Гельмут на повышенных тонах, словно речь шла об обещании или долге. Лютеция с лютой, козьей тупостью разглядывала его золотую цепь.
– Кто это вам сказал? Франсуаза?
Гельмут воздержался от каких бы то ни было жестов, восклицаний и тому подобного, что было понято Лютецией как «не отпирайся».
– Да, весьма близко. Мы состояли с ним, как это принято говорить, в любовной связи. Но недолго, совсем недолго. Я не успела его как следует узнать.
«Любопытно, что мужчина, переспав с женщиной, пребывает в уверенности, что да, что вот теперь он узнал ее как следует. Женщина – нет. После первого раза она уверяется в том, что именно теперь мужчина обретает гносеологическую ценность, и самое время положить начало большой и глупой работе», – подумал Гельмут.
– А не приходило вам в голову, что Мартина мог кто-нибудь убить?
Лютеция вытаращила глаза, в которых промелькнули удивление и боязнь мертвецов.
– Нет, – она была искренна. – А кто?
– Сен-Поль, вот кто.
– Сен-Поль? Этот хромый лошак? – Лютеции стало очень, очень весело.
– А почему бы и не Сен-Поль? – отступил Гельмут. – То есть кто ж еще, если вы состояли в связи одновременно с обоими? Ревность способна на все, разве нет?
– Ревность? Сомневаюсь. Если бы Сен-Поль из ревности убивал тех, с кем я была близка, пришлось бы зарыть пол-Дижона. Не исключая, прости Господи, молодого графа Шароле. Понятия не имею, что вам наболтала Франсуаза, но это бред. Во-первых, такое трусло как Жан-Себастьян, уверена, даже на войне никого не осмелится убить, а, во-вторых, о том, что мы с Мартином это, он и не подозревал. Это было всего один день, а Сен-Поль в то время как раз носился, очертя голову, по Общественным полям. Он ведь был распорядителем на том проклятом фаблио. А после, понятное дело, я ему докладывать не торопилась.
– Понятное дело, – согласился Гельмут.
И тут Лютеция вмиг поскучнела. Окинув Гельмута тяжелым, злым взглядом, она, на сей раз безо всякого умысла, сверкнула ляжками, залезла под перину, отвернулась к стене и замолчала. Она не стала точить всамделишние слезы, хотя было горько, как бывает горько, когда сюрприз не состоялся – посетитель действительно пришел спрашивать о Мартине. Спрашивать – и больше ничего. Даже если она заплачет, этот идейный тевтон не станет ее утешать, не скажет ласкового слова, не пошутит. Он весь – как воздух казенного дома. «Бедный Мартин, бедный мой мальчик, бедная я», – думала Лютеция, но глаза ее были сухими, только чуть покраснели.
– Простите, я вас чем-то обидел?
Не дождавшись ответа, коварный, чинный Гельмут бесшумно затворил за собой на совесть промасленную дверь. Масло просто необходимо, чтобы среди ночи не будить соседок с дырявыми берушами в ушах.
8
Гельмут – Водану[91]
На третий день пребывания в Дижоне Гельмут, как всегда позавтракав в обществе Дитриха и Иоганна, а затем, как всегда, оставив второго надзирать за первым, отправился искать правду-матку, а заодно и дешевые млеко-яйки на рынке. Он, как обычно, прошествовал по залитой летним солнцем улице Святого Бенигния до самого конца, а затем, ясное дело, свернул в кривой переулок, где его еще в первый день чуть было не растоптал чей-то молниеносный посыльный. Во второй день в этом же переулке, оглядевшись предварительно по сторонам, Гельмут огрел мечом приставучего цистерцианца,[92] который плелся за ним от самой ратуши и канючил денежки на богоугодничанье. Огрел, конечно, плашмя, но сильно. Ушибленная кисть давала о себе знать по сей момент. Злосчастный переулок можно было обминуть, но Гельмут втайне надеялся, что Водан, доселе подававший невнятные знаки, явит ему наконец что-нибудь стоящее.
Пройдя переулок из конца в конец, он постоял немного в недоумении. Затем проделал обратную экскурсию. Но как ни напрягал Гельмут метафизическую мембрану, он не смог уловить ни малейшей вибрации, ни малейшего намека на ожидаемое происшествие. Та же смрадная куча тряпья, подпирающая стену трехэтажного дома аптекаря, та же пыль, тот же привкус копоти на губах, хотя ничто не коптит. Гельмут облизнулся против часовой стрелки и, сделав крюк в три квартала, устремился обивать пороги лживых бургундских патриотов.
9
Дитрих – Гельмуту
На Дижон проливался дождь. Гельмут только что отужинал в обществе Иоганна и Дитриха. Праздные разговоры были тевтонами презреваемы, а потому все трое пребывали в церемонном молчании. Каждому было дано право полагать, что двое других молятся.
На самом деле молился лишь один, Дитрих. Его проблемы были просты и доступны любому господу: убраться, убраться поскорее из Дижона, не меняя коней нестись во весь опор, ловко поспеть к закрытию мецских ворот, наконец-то вступить в наследство и уже неторопливо поспешать в милую Пруссию, где можно будет распорядиться средствами покойного в свое удовольствие, хотя и разбирался Дитрих в своем удовольствии посредственно. Молитву Дитрих сопровождал арфическими медитациями, которым, между прочих, находилось и такое оправдание: в раю, по слухам, многие праведники коротают досуг точно так же.
Как известно, существует два рода любви: через обладание и через привыкание. По крайней мере, так было известно Иоганну и Гельмуту из пространных откровений гроссмейстера Фридриха. Скажем, любовь к музыке. Когда следователи во время первой ночевки на постоялом дворе, а было это в восьми лье от Меца, услыхали игру Дитриха, они пожалели, что сотворены по образу и подобию своих родителей, которые тоже были человеками, а не глухарями.
В восьми лье от Дижона Гельмут с ужасом поймал себя на том, что насвистывает один из Дитриховых мотивчиков, а у Иоганна исчезло давнее несварение желудка. Любовь к чему-либо через привыкание приходит как бы задним числом, как спасительное оправдание многих и многих часов, вынужденно потраченных впустую на вышеуказанное что-либо. Гельмут и Иоганн очень любили музыку Дитриха. Они согласно влились в Дитрихов симфотранс и безмолвствовали.
10
Водан – Гельмуту
Входит Жювель Тухлое Дупло.
При таком раскладе, натурально, его появление замечено поначалу не было. Он мог безнаказанно украсть любую дорогую следовательскую шмотку и исчезнуть. Мог свистнуть даже превосходный меч Дитриха, отлитый из серег и браслетов его прабабки, меч, из-за которого его колесовал бы первый же судебный пристав. Мог просто нассать в уголку.
Из богатого континуума дареных судьбою возможностей Жювель избрал вторую, но с небольшой поправкой. Его косой глаз облобызал рукоять не Дитрихова, но Гельмутова меча. Одна эта рукоять и без отягчающего ее собственно клинка в Брюгге могла стоить отрез сукна на добрый латинский парус.
Жювелю не нужен парус, Жювелю радостна кража как высший акт любви через обладание. «Пусти, мерзавец; Гельмут, проснись!» – верещит оскверненная прикосновением Жювеля рукоять, и все меняется.
Жювель, воздетый за шиворот на полфута от пола, в отчаянии сучит ножками. Иоганн-верзила воротит нос от своей смердящей добычи. Гельмут успокаивает взволнованный меч.
– Пусти, я хорош, – скулит Жювель. Давно скисшие нити рвутся одна за другой, воротник его грязной, но на удивление расшитой павлинами рубахи остается в Иоганновой длани. Жювель падает на пол. Грохочут деревянные башмаки.
Вдруг лицо Гельмута просветляется.
– Не ты ли тот мерзавец, которого я сегодня утром принял за ком грязного тряпья в куче такого же тряпья под домом аптекаря?
– Борзо я жрал раньше, теперь же прокажен без проказы и хуже червя, – согласно вздыхает Жювель.
Иоганн между тем связывает Жювеля и отходит к окну продышаться. Гельмут садится.
– Ты хотел украсть мой меч. Зачем? – спрашивает он, не зная, с чего начать.
– Я не красть, я вроде помацать.
– Уже помацал. Дальше.
– Мне всегда так. Хотел поцеловать, а получилось съесть.
– Это с кем же ты так?
– С едой хозяина.
Гельмут хохочет. На памяти Дитриха это с ним второй раз.
– Кто хозяин?
– И я об этом. Сен-Поль, будь он дохлым.