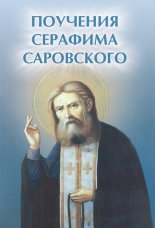От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: жития «грешных святых» в русской литературе Климова Маргарита

От автора
Эта стихийно сложившаяся книга является частью более пространного исследования, посвященного русским отражениям популярной сюжетной схемы о покаянии и спасении великого грешника. Среди многообразных проявлений процесса, превратившего библейскую по происхождению сюжетную схему в своеобразный «русский миф», обнаружилось немало случаев использования житийных материалов в русской литературе Нового времени. С одной стороны, жития «грешных святых», пришедших к вершинам святости из бездны нравственного падения, многократно привлекали к себе внимание светских авторов, стремившихся адаптировать их остросюжетные и назидательные истории для читателя-современника. С другой стороны, напряженные нравственные искания русской словесности классического периода нередко приводили к художественному воплощению ее этического идеала в парадоксальной и чисто русской форме «мирской святости». В созданных русскими писателями-классиками образах никогда не существовавших «святых из народа», как правило, творчески перерабатывались различные житийные элементы, они весьма сложно соотносились с агиографическим каноном.
Таким образом, основное содержание этой книги – встреча художественных миров двух русских литератур, древней и новой. Хронологические рамки книги маркированы двумя знаковыми фигурами, вынесенными в ее заглавие. Консерватор по убеждениям, протопоп Аввакум в своем творчестве оказался величайшим новатором, и его знаменитое Житие стоит на пороге литературы Нового времени. В произведениях выдающегося русского писателя второй половины XX века Федора Абрамова явственно ощутимо живое влияние традиций народного христианства, наиболее хорошо сохранившихся на Русском Севере, родине писателя.
Хотя жития «грешных святых» образуют в православном месяцеслове своеобразную и отчасти изолированную группу, наши наблюдения за их превращениями в творчестве русских писателей XIX–XX вв. позволили выявить некоторые общие закономерности бытования житийной традиции в отечественной словесности. Наши соображения по этому общему вопросу предваряют очерки, посвященные некоторым конкретным случаям проявления этого процесса и расположенные по хронологии анализируемых литературных текстов.
Автор выражает глубокую признательность коллегам, филологам и историкам Новосибирска, Томска, Ленинграда / Санкт-Петербурга и других городов за их доброжелательное внимание и советы при создании этой книги.
Жития «грешных святых» в русском месяцеслове (краткий обзор)
Учение о покаянии и отпущении грехов является, как известно, одним из краеугольных камней христианской этической доктрины. Слова Христа «…я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13) отчетливо обозначили коренное отличие Его учения, обращенного не к идеальным приверженцам Божьего Закона, но к человеку слабому и грешному, и именно на этом непрочном фундаменте возводящего здание новой веры[1]. Именно к отверженным нарушителям общепринятых норм – мытарям, блудницам и разбойникам, к сомневающимся, маловерам и даже гонителям обращена Благая Весть Иисуса, именно среди них находит Он последователей и пропагандистов новой веры. Этика христианства, утверждавшая превосходство Благодати над Законом, а милосердия над справедливостью и потому дававшая шанс на спасение даже самому отверженному и грешному из людей, была, несомненно, одной из наиболее привлекательных черт новой религии и немало способствовала ее распространению. Отражением этого этического постулата в христианской агиографии явилось то, что рядом с фигурой праведника от рождения, далекого от соблазнов земной жизни, возник принципиально иной тип святого – великий грешник, поднимавшийся к сияющим вершинам христианского идеала из бездны нравственных падений. Образцами для подобных историй, возникавших на христианском Востоке и Западе, служили евангельские рассказы о мытарях, блудницах и Благоразумном разбойнике, об отречении святого Петра и призвании гонителя Савла[2].
Жития «грешных святых»[3] относятся к числу наиболее известных фрагментов Священной истории. (Так, упреки в моральном несовершенстве Божьих избранников служили традиционным аргументом критиков христианства от Цельса[4] до Лео Таксиля.) В обыденном сознании издавна бытует представление о многочисленности таких агиографических рассказов. Об этом писал, например, такой признанный знаток духовных текстов, как Иван Грозный. «Много бо в них [святых. – М. К.] обрящеши падших и возставших (восстание не бедно!)», – восклицал он в Первом послании к Курбскому[5]. Хотя проблема греха и покаяния была одной из важнейших тем их эпистолярной полемики[6], никаких возражений у его не менее ученого оппонента это утверждение не вызвало. Однако специальному отбору и анализу эта группа житийных текстов пока не подвергалась. Предлагаемый обзор – одна из первых попыток в этом направлении.
Основным источником отбора послужили Четьи Минеи св. Димитрия Ростовского с дополнением материалов, заимствованных из других агиографических сводов, а также относящихся к рукописной и старопечатной традиции русского Пролога. Поскольку житийные тексты в составе Пролога призваны не изображать жизнь святого, а лишь кратко информировать о ней читателя[7], нам показалось интересным проследить, входят ли в этот «информационный минимум» сведения о «падении и восстании» того или иного святого. Для выяснения динамики процесса формирования и бытования этой житийной группы к анализу намеренно привлекались данные разновременных агиографических источников от ранних русских месяцесловов до сведений интернета и современного отрывного календаря. Подробное описание использованных источников, охватывающих более 1600 житийных текстов, приводится в Приложении. Отбору подлежали тексты, заглавные герои которых на собственном опыте познали благотворность пути «падения и восстания», то есть раскаявшиеся грешники либо временно впавшие в соблазн, но затем победившие его праведники. Отдельно учитывались «вставные рассказы» о грешных людях, раскаявшихся под влиянием слов, дел или посмертных чудес того или иного святого. При этом обнаружилось, что границы между собственно житием и «вставными рассказами» по разным источникам относительно одного и того же агиографического персонажа могут быть весьма нечеткими (формальный признак – упоминание «грешного святого» в заглавии жития). Анализ сюжетосложения и типология «вставных рассказов» представляют собой отдельную тему для исследования.
Просмотр агиографических источников по указанному признаку позволил выявить около сотни текстов, список которых также приводится в Приложении. Отобранные тексты весьма разнородны по составу, отличаются как своим объемом (от нескольких строчек или глухого упоминания в заглавии до пространного «духовного романа»), так и в жанровом отношении. Значительная часть текстов относится к разряду патериковых житий, действие которых концентрируется вокруг отдельного яркого эпизода[8]. Но есть среди них и классические жития-биографии, жития-мартирии, тексты, сочетающие признаки двух этих житийных типов, нравоучительные «повести», немногословные «памяти», «сказания» и «сведения» о местночтимых святых, духовные биографии которых еще не оформились до конца[9], наконец, совсем краткие упоминания о почитании святого без его жизнеописания[10]. Весьма пестра по своему составу и группа «грешных святых»: в ней представлены практически все чины святости. Больше всего в этой галерее мучеников и преподобных, но встречаются также благоверные правители, пророки и праотцы, исповедники, святители, блаженные и праведные.
Положенная в основу нашего отбора сюжетная коллизия «нравственное падение и восстание», как правило, организуется согласно богословской триаде «грех – покаяние – спасение», хотя соотношение значимости отдельных частей триады в конкретном тексте может сильно варьироваться. Развернутых жизнеописаний «великих грешников» в предложенном списке не так уж много – не более четырех десятков. Еще меньше среди них «кризисных житий»[11], для которых душевная метаморфоза заглавного героя играет важную, подчас сюжетообрзующую роль (к ним относится, например, знаменитое Житие Марии Египетской (1 апреля) или Житие-мартирий мученика Вонифатия (19 декабря)). Гораздо чаще грехопадение и покаяние героя составляет отдельный эпизод, обычно завязку действия. Такой эпизод может редуцироваться до краткого упоминания (в Житии благоверной царицы Феодоры (14 ноября)), быть вынесенным в примечания (Житие Ефрема Сирина (28 января)), или только подразумеваться. Так, по церковному преданию, многомужняя самарянка, некогда встреченная Христом у колодца, стала мученицей Фотиной (20 марта), но о перевороте, произошедшем в ее душе, приходится лишь догадываться. Среди агиографических рассказов о мучениках нередки парные и групповые жития, в которых сонмы христиан-страстотерпцев пополняют не только очевидцы гонений, но и их внезапно раскаявшиеся активные участники[12]. Индивидуальной развернутой характеристики каждый из новообращенных мучеников обычно не имеет, но она может быть домыслена, поскольку за каждым из путей спасения раскаявшегося гонителя закреплены определенные сюжетные схемы (так, для языческого жреца или волхва причиной принятия гонимой религии становится поражение его богов в соревновании с христианским Богом).
Как уже говорилось, образцами для житий «грешных святых» служили евангельские притчи и эпизоды о раскаявшихся мытарях, блудницах и Благоразумном разбойнике, равно как и истории первоверховных апостолов Петра и Павла (отступника и гонителя). Эти новозаветные образцы положены нами в основу классификации типов «грешных святых», получив при этом несколько расширенное истолкование[13].
Так, к типу мытарь относятся не только отверженные древнееврейским обществом сборщики податей, какими были до призвания их Христом евангелист Матфей (16 ноября) и иерихонский начальник над мытарями Закхей (20 апреля), но и любые стяжатели земных богатств, немилосердные к должникам. Наиболее известный великий грешник такого типа – Петр-мытарь (22 сентября), который до своего раскаяния сочетал в себе оба значения этого слова: мытарь по профессии, он был известен своей жадностью и жестокостью по отношению к нищим. Последнее обстоятельство и становится завязкой действия его остросюжетного патерикового Жития. Тип мытарь весьма редок, хотя изучение ранней русской агиографии обнаруживает среди иноков Киево-Печерского монастыря несколько раскаявшихся стяжателей; к ним могут быть отнесены преподобные Арефа (24 октября), Еразм (24 февраля), Феодор (11 августа), отчасти Вениамин (13 октября) Печерские.
К типу блудница/блудник относятся не только представительницы древнейшей женской профессии, но и нарушители седьмой заповеди, распутники и прелюбодеи обоего пола: прелюбодейка Феодора Александрийская (11 сентября) или распутники Вонифатий и Нифонт (соответственно 19 и 21 декабря)[14].
Включен в этот ряд в качестве примера от противного и преподобный Виталий, избравший для своего юродского подвига маску блудника и одновременно посвятивший свою жизнь делу спасения душ падших женщин (22 апреля).
Несколько раскаявшихся разбойников, вошедших в галерею «грешных святых», дали название одноименному типу. Среди них наиболее известны преподобные Давид Ермопольский (6 сентября), Варвар Луканский (6 мая) и Моисей Мурин (28 августа).
Тип отступник включает в себя не только отрекавшихся от своей веры по малодушию или из корысти. (Вслед за апостолом Петром (29 июня) этот вариант пути «падения и восстания» прошли каждый в свое время св. Панхарий, погибший при императоре Максимиане (19 марта), приближенный языческого князя Иоанн Литовский, отуреченный грек Михаил Вурлиот (соответственно 14 и 16 апреля)). К этому же типу условно отнесены агиографические персонажи, временно попавшие под власть Сатаны: заключивший договор с дьяволом Феофил-эконом (23 июня) или по неопытности впавшие в грех гордыни печерские затворники Исаакий (14 февраля) и Никита, будущий новгородский епископ (31 января). К этому же типу нами отнесены «непослушные» пророки Иона (22 сентября) и Иоад (30 марта), св. Иоанникий Великий, временно поддавшийся ереси иконоборчества (4 ноября), а также нарушители монашеских обетов, например, св. Малх Сирийский, о котором еще будет сказано подробнее, и русский инок Серапион Спасо-Елеазерский (9 сентября).
Многочисленная группа раскаявшихся гонителей подразделяется на подтипы: рядовые участники гонений (солдаты и тюремные стражи), жрецы и волхвы, лицедеи и руководители гонений (градоначальники и епархи).
Как правило, каждому типу персонажей соответствует определенная схема / несколько схем развития действия. Например, блудница обычно раскаивается под влиянием случайно услышанной проповеди, раздает греховно нажитое имущество и уходит в монастырь, где в результате долгого покаяния и аскетических подвигов удостаивается чудес и мирного успения[15].
В список включены также разного рода переходные формы (отмечены знаком *). Так, языческий жрец может и не быть активным гонителем христиан, а принять новую религию «собственным разумом» или под влиянием чудесного исцеления. Впрочем, былое жречество святого представлялось для агиографов значимой деталью: в проложных версиях житий оно нередко выносится в заглавие. Как переходные формы отмечены также некоторые тексты о согрешивших святых, не вполне удовлетворяющие основному требованию – соответствию богословской триаде «грех – покаяние – спасение». Например, Житие пророка Иоада (30 марта), восходящее к ветхозаветному эпизоду (3 Цар. 13), сообщает лишь о прегрешении героя, вступившего в дружеские отношения с неким лжепророком, и его наказании – Иоада убил, но не пожрал лев. О посмертном прощении пророка говорит лишь причисление его к лику православных святых. Заглавный герой Жития преподобного Малха Сирийского (26 марта) на время оставил монастырь для решения мирских дел без благословения на то настоятеля и был наказан за это многолетним пленом у язычников. Его злоключения в плену и побег и составляют основное содержание Жития. Хотя Малх закончил свои дни в монастыре и причтен к лику святых, нравоучительную идею рассказа о нем практически вытеснил острый и занимательный сюжет[16].
В заключение несколько слов о «русском вкладе» в галерею «грешных святых»[17] – со всеми переходными формами их примерно полтора десятка. Половину выборки составляют рассказы о грешных иноках Киево-Печерского монастыря. Особенно интересны среди них истории невольных отступников: Исаакия Печерского и Никиты, епископа Новгородского, которые могут служить предостережением против крайностей аскезы. Оба они в затворе впали в грех гордыни и тем временно отдали себя во власть дьявола[18]. Весьма пестра по своему составу вторая половина выборки. В нее включены, например, нарушитель монашеского обета Серапион Спасо-Елеазарский (9 сентября), временный отступник мученик Иоанн Литовский (Виленский) (14 апреля), раскаявшийся разбойник Киприан Сторожевский (26 августа), знаменитый подвижник XX в. Силуан Афонский, поведавший миру о чувственных увлечениях своей юности (11 сентября). Более пристального внимания заслуживают местночтимые севернорусские святые преподобный Варлаам Керетский (6 ноября) и праведный Кирилл Вельский (9 июня), простонародные Жития которых особенно причудливы и далеки от агиографического канона. Преподобный Варлаам был священником, убившим из ревности свою жену, а потом в искупление этого греха плавал с телом своей жертвы в лодке по морю до полного разложения трупа. Благодаря своим прижизненным чудесам (он, например, очистил некое место от «морских червей», точивших корабли), этот святой считался одним из покровителей северных мореходов, но общерусского признания так и не получил. Современные материалы к его Житию в интернете значительно дополняют сведения древнерусской повести о нем, некогда опубликованной Л. А. Дмитриевым[19], но весьма противоречивы. Преподобный Варлаам изображается то отшельником, усмиряющим диких зверей[20], то просветителем языческих племен[21]. Еще более необычен праведный Кирилл Вельский – это святой самоубийца. Затравленный до самоубийства придирками боярина, молодой тиун утопился в речке Ваге на глазах у своего гонителя. Опознание и перезахоронение нетленного тела утопленника, о чем в видениях просил он сам, сопровождалось чудесами. В XVIII в. часовня, где покоились мощи святого самоубийцы, сгорела, останки его по разным сведениям были утрачены или преданы земле. Хотя почитание праведного Кирилла никогда не выходило за пределы определенной местности, локальный культ его, судя по сведениям интернета, усиливается и крепнет. Он считается духовным покровителем края, ведутся работы по восстановлению сгоревшей часовни; среди мужских имен, получаемых вельскими новорожденными, имя Кирилл самое популярное, а «Кириллов день» был столь любим горожанами, что в советское время его объявили Днем города[22].
Еще один севернорусский агиографический текст, включенный в наш список, находится как бы на перепутье между каноническим месяцесловом и народной агиографией. Это парное Житие праведных отроков Иоанна и Иакова Менюшских (Менюжских), память которых официальная церковь отмечает 24 июня. Канонический месяцеслов сообщает весьма лаконичные сведения о жизни и смерти этих святых, погибших в очень юном возрасте (Иоанну было пять лет, Иакову – три года), предполагается лишь, что они пали от рук злодеев. Однако, как было установлено А. А. Панченко, эта версия – поздняя по времени осторожная переделка народного рассказа о необычных обстоятельствах гибели святых отроков[23]. Согласно Сказанию, сохранившемуся в двух поздних списках, они пали жертвой необычного и трагического стечения обстоятельств. Сказание гласит, что малолетний Иоанн стал невольным братоубийцей, играя вместе с Иаковом в забой рождественского барана, затем, испугавшись, спрятался в печь и задохнулся в дыму, когда ничего не подозревающая мать затопила ее. Этот случай крепко врезался в народную память и нашел отражение в фольклоре и литературе (наблюдения А. А. Панченко в этом направлении можно дополнить, что и будет сделано в соответствующем разделе этой книги).
Единственное развернутое оригинальное, а не переводное жизнеописание «грешного святого» в древнерусской агиографии – Житие Никиты Столпника Переяславского (24 мая). Его герой, кровожадный разбойник или мытарь (данные разных редакций в этом расходятся)[24], под влиянием устрашающего видения уходит в монастырь, где неистово предается покаянию. Живописные подробности этого покаяния, поражающие воображение своей чрезмерностью, а также мученическая гибель Никиты от рук разбойников явно способствовали популярности Жития. Известно 150 его списков[25].
Наконец, последний из отечественных «грешных святых», равноапостольный князь Владимир (15 июля), вошел в этот список далеко не сразу. Первоначальная Память и Похвала крестителю Руси специально подчеркивала его неизменное благочестие. Напротив, Житие великого князя, вошедшее в Четьи Минеи Димитрия Ростовского и завершающее таким образом процесс формирования духовной биографии князя Владимира, живописует его многообразные грехи до крещения. Их подробности заимствуются из летописей, ощутима также сознательная стилизация Жития под историю обращения апостола Павла.
Выделенная нами агиографическая группа, несомненно, заслуживает специального изучения. Она не только существенно уточняет картину мира православной агиографии, но и содержит ценные материалы к изучению одного из архетипических «мифов» русского самосознания.
Заметки к изучению житийной традиции в русской литературе
Как давно было замечено, великая агиографическая традиция восточного христианства, в течение столетий служившая «учебником жизни» русского человека, в известной мере не потеряла свое значение и в Новое время, став одним из источников, питавших русскую классическую литературу. В современной науке накоплен обильный материал, иллюстрирующий это положение (особенно относится это к Н. С. Лескову[26] и Л. Н. Толстому[27]). Нам думается однако, что в настоящее время простой констатации общепризнанного факта уже недостаточно, и накопленные материалы явно нуждаются в систематизации и обобщении. Но обобщающих работ на эту тему удручающе мало[28], а предварительные суждения нередко отличаются легковесностью и «скользят по поверхности» проблемы.
В этом плане показательной представляется статья И. В. Бобровской «Трансформация агиографической традиции в творчестве писателей XIX в. (Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова)»[29]. Справедливо отметив генетическую связь этической проблематики русской классики с христианским идеалом в его агиографическом выражении, автор статьи рассматривает в этом ракурсе три образцовых в своем роде текста отечественной словесности. Выбор произведений гигантов русской классической литературы сделан безошибочно – связь «Отца Сергия», «Братьев Карамазовых» (прежде всего главы «Русский инок») и «Несмертельного Голована» с житийной традицией сомнений не вызывает. Но сколь незначительны результаты проделанного исследовательницей анализа (его легковесность особенно заметна при обращении к рассказу Н. С. Лескова, агиографическим параллелям к которому в свое время была посвящена вдумчивая статья О. Е. Майоровой[30]). В основу этого анализа положено сопоставление художественных текстов русских классиков с некоей «агиографической моделью». Содержание «модели» нигде не раскрывается, и остается только догадываться, что она сконструирована автором статьи из некоторых умозрительных представлений о православной агиографии. Можно предположить, что в основу этих представлений положен тип классического жития-биографии «праведника от рождения», которое начинается происхождением героя от благочестивых богобоязненных родителей и заканчивается его мирным успением и посмертными чудесами[31]. Исследовательница, кажется, и не подозревает, что обширный и многообразный мир православной агиографии житиями такого типа далеко не исчерпывается (так, ей явно не известны жития «грешных святых», включающие эпизод грехопадения житийного героя)[32]. Отобранные И. В. Бобровской художественные тексты действительно ориентированы на жития, но при этом жития разных типов.
Главный агиографический образец «Отца Сергия»[33], Житие Иакова Постника[34], относится к житиям патерикового типа, действие которых концентрируется вокруг отдельного яркого эпизода. Сюжет толстовской повести в житийном контексте оказывается контаминацией двух популярных в патериках сюжетных схем. Первая из них, «Искушение праведника», находит свое яркое выражение в уже упомянутом Житии Иакова Постника, причем этот агиографический текст включил в себя оба варианта развития сюжетной коллизии: праведник может победить искушение или же поддаться ему. Перипетии монашеской жизни толстовского героя в точности повторяют взлеты и падения духа преподобного Иакова. Вторая патериковая сюжетная схема, «Испытание истинной святости», являет собой любопытный пример антиаскетических настроений в раннем христианстве, поскольку, по мнению ее создателей, «святее» монаха-отшельника, бежавшего от соблазнов жизни, оказывается мирянин, на первый взгляд, целиком погруженный в быт или даже занятый предосудительным делом (например, скоморох). Встреча возгордившегося и наказанного моральным падением отца Сергия со скромной учительницей музыки Пашенькой, смиренно везущей на себе тяготы большого и неблагополучного семейства, являет собой точный аналог этой патериковой коллизии (особенно если учесть специфически толстовское отношение к музыке).
«Житие» старца Зосимы ориентировано на традиционное житие-биографию святителя или преподобного, особенно преуспевшего в деле наставничества мирян. Такие жития-биографии нередко включают эпизод юношеских заблуждений будущего святого (тем легче ему в дальнейшем будет наставлять мирян, сбившихся с истинного пути и пришедших к нему за советом)[35].
Наконец, история «Несмертельного Голована» сопоставима скорее с простонародными житиями местночтимых святых, связь которых с агиографическим каноном произвольна и даже причудлива, а концепция святости далека от ортодоксальности. Из традиционной агиографии в рассказе заимствованы отдельные элементы разных уровней текста[36]. Поэтому неудивительно, что попытка сведения трех столь разных по своим житийным истокам художественных текстов к некоей умозрительной «агиографической модели» оказалась поверхностной и бесперспективной.
На примере статьи И. В. Бобровской видно, что плодотворное изучение житийной традиции в новой русской литературе в первую очередь требует углубленного знания житийных текстов. Между тем, агиография до сих пор относится к наименее изученным жанрам древнерусской словесности (до недавнего времени это было справедливо даже для известного типа житий-биографий «праведника от рождения»[37]).
Детально изучена литературная история и текстология многих конкретных житий, переводных и оригинальных, однако герменевтическое изучение житийного жанра до сих пор остается делом будущего. Исследователи при изучении житийных текстов обычно концентрировали свое внимание далеко не на тех чертах агиографического повествования, которые определяют его как жанр: например, жития использовались в качестве исторического источника[38] или для изучения развития беллетристических тенденций в литературе русского средневековья[39]. Между тем знаменитые «общие места» (топосы) житийного повествования, из-за которых агиографические тексты нередко казались однообразными и малохудожественными, практически не изучены. Лишь относительно недавно началась работа по их описанию[40].
Думается также, что изучение житийной традиции в новой русской литературе требует более четких представлений о месте агиографических текстов в круге чтения средневекового человека (едва ли оно в точности соответствует месту беллетристики в сознании современного читателя) и особенностях их восприятия в различные периоды. Интересные размышления на эту тему Б. Н. Бермана[41] явно нуждаются в уточнениях и дополнениях. Во всяком случае, при сравнении произведения новой русской литературы на житийный сюжет с его первоисточником необходимо осознавать, что пересказ агиографического текста светской литературой неизбежно потребовал перекодировки всей его знаковой системы.
Таким образом, обширный мир православной агиографии нуждается в глубоком и разностороннем исследовании. Внимание автора этой книги отдано житиям «грешных святых», относительно малочисленной и далеко не самой типичной для агиографического жанра группе.
Наше внимание к житийным рассказам о великих грешниках, взошедших к вершинам святости путем «падения и восстания», вызвано не только их неизменной популярностью у читателей. С легкой руки писателей Нового времени остросюжетные и драматичные истории «грешных святых», пересказанные или вновь созданные по житийным образцам, приобрели значение «русского мифа»[42] и даже некоей нравственной парадигмы национального характера. Небесполезны наши наблюдения и для изучения житийной традиции в более широком смысле. Предлагаемые заметки – осторожная попытка обобщить результаты достижений предшественников и собственные наблюдения по этому вопросу.
Одним из возможных принципов систематизации материалов к изучению житийной традиции в русской литературе XIX–XX вв. является их подразделение по характеру отношения светского автора к существующим до него агиографическим текстам. Во-первых, писатель Нового времени может пересказать житийный памятник прозой или стихами, а также инсценировать его. Во-вторых, в произведение новой русской литературы могут вноситься отдельные элементы конкретного жития или целой агиографической группы (например, используется сюжетная схема жития-мартирия, на характеристику светского персонажа проецируется житие тезоименитого ему святого и т. п.). Наконец, по известным агиографическим схемам светский автор может попытаться создать «литературное житие» никогда не существовавшего святого.
Первый, казалось бы, самый естественный путь освоения житийного материала, его художественная обработка, получил распространение в русской литературе классического периода далеко не сразу – не ранее середины XIX столетия. Основная причина тому – не только строгость духовной цензуры (нередко усугублявшейся самоцензурой светского автора), но и глубокий разрыв между церковной и светской ветвями русской культуры, начавшийся в петровское время и особенно значимый для образованных слоев русского общества. Первые опыты такого рода надолго оставались в рукописях или не получали завершения («Легенда» А. И. Герцена (1835, опубл. 1881) или «Мария Египетская» И. С. Аксакова (1845, опубл. 1888)). Эти ранние опыты будут рассмотрены нами в одном из следующих разделов.
Эпоха реформ Александра II облегчила доступ к читателю светских обработок духовных текстов (так, лишь в это время (в 1861 г. в Берлине и в 1871 г. в Москве) увидела свет давно ходившая в списках мистическая поэма Ф. Н. Глинки «Таинственная капля» – апокрифическая «биография» евангельского Благоразумного разбойника). В эти же голы успехи ученых русской историко-филологической школы открыли широкому кругу читателей неведомый доселе мир древней письменности и народной поэзии, воспринятый как живое явление художественной мысли и ключ к тайникам народной души[43]