Страшные сказки. Истории, полные ужаса и жути (сборник) Харрис Джоанн
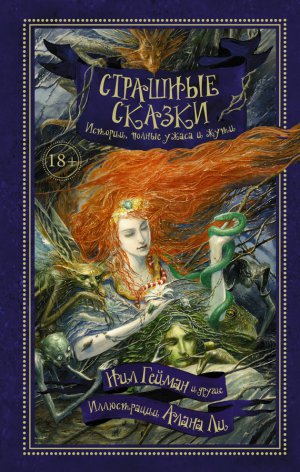
– Уж я все выскажу этой девчонке в следующий раз, как увижу ее, – ворчала Роуз, плетясь за ним. – Какая неблагодарность за все, что я делала!
– Таков естественный порядок вещей, – сказал Торнтон, тщательно заряжая револьверы патронами со своего ремня. – Что здесь, что на той стороне. К тому же, думаю, ей будет что вам порассказать при следующей встрече. О свадьбе, почему бы нет, а может, о внуках. Время течет странно, когда пересекаешь черту.
Роуз примолкла, размышляя об этом, приводя мысли в порядок, сортируя и раскладывая по полочкам, как покупки после поездки в город. Она всегда считала, что готовить надо из тех продуктов, какие есть в кладовой, а не мечтать о том, чего нет. И если на обед у вас пресная лепешка да кружка воды, незачем пускать слюни, думая о стейке, пироге с беконом и кофе.
– Паренек-то он вроде симпатичный, – признала Роуз и оперлась на руку, которую предложил ей Торнтон.
– А она очаровательная девушка, – сказал Торнтон. – Хотя, если спросите меня, ни в какое сравнение не идет со своей матушкой.
– Смеетесь вы над старой вдовой, что ли? – спросила Роуз. Она вгляделась в пустынную землю впереди и добавила. – И куда мы идем, кстати? Разве ворота не там, на горе?
– Врат множество, главное – научиться их видеть, – ответил Торнтон. – И неважно, парень это, который здесь все знает, или женщина оттуда, это не имеет такого уж значения, чтобы пересечь черту. И не так это опасно к тому же, если правильно выбрать место и время. Так что если только возникнет желание нанести визит, или пригласить к себе, все можно устроить.
– Не вы ли сказали в начале, когда еще мы вместе гнались за ними, о том, что для пересечения линии нужна причина? Что ж, в гости можно ходить только туда, а сюда приходить нельзя?
– Ну, не знаю, – протянул Торнтон. – Когда вы проткнули ножом скарума, а потом еще раз, когда так метко подстрелили тот доллар, я подумал, что мне бы и самому не сработать лучше, а еще о том, как оно складывается, и о том, что хватит мне представлять законную власть с обеих сторон – маршал и смотритель границы, а пора бы подыскать кого-то себе под стать.
Роуз остановилась, повернулась к Торнтону и приподняла со лба шляпу, чтобы лучше его рассмотреть. Он порылся в жилетном кармане и достал на сей раз не ножик, а блестящую звезду из металла. Это была не та звезда, заключенная в круг, и надпись на ней была не по-английски, и написано было не «Маршал США», но Роуз сразу поняла, что это был знак сродни тому, что красовался на груди у Торнтона, по смыслу, а не по имени. Она стояла навытяжку, пока Торнтон пристегивал звезду ей на рубашку, тыльной стороной пальцев он коснулся ее обнаженной кожи чуть ниже ключицы, так что они оба вздрогнули, не от холода – его мужчина и женщина на какое-то время перестали замечать.
– Вы собираетесь проводить меня до самого дома, до ранчо «Звездный круг», маршал? – спросила Роуз, снова взяв его под руку, но не прижимая слишком крепко, чтобы, если что, успеть выхватить кольт, – а сама уже размышляла о том, чтобы перевесить кобуру налево и поупражняться в стрельбе с правой руки.
– Сдается, что так, – сказал Торнтон.
Гарт Никс живет со своими женой и сыном в Сиднее, Австралия. Он автор бестселлеров в жанре молодежного фэнтези – серий «Старое королевство», «Седьмая башня» и «Ключи от королевства». Бывший менеджер по продажам, публицист и старший редактор в издательстве, он написал такие романы, как «Тряпичная ведьма», «Дети Тени», «Неразбериха с принцами», и (совместно с Шоном Уильямсом) трилогию Troubletwisters. Он также является автором ряда сценариев для ролевых игр и статей, посвященных информационным технологиям. Никса часто спрашивают, не является ли его имя[5] псевдонимом, на что он весело отвечает, что фамилия подлинная.
Гензель и Гретель
Жил-был на опушке большого леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку – Гретель. Жили они в бедности; а тут еще случился в той земле сильный неурожай, так что дровосек не мог добыть и куска хлеба.
Как-то вечером ворочался он своей в постели, и горькие мысли не давали ему уснуть. Вздохнул он тяжко и сказал жене:
– Что же с нами будет? Как нам прокормить бедных деток, когда и самим-то нам нечего есть!
– Вот что я тебе скажу, муженек, – отвечала ему жена, – давай-ка рано поутру отведем детей в лес, в самую чащу. Разведем для них там костер, дадим каждому по лишнему куску хлеба, а потом пойдем по своим делам, а их оставим одних. Они нипочем не найдут дорогу домой, вот мы от них и избавимся.
– Нет, жена, – сказал дровосек, – я такого не сделаю. Разве могу я бросить деток одних в лесу? Ведь на них нападут дикие звери и разорвут на части.
– Эх ты, дурачина! – говорит жена. – Выходит, помирать нам тогда с голодухи, всем четверым! Начинай хоть сейчас сколачивать гробы.
И она не оставляла дровосека в покое, пока тот не согласился.
– И все-таки очень уж мне жаль бедных наших деток! – сказал он.
Дети тоже не могли уснуть от голода и слышали все, что говорила их мачеха отцу. Гретель заплакала горючими слезами и сказала Гензелю:
– Ах, теперь мы пропали.
– Успокойся, Гретель, – сказал Гензель, – не горюй, я придумаю, как помочь нашей беде.
И вот, когда родители уснули, он поднялся, надел курточку, отворил дверь и крадучись выбрался на улицу. Луна на небе светила ярко, и белые камешки, рассыпанные перед их домиком, блестели, словно настоящие серебряные монетки.
Гензель нагнулся и доверху набил ими карман своей курточки. Вернулся в дом и сказал Гретель:
– Не печалься, дорогая сестрица, спи спокойно. Господь не оставит нас в беде.
Сказав так, он снова улегся в свою кроватку.
Едва стало светать, так рано, что еще не взошло солнце, пришла мачеха и принялась будить детей:
– Вставайте, лежебоки. Пойдете с нами в лес по дрова.
Потом дала она им по кусочку хлеба и говорит:
– Это вам на обед; только смотрите, не съешьте его раньше времени, больше-то ничего не получите.
Гретель положила хлеб под свой передник, у Гензеля-то карман был занят камушками.
Вот собрались они и все вместе отправились в лес. Когда они отошли совсем немного, Гензель остановился и оглянулся на их домик, а потом снова и снова. Отец спросил его:
– Гензель, на что ты все смотришь, почему отстаешь? Не глазей по сторонам да шевели ногами.
– Ах, батюшка, – сказал Гензель, – это я смотрю на свою белую кошечку, она сидит на крыше, словно прощается со мной.
Жена дровосека сказала:
– Что за глупости, никакая это не кошечка, то блестит на трубах утреннее солнце.
А Гензель и правда не глядел на кошечку, а все время доставал из кармана белые камешки и бросал на дорогу.
Когда они зашли в самую чащу леса, отец говорит:
– Вот что, детки, насобирайте-ка хворосту, я разведу костер, чтобы вы не замерзли.
Гензель и Гретель набрали много хворосту, целую кучу. Разожгли костер. Когда огонь разгорелся, сказала мачеха:
– А теперь, дети, полежите у костра, отдохните, а мы тем временем пойдем в лес дрова рубить, а когда закончим, вернемся за вами.
Гензель и Гретель уселись к огню, а в полдень съели свои кусочки хлеба. До них все время доносился стук топора, вот они и думали, что это отец рубит дрова поблизости. А на самом деле стучал совсем не топор, а ветка – дровосек привязал ее к сухому дереву, которое качалось на ветру, вот она и билась о ствол.
Дети долго сидели у костра и так устали, что у них стали слипаться глаза, вот они и заснули. А когда, наконец, проснулись, уже совсем стемнело и наступила ночь. Гретель принялась плакать и сказала:
– Как же теперь мы найдем дорогу из лесу?
Но Гензель ее утешил:
– Погоди немного, сестрица, пока не взойдет луна, а тогда мы сразу увидим, куда нам идти.
Наконец на небо вышла полная луна. Гензель взял сестру за руку, и пошли они по камешкам, которые блестели ярко, точно новые серебряные монетки, и указывали им путь. Дети брели всю ночь напролет и к рассвету добрались, наконец, до домика отца.
Они постучали в дверь, а мачеха отворила увидала, что это Гензель и Гретель, и стала браниться:
– Ах вы, непослушные дети, что ж вы так долго спали в лесу? Мы уж думали, что вы и вовсе не вернетесь назад.
Отец же, увидав детей, очень обрадовался, ведь у негото разрывалось сердце оттого, что он бросил их в лесу.
В скором времени в их земле снова случился неурожай, и услышали дети, как мачеха говорит ночью их отцу:
– Опять мы все подъели, только и осталось, что пол хлебного каравая, видно, конец нам пришел. Придется все же избавиться от детей: заведем их еще дальше в лес, чтобы не смогли найти обратной дороги. А иначе нам не спастись.
На сердце у дровосека будто лег тяжелый камень, он думал, что лучше уж станет делиться с детьми последним куском. Однако злая баба ничего не желала слышать, только распекала его и бранила. Не давши слово – крепись, а давши – держись, – уступил он жене в первый раз, волей-неволей пришлось уступить и теперь.
Да только дети еще не спали и слышали разговор. Дождавшись, когда родители уснут, Гензель снова встал и хотел выйти из домика и набрать камешков, как в прошлый раз. Мачеха, однако, заперла дверь, так что Гензель не сумел выйти из дому. Стал он утешать сестру и сказал:
– Не плачь, Гретель, спи спокойно, добрый Господь не оставит нас в беде.
Рано утром пришла мачеха и велела детям вставать. Кусочек хлеба, который она им дала, был еще меньше, чем в прошлый раз. По дороге в лес Гензель раскрошил в кармане хлеб, часто останавливался и бросал на землю крошки.
– Гензель, что это ты останавливаешься и все оглядываешься? – сказал отец. – Пошевеливайся.
– Я смотрю на своего голубка, что сидит он на крыше и хочет со мной проститься, – ответил Гензель.
– Дурачина, – сказала мачеха, – какой же это голубь, это утреннее солнышко блестит на трубе.
Но Гензель потихоньку бросал крошки, пока не разбросал их все.
Мачеха завела детей в самую лесную чащу, где они еще никогда не бывали. Снова развели большой костер, мачеха и говорит:
– Посидите тут, детки, а коли притомились, немножко поспите. А мы пойдем в лес рубить дрова, а вечером, как закончим, придем и заберем вас с собой.
В полдень Гретель поделилась с Гензелем своим кусочком хлеба, – свой-то кусок он раскрошил по дороге. Потом они поспали, но и вечером не пришел никто за бедняжками. Среди ночи они проснулись, и Гензель стал утешать сестрицу:
– Подожди, Гретель, пока не взойдет луна, тогда мы разглядим на дороге хлебные крошки, что я разбросал по дороге, они укажут нам дорогу домой.
Когда взошла луна, дети пустились в путь, но не нашли ни одной крошки, – многие тысячи птиц, что летают в лесу и в поле, поклевали их все до единой. Тогда говорит Гензель сестрице:
– Скоро мы найдем дорогу.
Но они ее так и не нашли. Они шли всю ночь и весь следующий день, с утра до позднего вечера, но не сумели выбраться из лесу. Дети страдали от голода, ведь есть им было нечего, кроме двух-трех ягодок, которые сорвали по дороге. Они так устали, что еле волочили ноги, и вот прилегли они под деревом и уснули.
Пошло третье утро с той поры, как дети покинули отцовский дом. Они снова пустились в путь-дорогу, но только заходили все глубже в чащу, и им грозила смерть от голода и усталости, если только в самом скором времени не подоспела бы помощь.
В полдень они увидали красивую белоснежную птицу, сидящую на ветке. Птичка эта пела так славно, что они остановились и стали ее слушать. Окончив песню, птичка взмахнула крыльями и полетела. Дети пошли за ней а когда добрались, наконец, до маленькой избушки, то птичка мигом уселась на крышу. Подойдя поближе, дети увидали, что избушка сделана из хлеба, крыша на ней из пряников, а окошки из прозрачных сахарных леденцов.
– Давай-ка возьмемся за нее, – сказал Гензель, – вот уж наедимся на славу! Я съем кусочек крыши, а ты, Гретель, попробуй-ка окошко, – оно, наверное, очень сладкое.
Гензель забрался наверх и отломил кусочек крыши, чтоб попробовать, какова она на вкус, а Гретель подошла к окошку и принялась грызть.
Вдруг из домика послышался тихий голос:
- Кто там грызет да кусает?
- Кто домик мой объедает?
Ответили дети:
- Это ветер с неба
- Унес немного хлеба!
И продолжали объедать домик, не обращая внимания на голосок.
Гензель – ему пришлась по вкусу пряничная крыша – отломал изрядный кусок и сбросил вниз, а Гретель выломала целое круглое стекло из сахара, уселась и стала его уплетать.
Вдруг дверь открылась, и из домика вышла древняя старуха, опираясь на клюку. Гензель и Гретель ужасно перепугались и выронили все, что держали в руках. Старуха покачала головой и говорит:
– Ох, милые мои детки, и кто только вас сюда привел? Что ж, раз так, можете войти и остаться у меня. Тут никто не причинит вам зла.
Она взяла их за руки и повела в избушку. Угостила их вкусной едой – дала молока и сахарных блинчиков яблок и орехов. А потом она застелила белыми простынями две чудесные маленькие кроватки, а Гензель и Гретель улеглись на них, думая, что оказались в раю.
Но старуха только притворялась доброй. На самом деле была она злой ведьмой, которая ловила детей, а домик из хлеба построила для приманки. Заманив к себе дитя, она его убивала, варила и съедала, и этот день был для нее праздником.
Глаза у ведьм всегда красные, и видят они только у себя под носом, зато нюх у них, как у зверей, и человеческий дух они хорошо чуют. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее домику, она злобно расхохоталась и с усмешкой промолвила:
– А, попались! Теперь им от меня не уйти!
Ранним утром, пока дети не проснулись, ведьма поднялась и поглядела на них. А увидев, как безмятежно они спят и до чего они хорошенькие с пухлыми розовыми щечками, пробормотала себе под нос, что ее ждет славное угощение.
Потом она схватила Гензеля тощей рукой, утащила его в маленький хлев и там заперла за зарешеченной дверью. Кричи – не кричи, все бесполезно. Потом она пришла за Гретель, приняла трясти ее, а разбудив, закричала:
– Поднимайся, лентяйка! Принеси воды да приготовь вкусной еды для своего брата – он там, в хлеву, и надобно его как следует откормить. А как наберет он жира, я его съем.
Принялась Гретель плакать горючими слезами, но все было напрасно, пришлось ей делать то, что приказывала злая ведьма.
Теперь Гензелю готовили вкусную еду, а Гретель доставались одни лишь объедки. Каждое утро старуха подходила к хлеву и кричала:
– Гензель, высунь-ка пальчик, я пощупаю, набрал ли ты уже жирок.
Но Гензель протягивал ей косточку, а старуха с ее слабыми глазами не могла рассмотреть ее как следует. Она думала, что это палец Гензеля, и удивлялась тому, что он никак не наберет жиру.
Прошло четыре недели, а Гензель оставался все таким же тощим, – тут терпение у старухи закончилось, и она не захотела больше ждать.
– Эй, Гретель, – крикнула она девочке, – сбегай-ка, принеси воды. Толстого или тощего, все равно завтра я убью Гензеля и сварю.
Ах, как же горевала бедная сестрица, таская воду, слезы так и текли у нее по щекам.
– Милый Господи, помоги нам! – плакала она. – Пусть бы лучше нас сожрали в лесу дикие звери, тогда мы по крайней мере умерли бы вместе.
– Довольно причитать! – сказала старуха. – Это тебе не поможет.
Рано утром Гретель пришлось встать и повесить в очаге котел с водой и развести огонь.
– Сперва испечем хлеб, – сказала старуха, – я уж истопила печку и замесила тесто.
И она подтолкнула бедняжку Гретель к печке, в которой уже полыхало пламя.
– Подойди поближе, – сказала ведьма, – и погляди, довольно ли протоплена печка да пора ли печь хлеб?
А как только Гретель подошла, ведьма хотела впихнуть ее в печь и закрыть там, чтобы испечь ее и тоже съесть.
Но Гретель догадалась, что у нее на уме, и сказала:
– Не пойму, как же это сделать. Как мне влезть туда?
– Да ты глупа, как пробка, – говорит старуха, – вон какой большой лаз, даже для меня. Смотри, как надо! – И она сунула голову в печь.
Тогда Гретель толкнула старуху что было сил, и та упала прямо в печь, потом закрыла железную дверцу и заперла на задвижку. Старуха принялась ужасно выть и кричать, но Гретель убежала, а мерзкая ведьма сгорела дотла.
Гретель побежала к Гензелю, открыла маленький хлев и крикнула:
– Гензель, мы спасены: старая ведьма умерла!
Гензель выскочил из хлева, точно птичка из клетки, когда откроют дверцу. На радостях они принялись обниматься и плясать, и целоваться! Теперь им больше нечего было бояться, так что они вошли в ведьмину избушку, а там повсюду стояли сундуки, полные жемчугов и драгоценных камней.
– Это получше, чем наши камешки, – сказал Гензель и набрал полные карманы.
А Гретель говорит:
– Я тоже хочу взять что-нибудь домой, – и насыпала полный передник.
– А теперь пора нам уходить, – сказал Гензель, – чтобы выбраться из ведьминого леса.
Шли они часа два и и увидали широкую реку.
– Нам через нее не перебраться, – сказал Гензель, – нигде не видно ни брода, ни моста.
– Не видно и лодки, – отвечала Гретель, – но вон там плывет белая уточка; если я ее попрошу, она нам поможет.
И Гретель позвала:
- Уточка, подплыви,
- Мне и братцу помоги,
- Спинку белую подставь,
- На тот берег переправь!
Уточка подплыла, Гензель уселся ей на спину и сказал сестрице садиться рядом с ним.
– Нет, – возразила Гретель, – уточке будет слишком тяжело. Она переправит нас по очереди, сперва тебя, а потом меня.
Добрая уточка так и сделала, и они благополучно переплыли на другой берег. Прошли они еще немного и стали замечать, что лес становится все более знакомым, а вскоре увидали издали домик отца. Тут они побежали вперед, в комнату, и бросились обнимать отца.
С тех пор как дровосек завел детей в лес и бросил, не знал он ни минуты радости, а жена его умерла.
Гретель высыпала из передника жемчужины и драгоценные камни, так что они рассыпались по всей комнате, а Гензель доставал их из кармана целыми пригоршнями.
Наконец пришел конец их несчастьям, и они зажили вместе в радости и довольстве.
- Тут и сказочке конец,
- Влезла мышка на светец,
- Кто ее убьет,
- Себе шапку сошьет,
- Шапку меховую,
- Большую-пребольшую.
Роберт Ширмен
Голод
В семействе фон Цитенов скандалов отродясь не бывало. Фон Цитены их не одобряли. Зиглинда знала, что одному фон Цитену случилось побывать на войне и он сделал что-то очень нехорошее (на какой именно войне, она не знала, а теперь уж, пожалуй, поздновато было интересоваться). Он то ли струсил, когда надо было показать себя героем, то ли повел себя, как герой, когда общественное мнение как раз ополчилось против героизма и осмотрительность ценилась много выше. Словом, все это было просто ужасно. Но капитан фон Цитен исправил положение ценой собственной жизни – он застрелился из револьвера своего подчиненного, – и семейство сурово простило его.
А иногда на вечеринках – если Дядя Отто напивался – Зиглинда слышала, как он бормочет себе под нос истории о Тете Ильзе, скрывавшей свою непристойную страсть к козлам. И больше ничего – фон Цитены были респектабельны, благообразны и безупречны.
Поэтому, когда разразился скандал вокруг Бабули Греты, все удивились, а в глубине души даже порадовались немного. У них ведь появился новый предмет для осуждения.
Зиглинде понадобилось несколько дней, чтобы раскопать, в чем была суть скандала. Считалось, что она еще ребенок, а потому стоило ей войти в комнату, как все переходили на шепот. Но в конце концов мама ей все же рассказала, под тем предлогом, что это может оказаться полезным для ее нравственного воспитания. Зиглинду усадили со всей приличествующей случаю серьезностью, но от девочки не укрылось, как взволнованно звучал мамин голос, как блестели ее глаза и как она тараторила – она наслаждалась порочностью Бабули Греты.
А дело было вот в чем: прожив более шестидесяти лет в браке, Бабуля Грета решила развестись. «Более шестидесяти лет!» – повторила мама, да к тому же, насколько могли судить фон Цитены, брак был счастливым – по крайней мере семейство никогда не замечало у супругов признаков недовольства. И не то чтоб у Бабули был шанс как-то осмысленно распорядиться остатком жизни – ей уж, кажется, перевалило за восемьдесят, так что в последних потугах Греты на независимость, ради которых она решилась на скандал, было удивительно мало смысла. Причин для развода у Греты не было, или, по крайней мере, Дедуля Гюнтер уверял, что не давал ей повода. Все немного сочувствовали Дедуле Гюнтеру, что само по себе было несколько неловко: Дедуля был человек крепкий и кряжистый, не склонный к душевным переживаниям – сочувствовать ему было как-то неправильно. Семья задавалась вопросом, не сошла ли Грета попросту с ума? Это многое объяснило бы и, возможно, даже смягчило тяжесть проступка. Хотя, конечно, если уж она вздумала сойти с ума, следовало бы сделать это тихо, не привлекая к себе ничьего внимания.
Зиглинду учили избегать скандалов, и она изо всех сил старалась следовать правилу. Например, ей всего нескольких месяцев недоставало до шестнадцати лет, а видеться с Клаусом до сих пор позволялось только в присутствии взрослых. Несмотря даже на то, что семья знала: в один прекрасный день молодые люди поженятся – более того, именно семья и выбрала для нее этого жениха! Зиглинда понимала: не следует задавать лишних вопросов о бабушке и ее греховных поступках. Но Бабуля Грета ей нравилась. Может быть, она даже была самой любимой из всех бабушек и дедушек – Грета была несколько строга, так ведь фон Циттены вообще отличались строгостью. Правда, иной раз, когда Зиглинда гостила у нее, особенно в раннем детстве, Грета пекла ей чудесных пряничных человечков. Зиглинда в жизни не ела ничего вкуснее этих человечков. Она так и не поняла, что за приправу бабушка клала в них для вкуса.
Зиглинда знала: попроси она сейчас разрешения сходить в гости к бабушке, родители откажут. Так что она и не просила. Выбрав время, когда папа был у себя в кабинете, а мама хлопотала на кухне, Зиглинда улизнула. Она не хотела явиться к бабушке с пустыми руками, поэтому потратила карманные деньги у булочника, купив полный пакет бриошей, часть из них с шоколадной начинкой.
Бабушка, казалось, не удивилась, увидев внучку.
– А вот и ты, – сказала она. – Хорошо. Поможешь мне найти чемодан.
– Я принесла бриоши, – сказала Зиглинда.
– Давным-давно я съела свою последнюю бриошь, – сказала Бабуля Грета.
– У некоторых внутри шоколад.
– И шоколад тоже, – сказала Бабуля Грета.
– Так это правда? Ты уезжаешь?
– Да, – сказала Бабуля Грета.
– Ты сумасшедшая? Все говорят, что ты сошла с ума.
– Я не сошла с ума, – сказала Грета. – Если я и сумасшедшая, то была точно такой же сумасшедшей и раньше. Просто решила перестать притворяться. Все это притворство, как же я от него устала. Я напекла пряничных человечков в последний раз. Давай полакомимся пряниками и поговорим.
Зиглинда согласилась. Она давно уже не пробовала бабушкиных пряничных человечков, только спросила, не слишком ли она взрослая для них.
– Ах, чепуха, – отмахнулась Грета. – Возраст у тебя как раз самый подходящий для моих пряничных человечков. Все те человечки, которых ты ела до сих пор, были просто подготовкой. Теперь, наконец, попробуешь настоящих. – Но сначала, – прибавила она, – мы найдем чемодан, ладно?
Они поднялись на чердак. Там не было света.
– Твой дедушка, – сказала Грета, – все обещал провести сюда электричество, но так и не сделал. Всегда у него так: завтра, завтра, получишь свои лампочки завтра.
Зиглинда поинтересовалась, не потому ли бабушка от него уходит.
– Все хорошо в свое время, – ответила Грета, шаря в темноте, а потом добавила: – Ага, ага, вот же он!
И вытащила из тьмы чемодан. Он был большой и коричневый, с медными пряжками.
– Хорошо, – сказала бабушка, – Теперь пойдем, поболтаем.
Пряничные человечки были только что из печки, почему-то они казались влажными, какими-то сочными – хотя Зиглинда отлично знала, что пряники сочными не бывают. Рот у нее наполнился слюной. Грета принесла пакет с бриошами, заглянула в него, отшатнулась с отвращением и без церемоний швырнула пакет в мусорное ведро.
– Тебе правда так уж надо уехать, Бабуля? – спросила Зиглинда, и на глазах у нее выступили слезы, и это было странно, ведь она не была сентиментальной девушкой – сантименты не приветствовались в доме фон Цитенов.
– Ну, ну! – Бабуля сочувственно похлопала Зиглинду по руке, она тоже не привыкла выражать свои чувства, так что этот жест получился неуклюжим и грубоватым, как если бы для утешения Зиглинде подсунули под нос дерюжный мешок с луком. – Я должна рассказать тебе историю, ту же, которую рассказала своему мужу. А ты должна поесть.
Зиглинда надкусила пряничного человечка. Это было вкусно.
– Я родом из бедной семьи, куда беднее вашей. У меня был брат по имени Ханс, отец – лесоруб, сначала была и мать. Потом мать умерла. А отец снова женился. Мачеха нас невзлюбила.
(«Это была злая и жестокая мачеха?» – спросила Зиглинда.)
– Не думаю, что она была так уж зла или обходилась со мной более жестоко, чем моя родная мать. Мачехам бывает трудно. Трудно любить даже собственную плоть и кровь, уж я-то знаю. А уж чью-то еще полюбить почти невозможно. Ах, да ведь эта история вовсе не про злобных мачех.
(«Хорошо».)
– Ты такая же, как твой дед. Не перебивай больше.
– («Извини».)
– Мачеха не желала терпеть нас в доме. Она старалась нам улыбаться, но мы с Хансом видели ее насквозь. Улыбки у нее получались вымученные, кривые, будто она страдала от зубной боли. Мы играли в лесу. Заходили все глубже и глубже, день от дня, и осмелели настолько, что могли зайти в самую чащу. Однажды мы так играли, и Ханс мне говорит: «Ну вот, сестрица, теперь мы, наконец, заблудились по-настоящему. Дом, наверное, далеко, и неизвестно, в какой он стороне. Мы будем блуждать до конца жизни, но так его и не найдем. А может быть, здесь мы и помрем – если не от голода, так замерзнем или волки нас съедят». И он расплакался, потому что братец мой был очень нежный мальчуган.
Мы легли на землю и собрались умирать, мы смирились со смертью, тогда ведь не имели обыкновения противиться ей так, как нынешний народ. Но мы не успели испустить последний вздох, а увидели старуху, стоящую над нами. Я сказала, что она была старухой… может, она не была такой уж дряхлой, но в моем возрасте тогда старым казался любой человек с седыми волосами, выпавшими зубами во рту и оспинами на лице. Она сказала:
– Ах, бедные мои детки, вы, должно быть, совсем голодные. Хотите, я отведу вас в такое место, где много еды, сплошная еда. Кладовые у меня полны так, что ломятся, а стены домика сложены не из кирпичей, а из свежих, мягоньких хлебных буханок, а скреплены не замазкой, а шоколадной помадкой, а крыша-то крыта лакричными леденцами. Пойдете со мной? Тут недалеко.
Ханс был моим братом. Я всегда его слушалась. Ханс сказал: «Ладно». И я подумала, что эта женщина могла бы стать нам новой матерью. Я спросила, как ее зовут, а она ответила, что у нее нет имени, а если и было, так она давно его позабыла. Я было начала называть ей наши имена, а она меня остановила, сказав, что не думает, что нам надо так близко знакомиться.
Так оно и вышло. Только мы вошли в ее дом, как она большим ключом заперла за нами дверь. «Уж простите, касатики», – сказала она, и, честно говоря, по ней было видно, что ей и впрямь жаль, и мы не смогли на нее рассердиться. Она сказала: «Как видите, кирпичики сделаны из кирпичиков, цемент – это просто цемент, солому с крыши давно унесло ветром, а пока она еще там лежала, то совсем не походила на лакричные леденцы. В доме есть еда, но еда – это вы, то есть я хочу сказать, что съем вас обоих, понимаете? Они у вас внутри, ваши почки, сердца и требуха, в общем, вы оба не что иное, как аппетитные личинки в тонкой колбасной шкурке, и то, что вы до сих пор бегаете – это не дело, но мы это поправим».
Она откусила Хансу палец и проглотила его. Потом откусила один из моих и тщательно прожевала. Потому что, как ты понимаешь, по пальцам лучше всего можно определить, хорош ли ребенок. «Пока еще недостаточно спелые, – сказала она, – но не беда, недолго уж осталось, ох и закачу же я пир! А тем временем, обещаю, буду с вами ласкова и заботлива, буду вам доброй матушкой – это самое малое, что я могу для вас сделать. Мне и правда ужасно жаль, но вы должны понять, я ведь тоже страшно голодна, просто умираю от голода».
Она принялась нас откармливать. А это было непросто, ведь еды в доме не было. Она раздевала нас и ставила в ванночку и терла мочалкой – знаешь, такие мочалки, что растут на кустах, с жесткими щетинками? Старая кожа сходила с нас лоскутьями, а она ее собирала, каждый крохотный клочок, и жарила, и велела нам есть – а пахла та кожа очень хорошо, вроде жареного лука, и так аппетитно шкворчала на сковороде. Но сама она не съела ни крошечки, какой бы голодной ни была. «Нет, нет, – говаривала она, – это угощение для деток, а обо мне не тревожьтесь, скоро уж и я дождусь своего обеда». Но иногда она смотрела, как мы едим, и не могла сдержаться, при виде нас у нее начинало урчать в животе, и она принималась плакать. Мы ее умоляли: «Поешьте, пожалуйста поешьте!», мы говорили: «Возьмите у нас еще по пальчику, откусите их, утолите голод». Однажды она так и сделала, засунула их в рот, но вздрогнула и сказала, что мы все еще недостаточно спелые – и что мы поступили очень дурно и эгоистично, заставив ее раньше времени потратить два чудесных пальца, которые еще не были готовы. Она сильно разозлилась, я думаю, впервые за все время, что мы ее знали, и отправила нас спать без ужина. Впрочем, в те голодные дни это было в порядке вещей.
Как-то утром за завтраком, когда мы с Хансом жевали лоскутки старой кожи, женщина заявила, что не в силах больше ждать. Она слишком голодна, еще час, и она умрет от этого невыносимого голода, и что тогда будет со всеми нами? Ей необходимо съесть нас прямо сейчас, немедленно. А если мы еще не дозрели как следует, что ж делать, она готова помучиться несварением. Она слишком ослабела для того, чтобы развести огонь в печи, так что мы с Хансом все делали сами, но, видно, в чем-то ошиблись: в конце концов мы приготовили ее вместе себя. Я все спрашивала Ханса: «А ты уверен, что мы все делаем правильно?», когда мы складывали женщине руки и подпихивали их ей под живот, чтобы просунуть в печь, и он отвечал, чтобы я не волновалась. Женщина нас не винила. Она сказала: «Вот и ладно, так или эдак, настал конец моим страданиям». Думаю, так оно и было.
Мы взяли ключ и открыли входную дверь, и вышли в лес. Ах, каким же свежим был воздух, каким густым, кажется, его можно было есть. И мы были свободны. И мы собрались домой.
– Мне не нравится этот чемодан.
– Что? – спросила Зиглинда. – Какой чемодан?
– Не нравится он мне, – сказала Бабуля Грета. – И эти ужасные медные пряжки! Что за показуха! Что за безвкусица! Ах, когда тащишься с чемоданом и тебе некуда с ним податься, тут меньше всего нужны медные пряжки – только руки оттягивать. Нет. Мы с тобой снова залезем на чердак. Вставай. Пойдем на чердак, подберем чемодан получше.
Зиглинде показалось, что на этот раз темнота на чердаке была еще темнее прежнего, и это было невозможно, разумеется, – но от этой темноты у Зиглинды болели глаза.
– Стой там, – распорядилась Бабуля Грета и нырнула в темноту, а Зиглинда понимала, что она там ни зги не видит: у нее, Зиглинды, глаза были молодые и зоркие, насколько же хуже должна была видеть Грета, при ее-то древности!
Она услыхала, как Грета пыхтит от натуги, будто сражается с кем-то, может, она там сражалась с самой тьмой. И Зиглинде вдруг стало совершенно ясно, что она никогда больше не увидит бабушку, что та пропала навеки в этой темноте или даже умерла, а спасти ее Зиглинда могла бы только одним способом – бесстрашно прыгнув во тьму и отдать себя на милость тому, кто прятался внутри, умоляя сохранить жизнь бабушке. Но ей не хватило храбрости и, еще того хуже, не было даже такого желания.
И тут вдруг Грета вынырнула, обеими руками крепко сжимая другой чемодан – этот был еще больше, серее и без всяких оскорбительных пряжек. Вид у нее был спокойный, будничный, как будто не она только что вступила в битву с чудовищами тьмы, будто не она только что была на волосок от смерти – но вообще-то, может, и не была.
– Выпить чаю, – сказала она, – вот что нам нужно, а ты съешь еще одного пряничного человечка, правда? Идем, идем.
На кухне Зиглинда сказала:
– Я не возьму второго пряничного человечка, спасибо.
Бабуля Грета сказала:
– Это почему?
Зиглинда объяснила, что не хочет располнеть.
Бабуля Грета сказала:
– Было время, когда нас совсем не волновали подобные глупости. Толстеть было хорошо. Это значило, что сможешь пережить зиму.
Зиглинда ответила, что это было давно, а теперь быть полной нехорошо, и что Клаус не хочет, чтобы она набирала вес, – он говорит, что ему не нравятся девочки с широкими бедрами.
– Этот твой Клаус идиот, – сказала Грета, – и бедра у тебя совсем не широкие, уж поверь мне, я эксперт, я нюхом чую, что им еще толстеть и толстеть. А теперь съешь-ка еще одного пряничного человечка, а то я обижусь и мы не будем больше друзьями.
Зиглина этого не хотела, к тому же ей нравились бабушкины пряники, они и впрямь были удивительно вкусными.
– А ты разве не возьмешь себе пряник? – спросила Зиглинда и откусила ногу, а Грета отмахнулась от предложения и подняла свою чашку, и тут-то Зиглинда вдруг заметила, что у бабушки в самом деле не хватает пальцев на руке, а она никогда этого не замечала, как ни странно.
– Мне понравилась твоя история, бабушка, – сказала Зиглинда. – Но я все равно не поняла, почему ты уходишь от Дедули.
– Это потому, что история еще не окончена, – ответила бабуля Грета. – А теперь примолкни, кровь от крови моей, и слушай.
Я сказала, что воздух был таким свежим и вкусным, что его, казалось, можно было есть. Но взаправду-то съесть его мы не могли. И, хотя мы с Хансом наслаждались свободой и радовались тому, что избежали лютой смерти от рук старухи, на самом-то деле мы еще были в опасности. Мы бродили по лесу, такие же голодные, как раньше, и не находили дороги. Мы плутали много часов, и ноги у нас болели, и болели пустые желудки, и Ханс сказал: «Плохо дело, сестрица, лучше бы все оставалось, как было. Тогда в нашей смерти был хотя бы резон – она помогла бы сохранить кому-то жизнь, а она схоронила бы наши косточки и вспоминала бы нас, и в ночной тьме, сидя в одиночестве, гладила бы себя по животу, и ей было бы не так одиноко». Ханс проронил слезу, потому что, я уже говорила тебе, он был очень чувствительным мальчиком.
Но мы все продолжали брести вперед, и вот, когда уже совсем падали от слабости, вдруг увидали перед собой дом. И только добравшись до дверей, мы поняли, что это был за дом – все это время мы шли по кругу. Мы вернулись к той самой лачуге, где были пленниками, где кирпичи были не из хлеба, а замазка не из помадки, но все равно там что-то очень вкусно пахло. И мы открыли дверь, и там, конечно, была та женщина – там, где мы ее оставили, и испеченная в самую меру.
О, у меня прямо живот скрутило, так хотелось мяса. «Выбирать нам не приходится», – сказал Ханс и достал из печки жаркое, и отломал у женщины одну руку, и начал глодать. Женщина смотрела на нас глазами, которые от огня побурели и походили на печеные яйца. «Прикрой их, по крайней мере», – сказала я, а Ханс сделал кое-что получше: все ее лицо целиком оторвал, да и бросил в огонь. «Ты должна поесть, – сказал он, – дорогая моя сестрица, ты же знаешь, нам нынче привередничать не приходится».
А я сказала: «Не выберешь ли ты мне кусочек, но не слишком мясистый, чтобы не очень было понятно, что он с мертвого тела?» И он порылся, а потом протянул мне что-то похожее на маленький кусочек курицы, и я положила его в рот и проглотила.
О, как же было вкусно! Мой желудок заурчал от удовольствия – да так сильно, сказать по правде, что сначала он отправил это мясо обратно, и мне пришлось проглотить его еще раз, медленнее, чтобы убедиться в том, что это не сон. Той ночью у нас был пир. Я недолго мучилась угрызениями совести – они больше были ни к чему, да и зачем, ведь мои чувства не могли меня обманывать? У тела столько разнообразных вкусов – сердце, легкие, почки, мясо: и ничего пресного, ничего безвкусного. Мы предназначены в пищу, созданы для этого. Вскоре я даже выудила из огня лицо женщины, и мы съели и его тоже. И ты знаешь, глаза на вкус и впрямь оказались почти как яйца, надо было только зажмурить свои собственные и притвориться.
Я сказала, что еда придала нам сил и теперь завтра мы сумеем найти дорогу домой, и Ханс согласился. Мы легли спать с полными животами – такими полными, что не могли на них лечь и то и дело перекатывались набок. А утром Ханс сказал: «А к чему уходить? Дом-то теперь может быть нашим. А прокормиться мы сможем тем, что найдем в лесу. Потому что в лесу полным-полно деток, все дети в мире хоть раз да ходят в лес поиграть, и многие бывают неразумны и забираются слишком далеко. На свете миллион злых мачех, от которых дети убегают, и миллион добрых дровосеков, которым нет до всего этого никакого дела».
Я помню первое дитя, которое мы поймали. Оно смотрело на нас с таким идиотским облегчением. Оно сказало, что уж думало, что умрет здесь в одиночестве. Ханс сказал: «Не в одиночестве», – и поскорее сломал ему челюсть, потому что та женщина была права, лучше, чтобы ребенок не сообщал своего имени: не стоит завязывать слишком близких отношений с домашним скотом. Мы отломали каждый по пальцу и отведали их, и нам они показались достаточно спелыми – но что мы понимали? Потом мы подвесили дитя вверх ногами, а оно не переставая вопило, а потом перестало вопить и только тихо плакало, а потом и плач прекратился.
Детское мясо – самое лучшее, хорошо отходит от косточек и тает во рту, и у него вкус смерти, а смерть хороша на вкус, – можно прожить и на овощах, но наслаждения от этого не получишь, а угощаясь смертью, мы хоть на миг да чувствовали, что мы победили ее, что мы боги, мы будем жить вечно.
И так было несколько лет. Мы никогда не были с детьми жестоки, не подвергали ненужным страданиям – и это тоже было хорошо и правильно, потому что неспелое дитя кисловато на вкус, но страдающее дитя – просто сущая кислятина. И мы забыли лицо своего отца. И нам было все равно – я думаю, что нам было все равно.
Однажды мы нашли маленькую девочку, спящую под кустами. Она спала совсем рядом с нашим домиком, прямо-таки в нескольких шагах – будто кто-то принес ее нам в подарок. Сперва я думала, что она уже померла, а ребенок, если он уже умер, мало на что годен – он съедобен, конечно, но что за удовольствие подбирать объедки после воронов да червей? Ханс поддел ее ногой, и она открыла глаза, моргнула, увидев нас, и улыбнулась. Она улыбнулась. Ханс говорит: «Мы тебя съедим». А девочка ему: «Я знаю, как выйти из лесу. Я знаю дорогу домой».
Я сказала Хансу: «Вот оно, наше избавление». А Ханс ответил: «Нет для нас избавления. Мы такие, какие есть, и уже никогда нам не стать другими. Мы охотимся на слабых и беззащитных и из-за этого становимся злыми, ну так что, пусть мы злые, зато мы честные. Там, за лесом, нет для нас дома. Грета».






