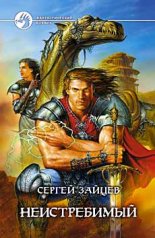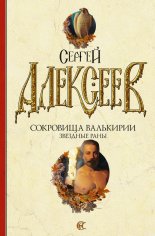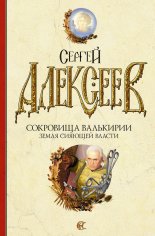Белое солнце России Логачев Александр
Алексей втащил раненого в лес, прислонил к стволу лиственницы. Расстегнул гимнастерку. Разорвал исподнюю рубаху, соорудил из нее повязку, обмотал ею рану. Понимая, что все бесполезно, Алексей глухо выругался.
– Хана мне. – Федор не спрашивал, он констатировал.
«Хана», – про себя согласился Алексей. И через сто лет от таких ранений будут умирать даже те, кого вовремя успеют доставить в больницу. Однако это не значит, что надо опускать руки. Чудеса случались всегда.
– Значит, прошло? Заговорил? – Федор нашел в себе силы улыбнуться. – Или прикидывался?
– Заговорил, – Алексей рукавом вытер пот со лба. – Поди тут не заговори… А вот ты молчи, нечего терять силы.
Алексей поднялся на ноги. Перевел дух, и ладно, теперь надо дотащить Федора до того поселка, что за рекой. Там люди, там должен быть какой-то врач, и он поможет. Не захочет помочь – заставим.
– Брат, – Федор отстранил руку Алексея. – Погоди! Послушай! У тебя есть жена, дети?
– Нет.
– А дом?
– И дома нет.
Федор расстегнул нагрудный кармашек.
– Документы, письма… Бери! Да не тяни ты меня. Нешто я дурной совсем и не понимаю, что отпрыгался. Не перебивай! Мне надо успеть тебе сказать. Ты это… Ты пиши от меня жене, пусть думает, что я жив. А вернешься с войны, загляни в деревню. Христом-Богом прошу! Хоть на денек загляни к моим, нас же почти не различить. Ежели усмотрят какие различия, всегда на войну списать можно. Чай, уже год дома не был. Потом можешь уйти, бросить их. Но покажи моей бабе, что я жив. А то она так и будет ждать, надеяться… понимаешь? А придешь, уйдешь, освободишь ее. Понимаешь? Слушай, а как тебя звать-то?
– Алексей.
– Лешка, обещай мне, поклянись! Крестом поклянись, – Федор снял нательный крестик, протянул Алексею. – Возьми его себе. Надень. И клянись.
Алексей поклялся. А что еще оставалось?
– Слышь, Лешка, а то стань мною, а? Что тебе за разница, как зваться!
– Хватить болтать! – Алексей решительно подхватил Федора, поднял с земли. – Сам заявишься к своей бабе!
И потащил. Он тащил раненого на подгибающихся ногах, тащил, пока не выдохся вконец. Он осторожно опустил Федора на землю. Они уже вышли из леса, до речного берега оставалось шагов сто.
Федор лежал, глядя в небо широко раскрытыми, неподвижными глазами. Рот был приоткрыт. Алексей наклонился к нему, послушал сердце, попробовал нащупать пульс, поднес ладонь к губам. Сомнений не осталось – Федор, человек, так похожий на него самого, умер.
Алексей задрал голову. Над ним висела нестерпимо полная луна. Где-то вдалеке иногда пощелкивали выстрелы. И Алексею вдруг невыносимо захотелось взвыть по-волчьи…
Часть первая
Ком бед
В апреле 1918 года на русских дорогах было тревожно. Всякий, кто пускался в путь, сперва задумывался: а есть ли серьезная причина покинуть дом и протопать несколько верст? Если необходимость все же побеждала страх, то шел человек осторожно, будто попал в чужую, неведомую и опасную страну. Перед тем как войти в лес, он останавливался, прислушивался и крестился. Когда же лесная дорога выводила его в поле, он замирал на опушке, вглядываясь в даль: не мелькнут ли вдали верховые – потому что тогда в России без оружия на коне никто не ездил.
На огромных просторах погибшей Империи человек начал бояться человека.
Однако пешеход, идущий столбовой дорогой Монастырского уезда Пензенской губернии, судя по всему, не боялся ничего. Он двигался широким, быстрым шагом, и чувствовалось, что ничто не мешает прошагать ему еще верст десять, даже увеличив темп. За плечами пешехода болтался большой и несомненно тяжелый солдатский ранец. Было человеку лет эдак тридцать. Он шел, насвистывая что-то беззаботное, и с интересом оглядывался по сторонам.
А еще пешеход слагал в уме письмо. «Здравствуйте, ненаглядная моя! Хотя до родного села всего пятьдесят верст осталось, а значит, наша долгожданная встреча как никогда за эти четыре года близка, мне все равно трудно забросить свою постоянную привычку – слагать Вам письма. От такого занятия и ногам легче, и груз на плечи не давит, и на душе свежеет, будто закурил после долгого боя. Письмам, вложенным в конверты, доверия у меня большого нет. Доходят они с опозданием. Бывает же, как за последний год, что и вообще не доходят. А это послание я на бумагу записывать не буду, потому как пребываю в надежде увидеть Вас уже завтрашним вечером. Может, Вы и удивитесь, узнав, что я лишь завтра чаю добраться до Глуховки, ибо мне за день сорок верст пройти – не велик труд. Однако уже смеркается, и придется мне поискать ночлег в селе Зимино. Местные обитатели Вам хорошо знакомы, у некоторых мы в мирное время гостили не раз, так что под кустом не заночую».
– Хотелось бы верить, – это путник произнес вслух. И добавил со вздохом: – Да чего уж теперь!
И вновь вернулся к сочинению письма. «Обстоятельства моей жизни за последние месяцы описаны в предыдущем письме. Но боюсь, могло оно не дойти, поэтому напоминаю все коротко. Когда товарищ Троцкий объявил, что отныне ни мира, ни войны, весь мой полк решил сам себя демобилизовать. Пошли мои боевые товарищи по домам, и каждый захватил с собой бывшего казенного добра, сколько в наш солдатский мешок поместилось. Меня же задержало одно серьезное дело, а было оно столь занятное, что я пока рассказывать о нем не буду. Приду и расскажу…»
Перед тем как выйти из леса, дорога спустилась в глубокий овраг. Человек бросил взгляд на густой кустарник, лишь недавно покрывшийся молодой листвой, задержал взгляд на одном из кустов, потянул носом и зашагал дальше. Однако в лице его что-то изменилось, и хотя он был по-прежнему спокоен, но больше не свистел.
«О том, как я потом до Пензы добирался и дальше шел, рассказывать сейчас тоже не стану. Потому как из придорожных кустов махоркой пахнуло и, похоже, придется мне ненадолго отвлечься…»
– Стой!
Пешеход сделал еще два шага и остановился.
– Не поворачивайся! Руки вверх! – опять раздался из-за кустов хриплый басок. Его обладатель явно был очень молод, но старался изо всех сил показать, какой он взрослый, сильный и опасный.
Путник поднял руки, безмятежно глядя на предзакатное солнце. При этом он напряженно вслушивался, стараясь определить численность напавшего отряда. Через несколько секунд послышались неуверенные шаги – явно только один. В спину уткнулось что-то твердое.
– Оружие! – еще более хрипло потребовал невидимый противник.
– Зачем оно тебе? У тебя свое ружжо есть, – насмешливо ответил путник. Ствол ткнул его в спину еще сильнее.
– Ты поговори, – послышалось сзади, но разговор не получился, ибо в ту же минуту прохожий присел, как плясун, юлой повернулся на каблуках, левой рукой схватил снизу винтовку за ствол и поднял ее, выпрямляясь. Его правый кулак, взмыв вверх, подбросил противника мощным толчком в челюсть, так что зубы лязгнули. Не прошло и двух минут с того момента, как пешеход был вынужден не по своей воле остановиться, а картина на дороге полностью изменилась. Путник стоял на том же месте, слева от него в пыли валялась винтовка (старая добрая мосинская трехлинейка), справа – ее хозяин, парнишка лет восемнадцати. Одной рукой он ощупывал подбородок, другой пытался отыскать улетевший картуз, но, судя по выражению лица, он так еще и не понял, что же с ним произошло.
– И одного ружья для тебя много, – сказал путник, поднимая трехлинейку. – Ты же с ним и обращаться-то не умеешь. Ну вставай, пока не простыл.
– А больше бить не будете? – недоверчиво спросил парнишка, вглядываясь в незнакомца.
– Вот заодно и узнаешь.
Парнишка старчески охнул, нацепил запыленный картуз козырьком назад и медленно поднялся.
– Как звать-то тебя?
– Гришка, – несмело сказал парень, будто его имя, произнесенное вслух, могло привести к новым побоям.
– Так вот, Гришка, отвечай прямо и честно, как перед попом на исповеди в Великий пост. Ты чего с винтовкой по дорогам шаришься?
– У ребят табачок вышел, вот они меня и послали.
– Гришка, а что теперь, в вашем селе по-другому табаку не достать?
– Кому достать, кому нет. Я уже третью неделю по лесу брожу, домой не заглядываю. У нас большаки комбед завели, и с тех пор жизни не стало.
– Ком бед?
– Ага, комбед. Это вроде сельской управы. Только там не нормальные мужики, как мой тятька, а голота. Пришел указ – молодых забирать в солдаты. Вот этот комбед и решает: кого оставить в селе, с бандитами воевать – то есть с нами, а кому в ихнюю Красную армию иттить. Рвань разная в Усадьбе засела. За трудовой народ она, видите ли, борется. Весь самогон с уезда туда свезли, для борьбы. А ребят с приличных дворов велели собрать – и в уезд. Ну, мы в лес и подались.
– Хорошие дела у вас творятся, – сказал путник и повесил на плечо винтовку. – Ну, прощай Гришка, я дальше пошел.
– Ой, дядя, а как же я к ребятам без ружья вернусь? Что же я им скажу? Они мне теперь всю морду разобьют.
– Скажешь: «Федор Назаров по дороге шел и винтовку отобрал».
И Назаров, не глядя больше на Гришку, зашагал дальше.
* * *
Прежде Зимино было богатым и веселым селом. Барин еще лет за десять до Германской войны продал землю крестьянам. С той поры он только читал журналы и ловил бабочек. Мужики с выгодой сбывали урожай в уездный город Монастырск и давали ночлег купцам, едущим туда же на ярмарку. Уставшие купчики могли отдохнуть перед завтрашней дорогой, а сохранившие силы – развлечься. Зимино всегда славилось красивыми девками.
- Рано под утро девка пришла,
- Рубли в подоле домой принесла.
Теперь, весной 1918 года, село казалось вымершим.
Несколько изб были пусты. Распахнутые ворота приглашали заглянуть во двор, но первый же беглый взгляд расхолодил бы любого мародера – добро вывезено до лоскутка. Чьи-то заботливые руки прибрали все, включая двери и ставни.
Жилые дворы, напротив, были заперты так, будто через Зимино собирался пройти цыганский табор и народ, затаив дыхание, ждет вороватых гостей. Даже собаки лаяли осторожно: гавкнут пару раз и замолкнут, будто раздумывая – стоит ли брехать дальше?
Солдат остановился возле весьма приметных, украшенных резьбою ворот.
– Эй хозяин! – крикнул солдат. – Отпирай ворота, гость пришел!
Назаров присел на лежавшее поблизости бревно и закурил. Самокрутка дотлела наполовину, но хозяин не появлялся. Только залаяла собака.
– Мне что, у калитки ночевать?!
– Ты, дядя, горло не дери. Все равно не откроют, – послышалось сзади.
Назаров обернулся. Неподалеку от него стоял малец лет семи. В ладошке пацан сжимал игрушечную винтовку, вырезанную из доски, с приделанной к ней веревочкой для ношения на плече.
– Почему не откроют?
– Ты с ружьем пришел. Значит, у хозяев сало потребуешь, самогон будешь искать. Может, самого хозяина со двора уведешь. Вот тебя и боятся. Но не сильно, ты же один.
– А ты чего не боишься?
– У меня у самого ружье есть.
В подтверждение этих слов мальчишка наставил на Назарова деревянную винтовку. Солдат хмыкнул и достал из кармана замызганный кусок сахара, кинул его сорванцу.
– Считай, испугал меня и ограбил. А теперь скажи – дома ли Никита Палыч?
– Назаров! Федька! Живой, вернулся!
Это кричал-надрывался показавшийся в конце улицы невысокий мужичок в грязной рубахе, наполовину заправленной в портки. «Так, так… Кто это у нас? Уж не Тимоха ли Баранов, личность известная не только в Зимино, но и за его пределами. Итак, быстренько припомним, что нам известно о Тимохе».
В детские годы Тимоха лет пять ходил в школу, заведенную барином. По мнению односельчан, ему это пошло исключительно во вред. Доведись Баранову пасти скотину – он тотчас начинал считать окрестных ворон, сорок и прочих птиц, с естественными последствиями для подопечного стада. Поэтому его даже в постоянные работники не брали. Время от времени нанимали лишь для мелких дел. Соседи всегда удивлялись: почему такой серьезный мужик, как Назаров, посещая их село, дружит с этим недотепой? «А и вправду интересно, зачем это я с ним дружу?»
– Здорово, Тимоха.
И солдат протянул руку для пожатия, подумав при этом, что первое свидание с персонажем из довоенной жизни прошло без сучка и задоринки. Узнали его, признали, не усомнились.
– Где остальной народ-то, а, Тимоха?
– Боятся. Сейчас по вечерам только мы с Климкой по улицам гуляем. Он малый, я дурной. Кто нас тронет?
– А кто остальных трогает?
Ответить на этот вопрос Баранов не успел. Наконец-то заскрипела калитка. Из нее выглянул дед в потертых валенках.
– Здорово, Федя. Извини, что сразу не открыл. Сперва не признал. Изменился ты…
«Если б ты знал, дедуля, насколько я изменился», – этого произносить вслух солдат не стал.
– И ты будь здоров, Никита Палыч, – браво, как солдату и положено, приветствовал Назаров хозяина дома и резных ворот. – Ты-то сам, гляжу, не постарел.
– Четыре года – невелик срок. Да проходи, что ты перед воротами топчешься? Я сразу понял – тебе заночевать надо. Банька у меня сегодня натоплена, а когда попаришься-помоешься, жена стол накроет.
– Никита Палыч, – робко сказал Тимоха, – если вы водку пить будете, можно я загляну?
Хозяин взглянул на Назарова, потом на Тимоху и махнул рукой – приходи, черт с тобой.
Когда Назаров вошел в избу, с ним сразу же поздоровалась хозяйка… как там бишь ее? Вспоминай рассказы в лагере, письма жены… А! Фекла Ивановна.
– Здравствуй, здравствуй, Федор Иванович. Значит, не убили?
– Бог миловал, – ответил Назаров. – На войне и вправду не убили. А у вас тут, пока у ворот ждешь, помереть можно.
– А это мы, Федор Иванович, главное сокровище прятали.
– Ты что, – прикрикнул на жену Никита Палыч, вошедший за Назаровым в избу, – сдурела?
– А ты мне рот не затыкай, – затараторила баба. – Знаю ваши тайны. Как напьешься, так сам все гостю расскажешь. Уж лучше я сама. Лареньку мы здесь прячем. Никита сказал: человек при оружии перед домом стоит. Я и увела ее в чуланчик. Нельзя, чтобы Лареньку у нас нашли.
– Ларенька – это барышня Лариса из Усадьбы? – спросил Назаров, сам удивляясь своей осведомленности. Или, может быть, своей отменной памяти.
– Она самая, сердешная. За ней Сенька Слепак охотится, который в комбеде заправляет. Она его любови давным-давно отвергла, так он решил сейчас свое взять. Ларенька, бедняжка, у нас света дневного не видит, все в избе прячется. И мы боимся – как бы кто ее у нас не заприметил.
– Ты бы не кудахтала лучше, а выпустила Ларьку, – сказал Никита Палыч. – И стол пока накрыла. А я пока Федю в баньку провожу.
Заскрипела дверь. Гость обернулся. В горницу несмело вошла девушка. Ее лицо было бледным, как бывает у людей, проводящих почти все время под крышей. В правой руке она держала небольшую книжечку, заложенную пальцем посередине.
– Здравствуйте, – робко начала она. – Так это вы, Федор Иванович?
– Он самый. Мое искреннее почтение, барышня Лариса.
«Так и тянет выдать пошлость: „Девушка, кажется, мы с вами где-то встречались“. Ведь, наверное, встречались же где-то? А красива барышня из Усадьбы. Наверное, таких и называют тургеневскими барышнями. Но – ша, солдат! Отставить вольные мысли! У тебя жена в сорока верстах отсюда».
– Как я рада, Федор Иванович, что вы вернулись. Я ведь ту нашу встречу у реки запомнила надолго…
«Ая-яй, – подумал Назаров, – что ж это я про то ничего не знаю?»
– Ладно, потом, за столом, радоваться да болтать будем, – сказала бабка Фекла. – Федя, баню топить пора.
Назаров поставил на лавку сидор, позаботился о винтовке и вышел с хозяином во двор.
* * *
Никита Палыч и его супруга долго вздыхали: в доме шаром покати, на стол нечего поставить. Однако поискали в своей кладовой, прошлись по соседям и, сами себе удивляясь, приготовили-таки пиршество. Хозяйка успела курочку зажарить, леща запечь. Посередине стола дымился чугунок с картошкой, а вокруг стояли тарелки с салом, огурцами, квашеной капустой, солеными рыжиками да мочеными яблоками. От Христова Воскресения остались окорок, два кулича и десятка полтора крашеных яиц. Между тарелками возвышалась четверть самогона – за последние три года этот продукт завелся в каждой избе.
Правда, едоков было не так и много. Всего лишь Никита Палыч с Феклой Ивановной, еще один назаровский приятель Степан, воевавший в годы оны в Маньчжурии и оставивший там свою ногу, напросившийся Тимоха Баранов, Лариса, притулившаяся в уголке на скамейке с книжечкой на коленях. И, конечно, дорогой гость, Федор Назаров.
– Что, Федя, – спрашивал уже слегка захмелевший Степан, – давно так не сидел?
– Давно, – ответил Назаров.
– Царское угощение по нынешним временам, – сказал Никита Палыч.
– Федя, – сказал Степан, – по правде скажи, с царем тебе выпивать не доводилось? А то кто с фронта ни придет – тот царя видел, тот с царем ручкался, тому царица в вагоне-лазарете портянки меняла. Последний годик, правда, разговоры поутихли. Микола-царь теперь не в чести.
– С царем не угощался. А с великим князем Николаем Николаевичем – приходилось, – ответил Назаров.
– Это как же? – послышались изумленные голоса.
– В Галиции, когда Львов брали.
– И чем же угощал царев брат? – спросила старуха.
– Шкалик водки с крендельком.
– Ну, брюхо – злодей, старого добра не помнит, – заметил Степан. – Наградили-то чем?
Назаров засучил рукав и снял часы. При виде этого прибора мужики удивились еще больше, чем узнав, что его хозяин выпивал с великим князем.
– Как же такую вещицу смастерили? А если в баню в них зашел? А их тоже заводить надо? – наперебой затараторили сотрапезники.
– Федь, а кукушка в них есть? – подумав пару минут, выдал Тимоха.
– Кукушки нет, – ответил Назаров и подал часы Степану. Тот взял их, бережно поднес к глазам, будто на ладони у него стояла полная до краев рюмка, и прочел вслух выгравированное на донышке: «Федору Назарову за особую храбрость».
– Как же ты, Федя, отличился? – спросил Никита Палыч.
– Да было дело…
Так и осталось непонятно, то ли он хотел рассказать о том, за что его наградили, то ли намеревался просто махнуть рукой, потому как в разговор вмешался Тимоха. Будучи все еще пораженным невиданными часами, он полагал, что у Назарова припасено немало иных диковин. Поэтому он под шумок взял назаровский мешок, поставил на колени и лишь тогда спросил хозяина:
– Федь, можно взглянуть, каких ты еще забав принес?
Степан незаметно, но ощутимо толкнул его локтем в бок: пей, да знай меру! Однако Назаров кивнул – смотри. Тимоха торопливо развязал мешок, будто Федор мог передумать.
– Всем взглянуть охота, – сказал Никита Палыч и очистил треть стола. Степан вырвал мешок у Тимохи и вывалил его содержимое на стол. Грязная одежда и котелок, еще хранивший следы походной стряпни, уже были изъяты Феклой Ивановной для стирки и мойки, поэтому мужицким глазам предстали лишь диковинки.
– Это, братцы, все мои военные дорожки. В солдатскую котомку много не положишь – оставил лишь то, что бросить нельзя.
– Какая коробочка маленькая. Иголки хранить? – удивилась Фекла Ивановна, вертя в руках непонятный предмет.
– Это портсигар, – сказала Лариса и снова уткнула глаза в книжечку, лежавшую на коленях.
– У немца трофеем взял? – спросил Степан. Вместо ответа Назаров перевернул портсигар и показал надпись на крышке.
«Федору Назарову, исторгшему меня из вражеских оков. Не забуду никогда», – прочел Степан.
– От полковника Невельского. Мы с ним из германского плена бежали в пятнадцатом.
Гости наперебой требовали, чтобы Назаров рассказал про побег. Однако их всех заглушил Тимоха. Он открыл перочинный нож с пятью лезвиями и уже успел порезаться о три из них.
– Федька, это что, чем дохтора в лазаретах режут?
– Капитана Терентьева подарок. Была история на румынском фронте. Так случилось, что целым эскадроном выезжали за тридцать верст, а к своим только вдвоем вернулись.
– Так ты же в пехоте служил? – удивился Степан.
– Я и тогда был в пехоте. А вот пришлось верхом прокатиться. На чем я только за три года не накатался! И в седле трястись приходилось, и на автомобиле ездил, и на велосипеде, и на самокате – велосипеде с мотором, и на катере. На черте разве не ездил. Хотя… тут тоже повспоминать надо.
– Вот этот ножик мне больше по вкусу, – сказал Никита Палыч, вертя в руках восточный кинжал.
– С Кавказского фронта. Компас тоже оттуда.
– Федя, – сказал Степан, – ты будь поосторожней. Спросят, откуда часики да портсигары, ты отвечай: у офицера отнял. Ныне награды от благородных не в чести.
– А это что за особые сокровища? – Тимоха потряс два полотняных мешочка, в которых что-то побрякивало.
– Вот в этом – моя начинка. Когда доктор вынул пулю в первый раз, то сказал: храни, счастье принесет. Я и храню, пополняя запас своего будущего счастья.
– А во втором чего?
– Георгии мои.
– А чего не на груди?
– Не всем они сейчас в России по нраву, – сказал Назаров, разливая по новой. – Пару раз даже выходили неприятности. Увидит какой-нибудь болван кресты на груди и кричит: «Не стыдно тебе в царских побрякушках щеголять!» А то не просто кричит – с кулаками лезет. Поэтому я и поснимал, чтобы людям зря морды не бить.
– Совсем непорядок, – покачал головой Никита Палыч.
– Мы люди по-мужицки темные, – сказал Степан. – Мы солдатских наград не стыдимся. Выпьем-ка за георгиевского кавалера Федора Назарова…
* * *
А в пяти верстах от села Зимино тоже шла гулянка, но была она злой и невеселой. Возле старой хибары, когда-то сколоченной лесорубами, горел костер, а вокруг сидели десятка полтора парней и пять мужиков постарше. Они пили самогон из одной большой кружки, отрывали куски пережаренной на костре баранины, с тоской глядели на раскинувшийся вокруг темный бор и недобрыми словами поминали тех, кто выгнал их из родного села на край болота. Особо был зол Василий Козин, ибо обидели его поболее других: лишился он земли, скотины и немудреного сельского почета, когда перед ним все ломали шапку. После пятого стакана злобушка совсем переполнила его. Ее надо было на ком-нибудь сорвать. Поэтому Козин, в очередной раз глотнув самогона и вытерев пальцы о рукав расстеленного на земле тулупа, крикнул во всю глотку:
– Гришка, подь сюды!
Немного погодя Гришка отважился подойти к костру. Вид он имел виноватый и всеми силами старался показать, что достоин командирского гнева.
– Явился, Василий Яковлевич.
– Явился. А где винтовка?
Гришка впал в задумчивость. Он переводил взгляд с костра на небесные звездочки, с небесных звездочек на темные верхушки елей и с них – снова на костер. Только на Козина он взглянуть не решался.
– Язык за зубами застрял? Где винтовка? – повторил Козин.
– Прохожий отобрал, – наконец выдавил Гришка. – Еще сказал, его Назаров зовут.
– А ты ему так и отдал?
Гришка снова начал усиленно озирать ночной пейзаж, но занимался этим недолго, так как Козин встал, размахнулся, и показалось Гришке, что звездочки с неба посыпались ему в глаза.
– Дядя Вася, – пролепетал парнишка, вылезая из кустарника, куда отбросил его мощный козинский удар.
– Дядя Вася тебя уму учит, – сказал Козин, замахиваясь опять. – Отберет у тебя в следующий раз какой голопуз винтовку, и не по роже ты получишь, а без башки останешься. А ну, не вертись!
Новая плюха, и опять трещат кусты под Гришкиной спиной.
– Василий Якич, может, хватит с него? – раздался голос от костра.
– Бог троицу любит, – ответил главный козинский помощник – Афоня-Мельник. – У нас винтовок мало, все запомнить урок должны.
В третий раз Гришке удалось немного увернуться – удар пришелся по лбу. Но все равно парень на ногах не устоял и больно накололся задом о сухие сучья. Вставать он не торопился и тихо завыл-захныкал о своей судьбе, которая забросила его из родной деревенской избы в сырую лесную чащу, где дурную водку приходится пить как чай, а от сырого жаркого то и дело проносит. Тут еще и командир со своим пудовым кулаком. Домой, что ли, податься? А там – свяжут ручки, на подводу, и в окаянную Красную армию, будь она неладна. Только что и выть.
– Не вой, – сказал Козин. – Умному мука – вперед наука. До свадьбы заживет. Это только пуля в башке никогда не заживает.
– Дядя Вася, – продолжал ныть Гришка, – когда мы домой вернемся?
– Когда краснопузых в селе не будет. Ты, Гришка, подумай, они, как пташки по осени, улетят? Или нам о них позаботиться надо?
– Надо позаботиться, – уже почти не плача, ответил Гришка.
Между тем к Козину подошел Афоня-Мельник, невысокий мужичонка с длинной, но тощей татарской бородкой.
– Вася, окончил учебу?
– На сегодня руку утомил.
– Пойдем покурим, а заодно и пост проверим.
Однако до часового – парнишки с берданкой, стоявшего в секрете шагов за двести от привала, приятели не дошли, а присели на недавно упавшую сухую березу.
– Гришка – дурак, – сказал Афоня, раскуривая самокрутку. – Но от его вопроса нам не отвертеться. Мы уже месяц то мотаемся с хутора на хутор, а то и в лесу ночуем. Не всем такая жизнь по душе. Кто-то уже шепчется: хоть в Красную армию, хоть в черную, лишь бы под нормальной крышей спать.
– Нам с тобой, Афоня, с армией все просто. Там над нами червь командир, а крыша в казарме – руку не поднять.
– Я это понимаю. Потому всегда и говорил – в село возвращаться надо. Комбед перерезать, а то и запалить, когда они самогоном перепьются – все едино. Мне плевать, кто там в Питере или Москве: царь, Советы, Учредилка. Все равно до нас не скоро доберутся. А над голопузыми душу отведем. Чтобы знали, как по нашим закромам шариться и над бабами изгаляться.
– На Зимино пойти можно хоть завтра. Сведения из села верные – Слепак и Комар со своей шайкой уже за полночь пьяны в стельку. Одно меня смутило. Гришка ведь не спьяну винтарь отдал. Он на Назарова напоролся. Ты же слыхал, небось, Афоня, что это за мужик.
– Знаю, – зло усмехнулся мельник.
– Назаров все дело меняет. Если он здесь подзадержится да с голопузыми споется, их после этого ночью, как курей, не возьмешь. Я о его подвигах на Германской слыхал. Считай, у комбеда свой полковник будет.
– Вряд ли. Он сегодня у дяди водки выпьет и дальше к своей бабе пойдет.
– Я тоже на это надеюсь. Так что до завтра дергаться не будем.
Приятели докурили и вернулись к костру, где усталые и подвыпившие мужики уже затянули тоскливую бурлацкую песню.
* * *
– А когда из госпиталя вышел, сразу же приказали явиться в штаб. Там я третьего Георгия из собственных рук командующего Юго-Западным фронтом Брусилова Алексея Алексеевича и получил, – закончил рассказ Назаров.
– Расскажи, как ты из плена сбежал, – попросил Никита Палыч.
Назаров повременил с рассказом. Он взял свой стакан, долил почти до краев и оглядел гостей, задержав свой взгляд на барышне Ларисе.
– У всех ли полно? Тогда вот что я вам скажу… Стаканчики пока поставьте, говорить буду долго, много важных слов надо сказать. Как выражаются большевики – программных слов. А за мудреные слова, коль выскочат, звиняйте, земляки. Нахватался их не по своей воле бывший крестьянин, ныне солдат Федор Назаров. Еще и всяких знаний, новых и чудных, нахватался. Иным словом, совсем не тот Назаров уже пришел, что уходил.
Федор и сам опустил свой стакан на скатерть, осознав, что тост выйдет даже длиннее, чем представлялось.
– Про синематограф слыхали? Степан даже бывал? Очень хорошо. Так вот, глядел я как-то в стране далекой буржуйскую фильму под названием «Терминатор»…
– Чего? – вырвалось у Тимохи.
– Неважно, – махнул рукой простой мужик Назаров Федор. – Короче говоря, чужим, нерусским словом звалась та фильма. А показывали в ней ро… э-э, чудовище рукотворное, созданное колдунами. И хотело то чудовище изменить ход истории, хотело, чтоб не свершилось предначертанное. Ну вот, допустим, мы бы заранее узнали, что такого-то числа убьют эрцгерцога Фердинанда и оттого начнется война. И если б удалось спасти герцога, предотвратило б это войну? Как полагаешь, Тимоха?
– Так это… Не знаю.
– И я не знаю. А хотел бы знать. Ну, да и бог с ним! Жить надо так, будто живешь впервые и навсегда – вот что я понял за годы скитаний. Впервые и навсегда. За это и предлагаю выпить.
Назаров поставил на стол пустую посудину, захрумкал выпитое моченым яблочком. В горнице повисло потрясенное молчание.
«Вот сидят вокруг меня люди, которые на самом деле мне чужие, но я не ощущаю их как чужих. Я отношусь к ним именно как к близким и родным, – вот какие думы посетили Федора-Алексея. – Как когда-то я сразу и безоговорочно признал однополчан Федора за своих, а они, в свою очередь, также ни разу не усомнились, что я – самый что ни на есть Назаров, а не кто-то совсем другой. Может быть, пребывание в предыдущем мире было лишь ошибкой природы, которую природа решила исправить. И эта жизнь, несовершенная, грозная, страшная, кажется мне отчего-то более моей, чем та, предыдущая. Мало что осталось во мне от прежнего Алексея по прозвищу Леший, „черного археолога“, которому больше нравилось возиться с оружием отшумевших эпох, чем с предметами эпохи атома и сотовых телефонов. Видимо, не случайно нравилось. Ну, значит, пора бы и забыть ту странную эпоху. Быть может, и не будет ее никогда, а все еще пойдет по другому пути».
Молчание затягивалось, и Федор понял, что надо срочно переходить на привычные обитателям Зимино вещи.
– Видите, в углу винтовка? – спросил он.
– Видим, – сказал Степан. – С фронта, что ли?
– У Гришки вашего винтарь отнял. Ну, который за околицей. Он говорит – какой-то ком бед завелся в Усадьбе. Что это у вас, вместо барина, что ль?
– Большое озорство с нашим барином, Владимиром Ивановичем, приключилось. Усадьбу-то пограбили прошлым декабрем, – ответил старик.
– Революция, что ли, до вас докатилась?
– Какая революция? Озорство сплошное. В округе много дезертиров развелось, что с лета привыкли от погрома к погрому бегать. Вот они-то нас до большого греха и довели (Никита Палыч перекрестился). Мы-то от барина ничего дурного не видели. Ну вот, к примеру, случалось, ребятишки в сад залезут, вишен нарвать. Помнишь, Тимоха?
– Помню, – ответил Баранов. – Я и сам клубнику рвал.
– Ну вот, сторож поймает тебя и к барину: «Хворостиной прикажете как следует?» А Владимир Иванович руками замашет: «Что ты, мой дед людей без вины сек, я себя перед ними виноватым чувствую». Недаром в деревне так нашего барина и звал – Виноватый.