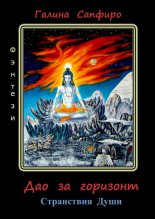Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках Стефанович Петр

Предисловие
В этой книге представлены результаты исследований, которые автор ведёт с 2005 г. Некоторые из этих исследований публиковались в виде статей. Частично статьи были включены в книгу без изменений, но большей частью переработаны, местами весьма существенно и в деталях, и в общих оценках. Разумеется, окончательной авторской точкой зрения следует считать суждения, высказанные в книге.
Переработка во многом является следствием критики и замечаний, которые высказывали коллеги, ознакомившись с моими исследованиями. Я глубоко признателен и этим коллегам, и вообще всем тем, кто помогал мне в работе, – кто больше, кто меньше, кто в публичном обсуждении, кто в частной беседе, кто советом, кто делом. Особенно полезны были замечания В. А. Кучкина, который прочитал рукопись книги с исключительными внимательностью и взыскательностью.
Значительная часть работы была проведена благодаря поддержке немецкого Фонда имени Александра фон Гумбольдта. Грант Фонда не только обеспечил финансовую поддержку, но и дал возможность ознакомиться с западной литературой, в основном, труднодоступной или вообще недоступной в России, и обсудить предварительные итоги исследований с коллегами за рубежом.
Введение
Кто отвечает за решения, определяющие судьбы многих людей? На этот вопрос есть три основных ответа. Для многих, особенно неискушённых любителей истории, в центре исторических событий и процессов находятся фигуры правителей и героев. Их блеск затмевает серую массу населения, им подчинённого и ими ведомого, им приписываются все государственные деяния. «Жизнь замечательных людей» – это жизнь всего общества. В сущности, такое восприятие истории идёт из глубокой древности. В древнерусских летописях, например, князья— и даже, точнее, князья одной династии Рюриковичей— персонифицируют власть и несут ответственность за подданных перед высшим Судом, и на них замыкаются так или иначе все общественные явления и движения.
Другой ответ наиболее последовательно развила учёная мысль XIX в. Фигуры одиноких гениев, героев или помазанников божьих отошли на задний план, а вперёд выдвинулись структуры, массы, институты и объективные условия в историческом процессе. Решения лидеров и правителей, какими бы самостоятельными и оригинальными они ни выглядели, на самом деле, как утверждала наука, выражают интересы и волю более или менее широких кругов лиц – от класса до нации.
Сегодня большинство учёных, представляющих общественные науки, скажут уже иначе, дистанцировавшись от этого взгляда или, во всяком случае, существенно уточнив его. Далеко не всё население и даже не большинство того или иного государственного или общественного образования имеет возможность (и желает) влиять на политический процесс. Реальная власть принадлежит сравнительно узкой и немногочисленной верхушке общества. В разных исторических условиях эта верхушка может по-разному выглядеть, но присутствует она практически во всех обществах, известных науке[1].
В этой книге представлено историческое исследование, которое отталкивается скорее от третьего подхода. Задача исследования сводится к следующему: понять, кто именно, какие люди составляли в древнейший период истории Руси слой, который выделялся среди прочих и нёс прежде всех прочих ответственность за политические решения. Разумеется, в древних обществах обладание властью и ресурсами происходило, в конечном счёте, из военного превосходства – господствовал тот, кто был сильнее. Военные и политические характеристики и функции находились в неразрывной связи.
Объект исследования— не столько военные, политические и административные институты и процессы, сколько группы, так или иначе задействованные в этих институтах и процессах, и целью является внешнее «структурное» описание этих групп с учётом динамики в их положении и, отчасти, взаимодействия их друг с другом на протяжении сравнительно длительного времени (около двух столетий). Такой «социологический» подход наталкивается на ряд трудностей (даже если оставить в стороне проблемы источниковедческого свойства – о них см. ниже), которые в научной литературе решаются очень по-разному с помощью самых разных интерпретаций и концепций.
Главная трудность связана с размытостью и аморфностью социальной структуры раннесредневековых обществ Европы. Правовые и институциональные градации носили более или менее случайный и каждый раз особенный характер, были неустойчивы и непоследовательны. Историки всегда испытывают трудности в применении к этим обществам определения, принятые для более позднего времени (сословные или классовые). До сложения сословного строя в позднее Средневековье общественная иерархия строилась и определялась под воздействием не столько письменно зафиксированных юридических норм, сколько общепринятых («обычноправовых») представлений и практик и фактического соотношения сил.
Вместе с тем, в современной медиевистике никто не сомневается в самом наличии стратификации в обществе раннего Средневековья и, в частности, в существовании некоей социальной верхушки или правящего слоя, для которого в разных историографических традициях применяются разные, но схожие названия (англ. upper class, ruling group, франц. classe dirigeant, class dominante, нем. Oberschicht, politische Elite и т. д.)[2]. Проблема состоит в том, как определить признаки этого слоя и связать его с сословием знати (рыцарским сословием), оформившимся в позднее Средневековье. Многие учёные, особенно в XIX— первой половине XX в., вообще отрицали наличие здесь какой-либо связи.
Второй том классического труда Марка Блока «Феодальное общество» начинается с утверждения, что относительно строгое упорядочивание общественных классов заметно только со «второго феодального периода», то есть приблизительно с начала XII в. С этого времени, по мнению Блока, можно говорить о знати как особом социальном слое, привилегии которого определены юридически и передаются по наследству. В раннее Средневековье стержень социальной иерархии составляли отношения личной зависимости, и господствующий класс (classe dominante) постоянно обновлялся лицами, продвигавшимися по социальной лестнице в силу личной предприимчивости, обогащения и т. д.[3] Такое понимание общества иногда называют меритократией – «властью достойных» (от латинского mereo «заслуживать, зарабатывать, быть достойным»).
Однако уже тогда, когда писал Блок, был сформулирован совсем другой подход, признававший за знатью не только ведущую общественную роль, но и преемственность на протяжении всего Средневековья. В середине XX в. в немецкой медиевистике произошло явное и решительное смещение акцента на знать/аристократию как системообразующий элемент средневекового общества. Эта подвижка была следствием пересмотра взгляда, принятого в XIX в., на древнее «племенное» общество германцев как «демократию». Вместо «германской свободы» была выдвинута идея «господства знати» – Adelsherrschaft. «Средневековый мир был аристократический мир. В государстве, церкви и обществе господствовала знать», – таким программным заявлением начиналась работа Генриха Данненбауэра, одного из вдохновителей этой идеи[4].
Теория «господства знати» была поддержана в последующей историографии далеко не во всех пунктах и аспектах, но она, несомненно, дала мощный импульс изучению средневековой знати[5]. Общий тренд европейской медиевистики второй половины XX в. состоял в демонстрации наличия и особой роли знати в раннее Средневековье, то есть и до сложения сословного строя (несмотря на естественные расхождения в таких вопросах, как состав и преемственность этого слоя, суть, происхождение и формы его доминирования и т. д.). Сегодня едва ли кто-нибудь станет говорить о раннесредневековом обществе как о меритократии или тем более демократии.
Однако, различие между знатью раннего Средневековья и рыцарским сословием XII–XV вв. очевидно, и остаются трудности в определении признаков этой знати, которая не обладала наследственностью и правовым статусом. По этой причине в англо- и франкоязычной медиевистике, например, разделяют два понятия – знать и аристократия. Первое относится к слою с юридически закреплёнными привилегиями, второе, подразумевая значительный уровень социальной мобильности, указывает на тех лиц, которые выдаются в социальном отношении и обладают властью de facto[6].
К раннесредневековой знати применяют также понятие элита, следуя определениям в духе Макса Вебера и выделяя такие признаки, как 1) престиж (социальный статус), 2) капитал (богатство, имущество) и 3) власть (господство) над людьми[7]. Совокупность всех вместе этих признаков, особенно если идёт речь об обладании не просто властью, но властью политической (публичной), указывает именно на знать. Впрочем, понятие элиты довольно широкое и гибкое. К нему прибегают даже и тогда, когда обнаруживают у разных групп и слоев даже не все три указанных признака вместе, а только два или один, возможно в сочетании с какими-то другими признаками, и тогда говорят о разных элитах— городской и деревенской, интеллектуальной и церковной, экономической и политической и т. д.
В исследованиях по истории средневековой Руси применяются понятия господствующий класс, знать, правящий слой и элита. Первое из этих понятий широко употреблялось в советской историографии[8]. В работах западноевропейских и американских учёных нескольких последних десятилетий установился определённый консенсус относительно того, что к средневековой Руси и России раннего Нового времени (XVI–XVII вв.) применимо, хотя и с некоторыми оговорками, то же понятие знать, какое употребляется применительно к другим обществам Европы[9]. И это понятие, и два других в приведённом ряду употребляются в современной русскоязычной историографии[10].
Однако, часто прибегают и к аутентичным терминам источников. Один из таких терминов довольно точно соответствует понятию знать – бояре. Но об этом соответствии можно говорить лишь для времени до XV в., когда слово стало приобретать вторичные смыслы в новых социально-политических условиях— как придворный чин-звание при дворе московских великих князей и как слой мелких землевладельцев в Великом княжестве Литовском. Спорным остаётся в литературе, обозначало ли слово бо(л)ярин представителя знати до XII в.
Ещё два выражения, восходящие к аутентичной терминологии, используются нередко в литературе применительно к истории допетровской Руси-России в качестве научно-абстрагирующих понятий – дружина и служилые люди. Эти выражения оказываются удобными, когда историки хотят указать вместе и на знать (бояр), и на группы, которые были связаны с князьями и боярами службой, преимущественно военной, и, как правило, занимали в каких-то отношениях более выдающееся и/или привилегированное положение по сравнению с горожанами и сельским населением. В Западной Европе в раннее Средневековье этим группам отчасти соответствуют люди, которых называют «подвассалами». В позднее Средневековье «подвассалы» вместе с министериалами (несвободными слугами) составили слой «низшей знати»[11].
Однако, применение обоих выражений к домонгольскому времени вызывает сомнения. Понятие служилые люди восходит к эпохе Московского государства конца XV–XVII вв. и подразумевает строй военно-служебных и земельных отношений, который в домонгольский период даже ещё не начал складываться.
Сложнее со словом дружина. Оно известно древнейшим старославянским и древнерусским памятникам, но, с другой стороны, как уже не раз отмечалось в историографии, в этих памятниках оно выступает в разных и довольно расплывчатых и неопределённых значениях.
Именно анализ тех смыслов и представлений, которые стоят за древним словом дружина и за соответствующим современным понятием, является исходной точкой всего исследования в данной работе. Что надо понимать в научном смысле под дружиной как явлением, свойственным разным народам в разные исторические моменты? Какие именно люди на Руси в древнейший период обозначались этим словом? В какой мере это понятие, широко используемое в русскоязычной историографии, может соответствовать таким общепринятым в медиевистике терминам, как, например, знать, (господствующий) класс или элита! С этих вопросов начинается исследование в главах I и II, а в главах III и IV оно приводит к подробному анализу двух частей светской элиты древнерусского государства, важнейших в военном и политическом отношениях, – воинов, состоявших непосредственно на княжеской службе, и боярства, связанного с князем (правителем), но и сохранявшего некоторую независимость от него.
Понятию дружина посвящен подробный историографический обзор (глава I). Но каким бы важным оно ни было, им, конечно, далеко не исчерпываются все вопросы и проблемы, затронутые в историографии в связи с обсуждением роли знати/элиты в древнем государстве руси. Надо обозначить, хотя бы в общих чертах, развитие научных взглядов и представлений по этому вопросу.
Историки XVIII в. мало интересовались тем, что теперь мы называем социальной историей. На общество древности они смотрели как некую более простую и элементарную модель того общества, в котором жили сами. Любопытство историков, занимавшихся древнерусской историей, возбуждал вопрос о происхождении известных им придворных чинов и званий, но изыскания в этой области не уходили глубже начала – середины XVI в. Само же наличие «аристократии» уже в древнейшее время подразумевалось как вполне естественное и не требующее особых пояснений. В Древней Руси эту аристократию видели в боярах (называя их также «знатными», «вельможами») и службу князьям считали само собой разумеющимся и естественным их занятием[12].
Г. Ф. Миллер определял древних бояр так: «первенствующие великих князей Российских служители». «Управляли они не токмо гражданскими делами, но и в войне служили главными полководцами. До Петра Великаго имя боярина заключало в себе все качества совершеннаго для пользы общества человека, в одной голове соединенные»[13]. Примерно так же о боярах писал И. Н. Болтин: «первоначальное наше Дворянство, разумея слово сие в том смысле, в каком оно ныне приемлется, были бояре: они-то были у нас, что в Риме Патриции, во всём пространстве их могущества и знаменитости». Кроме них, Болтин замечал в источниках упоминания гридей и считал их низшей знатью на службе князей[14].
Н. М. Карамзин тоже смотрел на социальную иерархию с точки зрения «чиноначалия» и признавал высшую её степень в боярах, а более низкие – в отроках и гридях. Он объединял эти категории одним понятием дружина, которое заимствовал из древнерусских источников и которым его предшественники практически не пользовались. Противопоставляя «княжескую дружину» остальному населению, Карамзин считал возможным сопоставить её с древней германской дружиной и ссылался на знаменитое описание этой последней в труде римского историка I в. Публия Корнелия Тацита «Germania» (главы 13 и 14 – см. ниже в главе I, с. 50–51)[15].
В трудах историков XIX в. обозначение людей на службе князьям дружиной становится общепринятым, и сохраняется идея о государственно-служилом характере боярства. Были замечены упоминания в летописи «старшей» и «младшей» дружины, и бояр стали приравнивать к первой, а остальные «чины» и «звания» относить ко второй. Впервые таким образом градации людей на службе князьям последовательно представил М. П. Погодин. При этом он подчёркивал экономическую и политическую несамостоятельность боярства в домонгольской Руси и их подчинённо-служебное положение по отношению к князьям. Этот тезис играл важную роль в его противопоставлении сильного монархического начала в Древней Руси европейскому «феодализму». Вполне в духе теории «официальной народности» Погодин указывал на всевластие знати и политическую анархию в Европе, превознося зато всенародное единство на Руси под дланью князей и царей. На Руси «не могло образоваться никакой значительной аристократии, и продолжалась только служебная, малочисленная, наборная, подчинённая князьям, не имевшая мысли состязаться с ними и выступать из своих пределов повиновения, службы и жалованья»[16]. Погодин развил компаративные сопоставления Карамзина. В устройстве «княжеской дружины» в X— первой половине XI в. на Руси он усматривал полную аналогию скандинавским дружинам, какими их представляла наука того времени по исландским сагам[17].
Взгляд на древнерусское боярство и другие слои, причастные государственному управлению, как на некий придаток государственной власти, которую олицетворяли князья, был свойственен «государственной школе». К. Д. Кавелин, исходя из тезиса, что «вся русская история, древняя, а также новая, является прежде всего историей государства», считал отсутствие «аристократии» характерной особенностью Древней Руси в сравнении с Западной Европой[18]. С. М. Соловьёв писал о боярах, что они всегда в источниках выступают «только с характером правительственным», а не «владельческим»[19].
В общем, этот взгляд соответствовал основной тенденции развития общественной мысли в то время – с одной стороны, осознанию «особого пути» России, а с другой – признанию власти и народа как двух ведущих сил её исторического развития. Для своего времени такое понимание исторического процесса было вполне объяснимым и закономерным. В XVIII в. внимание было сосредоточено на деяниях правителей и правящих династий, а в XIX в. в сферу внимания попал «народ». За этим поворотом интереса стояли и влияние романтических идей («поиск корней», идеализация «простодушного селянина» и т. п.), и «славянофильские» искания, и «открытие» русской общины в середине XIX в., и воздействие Великих Реформ, и другие факторы. Русская наука при этом держалась в русле общеевропейских тенденций, и прежде всего сказывалось влияние передовой тогда немецкой медиевистики, для которой в первой половине XIX в. центральными стали понятия Volk (народ) и Gemeinschaft (общность, община). Все эти факторы придали парадигме «власть (государство) и народ» большую устойчивость, и в тех или иных формах она живёт и в современных научных и околонаучных идеях, концепциях и интерпретациях.
«Государственная школа» в рамках этой парадигмы делала акцент на «власти», историки, настроенные в славянофильско-народническом духе, – на «народе», но тезис, что знать в Древней Руси не составляла привилегированный наследственный слой и не играла самостоятельную роль в социально-политической жизни, был общим для обоих течений мысли. Просто историки второго направления (например, К. С. Аксаков, И. Д. Беляев, Н. И. Костомаров) относили знать не к «государству», а к «земству». Некоторые из них соглашались, что могли быть какие-то «дружинные» бояре, другие таких и вовсе в источниках не замечали, но в любом случае главную роль все они отводили неким «земским» или «городовым» боярам – то есть «местной» знати вне княжеских дворов, сила которой была в её связи с городской экономикой и вечевой общиной и в давнем землевладении[20].
С середины XIX в. идея о существовании «земских» бояр в Древней Руси завоёвывает всё большую популярность и становится едва ли не такой же общепринятой, как идея о «княжеской дружине» как объединении разных категорий «служилых» людей. Большинство историков второй половины XIX в. совмещали эти две идеи, только по-разному расставляя акценты— кто-то считал важнее «земскую аристократию»[21], кто-то – «дружинную»[22]. Некоторые пытались соблюсти баланс, не отдавая какой-то из этих «аристократий» предпочтения[23]. Большинство склонялось также к признанию, что ещё в домонгольский период, примерно в XII в., «земские» и «дружинные» бояре «сливаются» в один класс боярства, наследственный, но не замкнутый, который «обладал обширным влиянием на княжеское управление и местное общество и в основе своего богатства имел землевладение»[24].
Мысль об образовании ещё в домонгольское время некоего «влиятельного боярского класса» уже обозначила отход от парадигмы «народ и власть», и она отражала, конечно, накопление знаний о древнерусском обществе. Стало ясно, что и государство – это понятие условное, и народ – не нечто цельное, а целый ряд самых разных групп и слоев. Конкретно-исторические исследования выявили в древнем, кому-то казавшемся «примитивным», обществе значительную социальную и функциональную дифференциацию и, прежде всего, особую роль тех, кому принадлежали властные прерогативы, богатства (капитал) и земля.
Вместе с тем, процесс образования «боярского класса» на Руси в древнейшее время, то есть приблизительно до начала – середины XII в., оставался неясным. Стандартная модель, предполагавшая существование двух видов знати – «дружинных» и «земских» бояр, – не объясняла, как они взаимодействовали, какой вклад внесли в процессы развития государственных, социальных и экономических институтов, а также почему и как, собственно, они «слились» в один «класс». Наиболее серьёзные и вдумчивые историки конца XIX – начала XX в. пытались так или иначе выйти за рамки этой модели.
Так, В. О. Ключевский противопоставлял «дружине» («военной аристократии») не «земских» бояр, а «торговую аристократию», сосредоточенную в городах. Оба этих элемента вышли, по его схеме, из некоего «военно-промышленного класса», который стоял у истоков государства руси в IX–X вв. Однако, в XII в. историк видит уже один «класс бояр», который «был везде служилым по происхождению и значению, создан был княжескою властью и действовал как ея правительственное орудие»[25]. При каких обстоятельствах, по каким причинам и в силу каких факторов «древняя городская знать» переродилась в этот «класс», из схемы Ключевского не ясно. Следуя логике этой схемы, надо предполагать в XI в. какие-то особые действия княжеской власти, направленные на ограничения могущества «торговой аристократии» и «создание служилого класса», но историк не приводил данных из источников, свидетельствующих о такого рода действиях.
Заглавие известного труда В. И. Сергеевича, вышедшего в 1867 г., «Вече и князь» отсылало ещё к указанной выше парадигме «народ и власть». Однако в более поздних трудах историк отошёл от понимания народного самоуправления и монархической власти как главных или даже единственных движущих сил русской истории. Большое внимание в фундаментальном труде «Древности русского права» он уделил боярской думе, организации военной службы, землевладению и тому подобным вопросам. Не разделяя боярство на «дружинное» и «земское», Сергеевич считал, что сила этого «класса» выросла в древности из богатства, а значит, вне прямой зависимости от службы князю. «Звание боярина в древнейшее время является… не чином, раздаваемым князем, а наименованием целого класса людей, выдающегося среди других своим имущественным превосходством»[26]. Основная характеристика боярства в политическом плане – это вольная служба князю на определённых, хотя и неписанных, условиях. Другое дело – это «класс придворных слуг»: по происхождению личные слуги князя, часто несвободные (например, тиуны), они привлекаются к исполнению «публичных функций», то есть государственному управлению, и составляют двор князя. В позднейшее время, к XVI в., понятие двора расширяется и поглощает бояр[27]. Понятие дружины Сергеевич использует ограниченно— только в смысле войска, которое могло объединять разные категории людей на княжеской службе[28]. В целом, заключения Сергеевича сделаны на источниках XII–XV вв., а данные древнейшего времени он, если вообще и использует, то иллюстративно. А, например, утверждение, что боярами в древности назывались люди, выдающиеся своим «имущественным превосходством», вообще не обосновано конкретными свидетельствами.
Некоторое развитие от ранних трудов к поздним претерпели и взгляды Н. П. Павлова-Сильванского. Сначала он придерживался обычной в то время точки зрения о параллельном существовании служилого и земского боярства[29]. В позднейших трудах, посвященных доказательству феодального характера древнерусского общества, он древнейшими считал «дружинные отношения», которые только со временем, с ростом землевладения боярства, стали перерастать в вассальные (и тем самым боярство стало «местным» землевладельческим классом)[30]. В перемене его взглядов сказалось, очевидно, влияние трудов А. Е. Преснякова, который делал акцент на «дружинном» происхождении боярства и вообще всех социальных слоев и институтов, связанных с государственной (публичной) властью.
В центре концепции А. Е. Преснякова стояла идея «княжого права» – то есть комплекса норм, институтов и представлений, который постепенно охватывает и «осваивает» население, живущее древним «родовым» и «общинным» устройством. В этой концепции «гипотеза о земских боярах» обнаруживает «ненужность для объяснения каких-либо явлений исторической жизни»[31]. Зато особенную силу Пресняков придал понятию дружины, которая у него предстаёт главным элементом «княжого права». Из «дружины» вырастает боярство, которое лишь в XII в. получает некоторое самостоятельное, независимое от князя значение, смыкаясь с городской «стихией» и обзаводясь вотчинами.
Идеи Преснякова выросли из «государственной школы» русской историографии, но они и преодолевали ее. «Государственная школа» смотрела на знать как на элемент, подчинённый власти правителя, в той или иной связи с концепцией «закрепощения сословия». Пресняков отошёл от характеристики знати с точки зрения её обязанностей и «инструментально-вспомогательного» характера и в центр поставил идею «дружинного единства» князя и его людей. Оригинальная концепция Преснякова (который во многом ориентировался на идеи современной ему западной медиевистики) оказывает влияние на историков и сегодня, и на неё я буду ссылаться ниже ещё не раз.
В советское время первоначально сказывалось влияние блестящих «формул» В. О. Ключевского, и школа М. Н. Покровского развивала концепцию торгового капитализма на Руси (с важной ролью рабовладения и т. п.). Однако, в 1930-1940-е гг. эти идеи были оставлены, и разрабатываться стала марксистская теория «формаций», в которой древнерусское общество интерпретировалось как феодальное. В этой концепции, развитой главным образом трудами Б. Д. Грекова и С. В. Юшкова, знати было уделено место «господствующего класса», и в этом отношении ей придавалось большое значение.
В каком-то смысле выделение знати как «господствующего класса» в советской историографии соответствовало общеевропейской тенденции в медиевистике. Выше уже было отмечено, что как раз в середине XX в. в немецкой медиевистике была предложена концепция, по-новому объяснявшая происхождение социального неравенства и властных институтов – теория «господства знати» (Adelsherrschaft). Разумеется, соответствие теорий «русского феодализма» и Adelsherrschaft было весьма относительным – лишь постольку, поскольку шла речь вообще о господстве. Могущество знати и его сущность эти теории представляли совсем по-разному. Немецкие медиевисты середины XX в., работая ещё в рамках традиционной немецкой юридической школы (Verfassungsgeschichte), выводили господство знати из древних архаических корней, увязывая его с «прирождёнными» правами, харизмой и т. п.[32] Советские историки, встав на позиции «исторического материализма», основу могущества «господствующего класса» видели в землевладении. Зарождение боярского вотчинного (сеньориального) землевладения на Руси относилось к самым древним временам (VIII–X вв.), и с ним связывалось образование государства. Этих древних бояр-землевладельцев обозначали терминами, принятыми в историографии XIX – начала XX в., – «земские бояре» или «местная знать».
Другим важным тезисом концепции Грекова-Юшкова было признание «прогрессивной» роли за знатью лишь на начальном этапе становления государства, на Руси— до конца XI – середины XII в. В последующий период русской истории её роль оценивалась уже только в негативном ключе – как деструктивная, реакционная, эксплуататорская, антицентрализаторская и т. д. Такие оценки получили особенное развитие в работах Б. А. Рыбакова. По его мнению, в XI–XII вв. происходящее из племенной знати «местное боярство» «явственно становится заметной и самой крупной силой в стране», охваченной «феодальной стихией». Именно интересы боярства были главным фактором в установлении политической («феодальной») раздробленности на Руси в начале – середине XII в. До этого времени между князьями, олицетворявшими государственное начало, и боярством был «мир», а уже сыновья Юрия Долгорукого, Изяслава Мстиславича и Ярослава Осмомысла «бились не на живот, а на смерть с боярством своей земли», опираясь на «младшую дружину» (дворян) и на города[33].
Вместе с окостенением и идеологизацией концепции Грекова-Юшкова такого рода оценки стали преобладать, и изучение «класса феодалов» в советской историографии не поощрялось и ограничивалось источниковедческими проблемами. В то же время ещё в рамках этой историографии наметился отход от некоторых принципиальных положений теории «феодальной формации», и, в частности, большинство учёных фактически отказались от тезиса о раннем зарождении землевладения сеньориального типа на Руси[34].
В историографии последних десятилетий особняком стоит концепция «общинного» строя Древней Руси, которую развивают И. Я. Фроянов и его ученики и которая вообще не признаёт в домонгольской Руси знати как особого социального слоя[35]. В этой концепции легко различимы отголоски «общинно-вечевой» теории второй половины XIX в. Если не считать работ этого «направления», в остальных явно прослеживается возврат к идеям Преснякова и других представителей «государственной школы», которые не представляли себе элиты в Древней Руси вне «дружинно-служилой» организации.
А. А. Горский не признаёт никакой знати, кроме служилой; бояре для него – только верхушка «дружины» («старшая дружина»). С Пресняковым он сходится в том, что лишь в XII в. знать приобретает заметную политическую самостоятельность, но расходятся они в том, как понимать основы этой самостоятельности: Пресняков указывал на связь «влиятельного боярского класса» с «городской вечевой стихией», а Горский считает основой боярского могущества развитие вотчинного землевладения[36]. В последнем пункте с Горским солидарен М. Б. Свердлов, который тоже видит причину образования боярского «привилегированного сословия» в XII в. в развитии его землевладения, хотя в отличие от Горского он допускает существование в X–XI вв. некоей «местной знати», помимо «княжих мужей»[37]. П. П. Толочко рассматривает знать не столько как социальный слой, сколько как элемент государственного управления, выстроенного по вертикали во главе с князем[38].
Акцент, который Горский и Свердлов делают на землевладении знати как основе её самостоятельности, соединяет их с концепцией феодализма в трактовке Грекова и Юшкова, но решительно разрывает с концепцией «торговых городов» Ключевского, которую учитывал в своих построениях Пресняков. Между тем, хотя теория Ключевского о «торгово-промышленном» становлении древнерусского государства, конечно, в каких-то пунктах устарела, в своей сути она оказывается созвучна современным исследованиям, особенно археологическим, которые подчёркивают значение торговли как важнейшего фактора в становлении этого государства[39].
Концепция «княжого права» Преснякова— безусловно, яркая и интересная, но она принадлежит своему времени (подробнее об этом будет сказано в главе I). Подчёркивая роль дружины в древнейшее время на Руси, Пресняков отталкивался, в основном, от современных ему работ немецких и французских медиевистов (конца XIX – начала XX в.). Многие тезисы и выводы этих работ были позднее пересмотрены. В современной западноевропейской историографии дружина, если вообще и рассматривается как инструмент господства, то скорее не правителя, а вообще знатных людей (как элемент «господства знати»). Многие авторы вслед Карамзину и Преснякову сопоставляют классическое описание германской дружины у Тацита и сообщения древнерусских летописей о «дружинах» князей Руси XI–XII вв. Какое-то сходство, допустим, можно разглядеть, но всё-таки возникает большое сомнение, можно ли вести речь об одном институте. Обращение к английской, немецкой, скандинавской, польской и чешской историографиям убеждает, что сравнение скорее надо вести не с Тацитом, а с синхронными раннегосударственными образованиями Центральной и Северной Европы IX–XII вв. (на этом делается акцент в главе III данной книги).
В современных русскоязычных исследованиях, так или иначе затрагивающих положение и роль знати/элиты в раннем государстве Руси, вообще явно недостаточно учитывается европейская историография, в которой отразились и результаты конкретно-исторических исследований, и новые подходы. В интересной книге немецкого историка X. Рюсса[40] предпринята попытка применить некоторые новые взгляды к изучению древнерусской знати, но в работе делается акцент на более поздний период (XIV–XVI вв.) и она, к сожалению, мало известна русскоязычным авторам.
Настоящая работа нацелена как раз на то, чтобы вписать, хотя бы отчасти и в некоторых аспектах, русскоязычную историографию XVIII – начала XXI в., посвященную военно-политической элите Древней Руси, в контекст развития европейской медиевистики. Выполнение этой задачи тесно связано со стремлением, о котором говорилось выше, прояснить некоторые базовые понятия, употребляемые в этой историографии (прежде всего, понятие дружина). Кроме того, в работе, естественно, будут сформулированы ответы на обозначенные дискуссионные вопросы— кем, собственно, были бояре древнейшего времени, следует ли различать в их среде неких «служилых» и «земских», как они соотносились с другими общественными элементами, состоящими в элите или причастными к ней, прежде всего, теми, которые были тесно связаны с княжеской властью и имели выдающееся военное значение.
Несколько слов о методах исследования и об источниках, на которые оно опирается.
Работа построена на анализе текстов. Её общие историко-«социологические» задачи предполагают довольно широкий охват текстов разного происхождения, потому что при отсутствии документов, в которых более или менее систематически, а особенно с правовой точки зрения, отражена социальная иерархия, историк вынужден следовать просто за упоминаниями тех или иных социальных категорий во всех доступных источниках. В каждом случае требуется не только тщательная источниковедческая оценка того или иного упоминания, возникшего при определённых условиях и поставленного в определённый контекст внутри соответствующего памятника. Необходимо также отдавать себе отчёт, что действительность, отражённая в этих свидетельствах, происходящих из глубокой древности, была чужда той рационализации и систематичности (и в общем её осмыслении, и в терминологии), к какой мы привыкли или какую ожидаем в современном обществе. Невозможно представить себе эту действительность, если не учитывать не только сохранность и происхождение того или иного текста, но и его литературные особенности, взгляды и мировосприятие его автора и прочие многочисленные обстоятельства его создания и бытования в социально-культурной среде.
В некоторых терминологических работах, к сожалению, эти обстоятельства учитываются далеко не всегда, и подбор упоминаний тех или иных слов и терминов приобретает, так сказать, накопительно-механический характер, не сопровождаясь анализом текстов, из которых они происходят, и исторических условий, которые породили и тексты, и соответствующие слова. Этот недостаток терминологических работ часто связан с другим, который можно назвать «терминологическим фетишизмом», или, как выражается автор недавней рецензии на одну из таких работ, «абсолютизацией терминологического подхода»[41] – то есть когда некий социальный факт признаётся исторически реальным только в том случае, если в источниках фиксируется некоторое ожидаемое (принятое) обозначение для него. Такой подход ведёт часто к полной несуразице. Например, он диктовал бы, что на Руси отсутствовала традиция совета князя с высшей знатью вплоть до XV в., когда впервые в источниках появляются упоминания «боярской думы». Давно уже выяснено, что, хотя именно это выражение не фиксируется в более ранних памятниках, сама по себе практика такого рода совещаний сложилась в древнейшее время и она обозначалась либо просто словами дума и совет, либо даже другими словами и выражениями, в том числе и описательными глаголами типа речи, сдумати и т. п.[42]
Преодолеть эти недостатки, в общем, нетрудно – терминологический анализ просто должен быть не самоцелью, а только предварительной «вспомогательной» работой для исторического обобщения, которое исходит из того, что реальность всегда шире и многообразнее, чем случайные отражения её в случайно сохранившихся источниках. Именно поэтому в данной работе, например, специальный раздел (в главе IV) посвящен анализу данных «Русской Правды», хотя в этом памятнике почти не упоминаются ни дружина, ни бояре. Ведь ясно, что эти данные в любом случае имеют первостепенное значение для работы, направленной на изучение социальной стратификации, поскольку этот правовой кодекс даёт некий, более или менее последовательный (хотя, как будет подчёркнуто далее, односторонний) взгляд на общественную иерархию.
Такой же «вспомогательный» характер носят и другие аналитические методики, которые применяются в отдельных местах книги, – например, сравнение данных древнерусских источников со свидетельствами, происходящими из других стран и регионов. Сравнительно-историческая перспектива предполагается и общим подходом данной работы (прояснение базовых понятий, обращение к зарубежной историографии), но особенно уместен компаративный анализ в тех случаях, когда свидетельства древнерусские и иностранного происхождения дополняют друг друга, позволяя описать и осмыслить то или иное явление во всей его полноте.
Разумеется, этот анализ тоже имеет свои недостатки, на которые в литературе уже неоднократно обращалось внимание, – прежде всего, опасность реконструировать из данных, происходящих из разных стран и времён и возникших в конкретных, каждый раз особенных, условиях, некую модель, которая как будто всё объясняет, но которая на самом деле, как показывает дополнительная проверка, едва ли где-то в реальности существовала. Такого рода модели создавали, например, историки немецкой политико-юридической школы (Verfassungsgeschichte) XIX— первой половины XX в., пытаясь реконструировать некое древнее «германское» устройство, но ни одна из них не выдержала критику позднейшей историографии, которая иронически называла их «пангерманистскими» (ср. в главе I, например, о построениях Г. Бруннера).
На такую опасность указывали недавно критики интересной книги польского историка Кароля Модзелевского, в которой данные из славянских регионов X–XII вв. сравниваются со скандинавскими данными приблизительно того же времени, а также свидетельствами о раннесредневековых германских королевствах[43]. Не следует, однако, впадать в крайности, и надо защитить подход польского историка. Он обосновывает возможность сравнения в «антропологически схожей ситуации», то есть в том случае, когда в тех или иных обществах сопоставимы условия жизни и их восприятие в культуре. В таком случае сравнение приводит не к созданию абстрактных конструкций, а с помощью правильно подобранных аналогий и с учётом «категорий» архаического сознания помогает выявить некие сущностные, общие для разных народов и регионов принципы и механизмы адаптации человека к среде, перераспределения ресурсов и социально-политической организации. Такое сравнение не нивелирует уникальное, а наоборот, заставляет осмыслить его как в локальном, так и в общечеловеческом контексте[44].
Отдельно надо сказать о методике работы с летописями.
Одна из главных трудностей в исследовании начальной истории Руси состоит в том, что мы обречены смотреть на эту историю через призму раннего летописания и, прежде всего, «Повести временных лет» (ПВЛ[45]). ПВЛ— единственный источник сравнительно древнего происхождения, который даёт связное и довольно подробное изложение истории Руси с конца IX до начала XII вв. Именно на информации ПВЛ и других летописей построено большинство бытующих в историографии концепций древнерусской государственности. Однако, можно ли и, если можно, то в какой степени доверять этой информации?
Летописи донесли до нас тексты, которые претерпели редакторскую правку (иногда очень значительную) на разных этапах их бытования в древнерусской книжности вплоть до позднего средневековья. Так, ПВЛ была создана в начале XII в., но дошла до нас в разных видах в летописных списках, самый ранний из которых датируется 1377 г. (Лаврентьевская летопись— ЛаврЛ). С другой стороны, её создание отстоит от древнейших событий истории Руси конца IX–X в. на полтора-два столетия. Естественно, в описании этих событий в ПВЛ можно подозревать и легендарность, и всякого рода неточности.
Кроме того, летописцы, в том числе и автор или авторы ПВЛ, были людьми своего времени. В изложении событий прошлого они не только зависели от тех источников информации, которые были в их распоряжении, но и руководствовались политическими пристрастиями, идеологическими соображениями, личными интересами, наконец, просто «картиной мира», сложившейся в их головах. Имея в виду цели данного исследования, важно также отметить, что авторы, причастные к древнейшему летописанию, стояли на ярко выраженной княжеско-династической точке зрения. Цель их работы состояла в демонстрации избранности одной династии (Рюриковичей), которой предопределено свыше править «Русской землёй», и никакой альтернативы ни сути, ни форме такого политического порядка не мыслилось. В этой перспективе всем другим обстоятельствам и событиям, кроме истории династии, отношений между её представителями и правителями других государств и т. п., уделялось мало интереса и внимания, а с другой стороны, эти события и обстоятельства оценивались и выставлялись только в свете выгодном или, по крайней мере, нейтральном для этой династии. Взгляд этих древних авторов был безусловно «монархическим», а «демократическое» и «олигархическое» начала, которые в реальности, без сомнения, существовали, на страницах летописи отражались лишь обрывочно и искажённо.
Сложности в интерпретации данных начального летописания были уже, в основном, осознаны в историографии в конце XIX – начале XX в., особенно после того как фундаментальные труды А. А. Шахматова убедительно показали, с одной стороны, тенденциозность древнерусского летописания, а с другой – его весьма непростую историю. Можно даже сказать, что в каком-то смысле Шахматов скомпрометировал летописи как источник по истории Руси, особенно для древнейшего периода до начала-середины XI в. Не случайно, что уже непосредственный ученик Шахматова М. Д. Присёлков предпринял первую попытку опереться в изучении этой истории на источники, независимые от летописи и по времени создания более близкие к засвидетельствованным в них фактам. Он прямо писал, что ПВЛ и «предшествующие ей летописные своды» в повествовании до начала XI в. – «источник искусственный и малонадёжный», и ставил своей задачей «положить в основу изложения» источники «современные событиям», «проверяя факты и построение "Повести [временных лет]" их данными»[46].
В определённых случаях – прежде всего, тогда, когда не-летописные источники просто более надёжны и подробны по сравнению с летописью – подход Присёлкова оказывается вполне применим и оправдан[47]. В данной работе привлекаются помимо летописи разные источники X–XI вв., в том числе иностранного происхождения, но первое место в их ряду занимают древнейшие международные договоры Руси— заключённые с Византией в 911, 944 и 971 гг. (специальный раздел в главе IV). По данным, содержащимся в договорах, о тех людях, которые представляли русь в договорном процессе, мы можем составить представление о составе её правящей верхушки. Эти данные сопоставляются с известиями о руси в практически современных им трактатах Константина Багрянородного, и это сопоставление заставляет во многом по-новому смотреть на древнейшую историю Руси и с меньшим доверием воспринимать сведения начального летописания.
Привлекаются также древнерусские не-летописные тексты, которые восходят к XI в. Из этих памятников преобладают литературные произведения, в которых мало говорится о социальных отношениях и структурах. Но одно из них оказывается всё-таки весьма информативным в этом смысле – это Житие Феодосия, написанное знаменитым Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, скорее всего, в конце 1080-х гг. или, может быть, в самом начале XII в. Житие дошло до нас в довольно исправном списке середины XII – начала XIII в. (в составе знаменитого «Успенского сборника») и представляет уникальный источник по истории Руси в XI в. Большую ценность, как уже говорилось, имеют данные «Русской Правды». При использовании этих данных я исхожу из тех общепринятых классификации и датировки разных её видов и частей, за которыми стоит мощная исследовательская традиция XVIII – начала XXI в. и которые в суммированном виде представлены в известной работе М. Н. Тихомирова[48]. «Краткая Русская Правда» или «Краткая редакция Русской Правды» рассматривается как юридический свод, возникший в конце XI – начале XII в. (до создания «Устава Мономаха»), а «Пространная редакция» – как свод, восходящий ко второй половине XII – началу XIII в.[49]
Обращение к не-летописным источникам помогает преодолеть «летописецентричное» восприятие древнерусской истории, но всё-таки, на мой взгляд, нельзя отказываться совершенно от летописи как источника по истории Руси в X–XI вв. Важно только сознавать особенности этого источника и, прежде всего, иметь в виду сложную текстологию начального летописания. Однако в этом отношении в науке было сделано немало, и сегодня можно опереться на определённые положительные результаты, достигнутые многочисленными специальными исследованиями.
Главные достижения в изучении раннего летописания связаны с именем А. А. Шахматова. Важнейшая идея Шахматова состояла в том, что ПВЛ – это более поздний этап летописания по сравнению с летописным сводом, который был создан в 1090-е годы в Киеве и отразился в общих чертах в Новгородской 1-й летописи младшего извода (Н1Лм). Этот свод он условно назвал «Начальным» (НС). Другая принципиальная идея, продолжая первую, утверждала существование и других этапов летописания, предшествующих НС[50].
Несмотря на критику этих двух взаимосвязанных идей, раздающуюся и сегодня[51], они, как и в целом шахматовский подход к изучению древнерусского летописания[52], получили многостороннее развитие в работах исследователей, воспринявших подход А. А. Шахматова, – М. Д. Присёлкова, А. Н. Насонова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина, Д. С. Лихачёва, Я. С. Лурье, О. В. Творогова и др. По-новому аргументированы и подкреплены эти идеи были в недавних работах А. А. Гиппиуса с применением лингвистических методов[53].
Вместе с тем, далеко не все из тех или иных отдельных соображений или наблюдений Шахматова были позднее поддержаны, и в особенности это касается схемы древнейшего летописания, которую он предложил в знаменитой работе «Разыскания о древнейших русских летописных сводах»[54]. Начало летописания учёный относил ко времени единоличного киевского правления Ярослава Владимировича, а заключительный этап представляла ПВЛ (позже Шахматов установил наличие трёх её редакций). Схема выглядела так:
Точно в этом виде никто из указанных исследователей не поддержал эту схему Наиболее сомнительным звеном шахматовской схемы оказалась идея об особом новгородском своде, который влился в киевское летописание ещё до НС. На этапы до НС стали смотреть скорее как на нарастание киевского летописания. Следы независимого летописания в Новгороде в XI в. обнаруживаются, но не в Н1Лм и не в списках ПВЛ, а в летописях группы так называемого «Новгородско-Софийского свода» (НовСофС)[55]. В то же время, помимо главной идеи о первичности НС по отношению к ПВЛ, ряд учёных поддержали эту схему ещё в двух пунктах, высказавшись в пользу существования, во-первых, свода 1070-х гг. как непосредственного предшественника НС, и во-вторых, некоего древнейшего повествования об истории Х в. и, возможно, начала XI в. Всё убедительнее звучат в последнее время утверждения, что это повествование не имело (или почти не имело) абсолютных датировок и носило в целом более светский характер, чем последующее летописание. Создание его относят к рубежу X–XI вв.[56], 1030-м гг.[57] или 1016–1017 гг.[58]
Не углубляясь в детали шахматовской реконструкции начального летописания и споры вокруг неё[59], для целей данного исследования достаточно отметить несколько важнейших пунктов. Во-первых, Н1Лм и списки ПВЛ представляют повествование до начала XI в. в двух версиях, которые явно связаны друг с другом, но при этом во многих местах существенно расходятся. Как бы ни объяснять происхождение этих двух версий (а в особенности, если принимать идею Шахматова о НС), ясно, что они отражают так или иначе летописание XI в., а значит, их сравнительный анализ является необходимым элементом описания древнейшей истории Руси. В данной работе такого рода сравнение наиболее последовательно проводится в одном из разделов главы II, где терминологический анализ отталкивается от шахматовской схемы начального летописания. Во-вторых, в части за XI в. НС отразился в Н1Лм лишь в отрывках, и здесь возможности реконструкции первоначального текста сильно ограничены, и приходится опираться, в основном, на ПВЛ. В-третьих, сама ПВЛ не является неким целостным текстом, невредимо дошедшим до нас. Этот памятник искусственно выделяется из разных летописей, в которых он сохранился далеко не в однообразном виде. В древнейших списках ПВЛ обычно выделяют две основные группы – ПВЛ по ЛаврЛ, Радзивиловской (РадзЛ) и Московской Академической (МосАкЛ) летописям, а с другой стороны, ПВЛ по спискам Ипатьевской летописи (ИпатЛ). В особой версии ПВЛ отразилась также в летописях группы НовСофС. Не все учёные следуют концепции Шахматова о трёх редакциях ПВЛ[60], но разночтения в списках ПВЛ (на которых эта концепция построена) могут быть весьма существенны и должны учитываться в историческом анализе.
Опора на данные начального летописания (в составе НС и ПВЛ) определяет в значительной степени хронологические рамки работы. Но ограничение исследования рубежом XI–XII вв. объясняется ещё двумя обстоятельствами. На это время, как будет показано, приходится существенная перемена в положении важного элемента военно-политической элиты Руси – воинов, состоявших на жалованье у князей. Кроме того, для периода до XII в. крупные разногласия вызывает объяснение сущности боярства, тогда как его положение как высшего общественного класса в XII в. представляется подавляющему большинству учёных бесспорным. Вместе с тем, исследование в ряде случаев выходит за этот рубеж, и привлекаются данные XII–XIII вв. Обращение к этим данным необходимо отчасти для полноты анализа того или иного термина, употреблявшегося не только в X–XI в., но и позднее, отчасти для прояснения сущности и позднейшей судьбы явлений, корни которых уходят в глубокую древность. С другой стороны, исследование слова дружина уводит и в более древнее время, заставляя обратиться к старо- и церковнославянским текстам (о методике работы с этими текстами говорится в соответствующем разделе в главе II).
Фактически в книге речь идёт о древнейшем периоде государства под именем русь. Об этом государстве мы располагаем сравнительно ясными свидетельствами приблизительно с начала Х в., а данные, относящиеся к его предыстории в IX в., весьма скудны, неоднозначны и вызывают большие споры. Понятие государства в данной работе используется в том широком смысле, в каком о государстве принято говорить в русскоязычной историографии, – то есть для обозначения некоей (пусть элементарной) относительно централизованной политической системы, которая охватывает население на определённой территории некими обязательствами по фиску, суду и управлению. Разумеется, применительно к Средневековью нельзя вести речь о государстве его теперешнем понимании, – публичная всеохватывающая власть, бюрократия, представления об общем благе и т. п. В раннесредневековых политических образованиях (политиях) монополия власти (с соответствующим легитимным принуждением) и представления об этнополитическом и культурном единстве населения, признающего эту власть, лишь начинали складываться. Слово русь используется для обозначения государства и его территории с прописной буквы, для обозначения этноса – со строчной.
Глава 1
Понятие дружины
В русскоязычной историографии, когда речь идёт о Древней Руси, слово дружина часто принимается как нечто само собой разумеющееся. Дружина – это ближайшие соратники князя, люди на его службе и в то же время правящий социальный слой или господствующий класс. Обычно утверждается преемственность древнерусской дружины от (обще)славянской: организация или даже «корпорация» людей на службе древнерусских князей выросла из древней «домашней» дружины вокруг «племенных» вождей[61].
Такое представление уже давно и прочно вошло не только в научную литературу, но и в учебники, и многим кажется вполне естественным и приемлемым. Естественность этого представления во многом происходит из самих наших источников и, прежде всего, древнейших летописей, которые очень часто упоминают «дружину», описывая те или иные события домонгольской эпохи: князь советуется с «дружиной», призывает (созывает) её на войну, поручает ей те или иные задания. «Дружина» в изображении летописцев – это второй по значению (после династии князей Рюриковичей) элемент общественно-политической жизни Руси.
Дружина, таким образом, является и аутентичным словом источников, и научным понятием. Казалось бы, нет ничего плохого в том, что научная терминология совпадает со словоупотреблением источников. Мы не навязываем источникам свои понятия, чуждые той отдалённой эпохе, и совпадаем в наших определениях с современниками, избегая недоразумений, – «вещи называются своими именами».
Однако удобство такого рода совпадений бывает обманчивым. Употребляя древнее слово, мы часто не задумываемся над его первоначальным содержанием и над тем, насколько современные значения слова соответствуют значениям древним и тем реалиям, которые описывались этим словом. И слово дружина – это как раз тот случай, когда от исследователя требуется сугубая осторожность. Присмотревшись к летописи, мы увидим, что слово, во-первых, имеет несколько значений, а во-вторых, эти значения довольно широки и расплывчаты. В то же время, обратившись к трудам историков, которые писали о дружине, увидим, что в массе тех или иных конкретных деталей – когда именно существовала дружина, кто именно входил в её состав, каково было её военное и политическое значение и т. д. и т. п. – их мнения расходятся чрезвычайно сильно, а иногда просто взаимоисключающим образом. На деле оказывается, что язык источника и язык (или, если угодно, дискурс) современного учёного расходятся, теряя общие смысловые опоры и оказываясь в разных понятийных плоскостях.
Научные понятия и представления – это совсем не некая данность, свалившаяся как манна небесная в некоем первозданном виде, а продукт весьма сложного и неоднолинейного познавательного процесса. То понятие дружины, которое сложилось в науке, – не исключение. Историки XIX в., описывая события древнерусской истории – а в сущности, лишь пересказывая и комментируя летопись, – ей вслед говорили: князь посоветовался со своей дружиной, князь отправился в поход с дружиной и т. д. Вопросы, что это за дружина, откуда она взялась, из кого именно состояла и в каких отношениях её члены стояли к князю и различным социальных слоям, долго не вставали – всё казалось ясным и естественным и оставалось «неотрефлектированным». Отсутствие интереса к этим вопросам объяснялось также и тем, что русскую науку XIX в. интересовали не столько люди в окружении князя, сколько сначала само становление монархического начала, а затем его отношения с народом – «общиной» или «вечем». Однако постепенно это – как будто бы само собой ясное – слово обрастало в научных трудах новыми смыслами. О дружине говорили уже в связи со становлением сословий, со спорами о «служилой» и «земской» знати и т. д. (см. во «Введении»).
Необходимость концептуально осмыслить это понятие назревала, и в 1909 г. вышла в свет работа А. Е. Преснякова «Княжое право в Древней Руси: Очерки по истории Х-ХII столетий», которая представляла собой первую попытку разработать научное понятие дружины. И в этой работе лежат во многом корни тех представлений о дружине, которые распространены сегодня. К ней я ещё обращусь ниже, пока отмечу только одно обстоятельство. Пресняков отталкивался от трудов западноевропейских, главным образом, немецких медиевистов конца XIX – начала XX в., в построениях которых дружине отводилось одно из центральных мест. В ведущей и наиболее авторитетной в то время немецкой историко-юридической школе (Verfassungsgeschichte) дружине придавалось важное историческое значение как основополагающему социально-правовому учреждению в истории германских народов от античности до высокого средневековья.
Разумеется, Пресняков определённым образом приноравливал выводы и схемы медиевистов, разработанные на западноевропейских материалах, к древнерусской истории. Однако в формулировке главных тезисов он опирался на западную историографию, а не на русскую. Именно поэтому, с точки зрения задач данной работы, прослеживая истоки концепта дружины, очень важно чётко уяснить и обозначить, о чём изначально писали авторы тех идей, которые легли в основу работы Преснякова. Не менее важно также проследить судьбы этих идей историков конца XIX – начала XX в. в разных историографических традициях последующего времени вплоть до сегодняшнего дня[62]. На этом фоне яснее станет развитие русскоязычной историографии, посвященной соответствующим проблемам, и её современное состояние.
«Германская» дружина
Русскому слову дружина в современном немецком языке соответствует слово Gefolgschaft, которое является сравнительно поздним порождением учёной мысли. Это слово создали историки XIX в., прибавив суффикс к известному с XVII в. слову Gefolge (спутники, свита, сопровождение; от глагола folgen– следовать). Оно быстро вошло в научный обиход, прежде всего потому, что в нём нашло соответствие латинское слово comtatus, которое использовал Публий Корнелий Тацит в знаменитом трактате «О происхождении германцев и местоположении Германии» (называемом также кратко «Germania»; 98 г. н. э.) – описании нравов, обычаев, верований и общественного устройства древних германских «племён» (народов). В то время как в немецкой исторической науке Gefolgschaft стало общепринятым специальным термином, во многих других национальных историографических традициях латинское comtatus не получило одного какого-либо специального соответствия и часто употребляется без перевода. В исторических работах на славянских языках comtatus обычно передаётся общеславянским древним словом дружина, и я в дальнейшем придерживаюсь этого соответствия (хотя, как будет видно из дальнейшего изложения, это соответствие должно рассматриваться как условное и требующее всякого рода пояснений и оговорок).
Уместно привести здесь же отывок из трактата Тацита (главы 13–14), где даётся описание «германской дружины». Цитирую русский перевод А. С. Бобовича под редакцией М. Е. Сергеенко[63]:
«13. Любые дела – и частные, и общественные – они (германцы— П, С.) рассматривают не иначе как вооружённые. Но никто не осмеливается, наперекор обычаю, носить оружие, пока не будет признан общиною созревшим для этого. Тогда тут же в народном собрании кто-нибудь из старейшин, или отец, или родичи вручают юноше щит и фрамею: это – их тога, это первая доступная юности почесть; до этого в них видят частицу семьи, после этого – племени. Выдающаяся знатность и значительные заслуги предков даже ещё совсем юным доставляют достоинство вождя; все прочие собираются возле отличающихся телесного силой и уже проявивших себя на деле, и никому не зазорно состоять их дружинниками (inter comites). Впрочем, внутри дружины (comitatus), по усмотрению того, кому она подчиняется, устанавливаются различия в положении; и если дружинники (comitum) упорно соревнуются между собой, добиваясь преимущественного благоволения вождя, то вожди – стремясь, чтобы их дружина (comites) была наиболее многочисленной и самой отважною. Их величие, их могущество в том, чтобы быть всегда окружёнными большой толпою отборных юношей, в мирное время – их гордостью, на войне – опорою. Чья дружина (comitatus) выделяется численностью и доблестью, тому это приносит известность, и он прославляется не только у себя в племени, но и у соседних народов; его домогаются, направляя к нему посольства и осыпая дарами, и молва о нём чаще всего сама по себе предотвращает войны.
14. Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине (comitatui) не уподобляться доблестью своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, – первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники (comites) – за своего вождя. Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлечённым в какую-нибудь войну, и потому, что покой этому народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче прославиться, да и содержать большую дружину (comitatum) можно не иначе, как только насилием и войной; ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной фрамеи; что же касается пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалованья. Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, – леность и малодушие».
Неизвестно, имел ли термин, выбранный Тацитом, какое-либо соответствие в языке (или языках) тех древних германских народов, которые ему были знакомы и о которых он писал. Само слово comtatus является производным от латинского же comes (спутник, товарищ, провожатый), которым римский историк обозначал членов «дружины». Есть некоторые предположения, склоняющие к тому, что латинское слово соответствовало определённому германскому[64]. Однако, сильны аргументы и против того, что такое соответствие имело место.
Во-первых, исследования трактата Тацита, предпринятые в XX в., приводят к заключению, что описание германского общества, предложенное римским историком, имело слишком обобщённый, «моделирующий» характер. Предлагая законченную и внешне как будто непротиворечивую картину «быта и нравов» германских «племён»-народов (сразу всех вместе!), Тацит во многом упрощённо-абстрактно (а может быть, и превратно) толковал явления, которые в реальности должны были быть разнородны и разнообразны в зависимости от разных конкретно-исторических условий. Его описание – это описание вообще, то есть некая схема или модель, нацеленная на синтез, а не на дифференциацию, и его труд ни в коем случае нельзя воспринимать как точные зарисовки, сделанные непосредственно «с натуры». Поскольку при внимательном анализе текста между его «моделью» германской дружины в главах 13 и 14 и сведениями в других частях трактата обнаруживаются разного рода несоответствия и даже противоречия, появляются подозрения, что тацитовский «comtatus» – это не прямое отражение, не снимок или отпечаток действительности, а как раз продукт его обобщений и упрощений. Некоторые учёные вообще не считают возможным увидеть в картине Тацита реальные черты, указывая ещё на идеологическую нагрузку его описания, «спекулятивный» характер его рассуждений и т. д. Другие (таких пока как будто большинство) не сомневаются в достоверности многих сведений, которые приводит Тацит, но в любом случае никто не воспринимает его данные как отражение реальности, wie es eigentlich gewesen ist, без учёта, что они стоят в той или иной зависимости от античных традиций истории описания и восприятия «варваров», от воззрений и вкусов самого автора, а также от политической ситуации в Империи и на её границах на момент написания трактата[65].
Во-вторых, из данных более позднего времени (эпохи раннего и высокого Средневековья VI–XII вв.) вытекает, что у разных германских народов по-разному обозначалось то, что в науке принято называть дружиной: ср., например, латинизированные обозначения у лангобардов gasindii и у франков antrustio, древнеанглийские ges и dryht, несколько слов в древних скандинавских языках (см. ниже о работе Дж. Линдоу)и т. д.[66]. Разнообразие обозначений в позднейшее время заставляет предполагать, что единства в терминологии, а может быть, и в реальных явлениях, не было и во времена Тацита.
Помимо трактата Тацита, есть и другие источники, на которых основывались и основываются научные представления о дружинах древних германских народов[67]. К сведениям Тацита примыкают свидетельства других античных и раннесредневековых писателей (Цезаря, Аммиана Марцеллина, Прокопия Кесарийского и др.). Отдельный комплекс источников составляют латиноязычные раннесредневековые хроники, законы и т. д. Данные этих источников разрозненны по времени и происхождению, кратки и неопределённы, в них отсутствует какая бы то ни было терминологическая последовательность (слова comes и comtatus приобрели в это время другие значения[68]; известны и другие латинские и латинизированные термины – ср. ниже о работе Г. фон Ольберг). По этим причинам в интерпретации едва ли не каждого конкретного известия всегда остаётся широкое поле для мнений относительно того, что и как именно объединяло людей в той или другой группе, в которой вроде бы можно признать «дружинные» черты. Не случайно, что эти относительно более ранние данные историки часто пытаются прояснить и систематизировать с помощью сведений из более поздних, но как будто более подробных и красноречивых источников, то есть прибегают к методам ретроспекции и компаративистики. Разумеется, применение этих методов всегда в той или иной степени рискованно, а выводы, полученные с их помощью, часто вызывают большие сомнения и возражения.
Такого рода относительно поздние источники составляют англосаксонские данные (главным образом, эпическая поэзия и прежде всего «Беовульф») и скандинавские – прежде всего, исландские саги. Большое преимущество этих источников, помимо их информативности, в том, что они написаны на оригинальных языках, а не на латыни. Основная проблема в том, что по времени и месту создания они слишком далеко отстоят и друг от друга, и от тех древних германцев, о которых писал Тацит: «Беовульф» сложился как цельное произведение, видимо, в VIII–IX вв., а саги начали записывать только в начале XIII в. Среди кандинавских данных большое значение имеют также два законодательных памятника, посвященных специально регулированию отношений внутри военно-служебных объединений в подчинении правителя. Сборник законов, регулирующих организацию норвежской служилой знати («Hirskra»), известен в редакции 1270-е гг., но в нём ясно прослеживается отпечаток континентальной рыцарской культуры и развитой вассально-ленной системы, и относительно поздние явления не просто «накладываются» на некие архаичные «дружинные» отношения, но часто смазывают и даже скрывают их. Сборник правил, которые регулировали быт воинов на службе датских королей (памятник, в историографии фигурирующий обычно под датским названием «Vederlov»), приблизительно на сто лет старше, но его интерпретация также наталкивается на разные исторические и источниковедческие трудности.
Уже в XIX в. немецкие историки, которые опирались, главным образом, на трактат Тацита, признали дружину в качестве одного из элементов общественного строя древних германцев, хотя и отводили ей второстепенное, подчинённое положение. Не без влияния романтически-либеральных идей своего времени они представляли этот строй как «германскую свободу», то есть демократический по существу, а главную роль в своих построениях отводили «народу» – свободным гражданам, организованным в общины, а в военное время составлявшим «народное ополчение». Большое, едва ли не определяющее, значение придавалось «народному характеру», важнейшей чертой которого виделась «германская верность» (germanische Treue). Такого рода идей придерживался, например, Георг Вайтц, одним из первых давший систематическое описание германской дружины. Его определение основных характеристик дружины (добровольное объединение под началом вождя, взаимная верность, вступление с принесением клятвы и т. д.) сохраняет значение и сегодня, хотя общая её оценка как вспомогательной военной силы, которая предоставлялась выборным князьям (таковыми он считал тех, кого римляне обозначали как prncpes), так сказать, по должности («Amtsgefolge»), сейчас имеет лишь историографическое значение[69].
В традиционном для рубежа XIX–XX вв. духе были выдержаны воззрения Генриха Бруннера. Ему дружина представлялась институтом, имевшим, в общем, только военное значение и отчасти административное. В высокопарных выражениях, характерных для историков эпохи подъёма немецкого национализма, он характеризовал дружину германцев как «школу воспитания военной доблести и навыков государственного управления» и как систему «отношений службы и верности, характерных для германцев (ein den Germanen charakteristisches Dienst- und Treuverhltnis), которая оставила в песне и саге по сравнению с другими установлениями их общественной жизни самые яркие и прочные следы»[70]. Реконструируя дружину как «юридический институт (Rechtsinstitution)», характерный для всех германцев на этапе племенного строя, Бруннер широко использовал англосаксонские и скандинавские материалы, пытаясь выделить общее и дополняя пробелы в источниках, происходящих из одного региона одной эпохи, за счёт данных, почерпнутых из источников, созданных в другом месте в другое время. Так, например, если историк не находил у Тацита прямого указания на клятву, которую молодой человек должен был приносить вождю при вступлении в дружину, он обращался к норвежской «Hirskra», находил там упоминание о такого рода клятве и делал вывод не только о том, что присяга была необходимым элементом института германской дружины, но и что вассальные обряды (оммаж и пр.) восходят к этой дружинной присяге[71]. Такого рода реконструкции, основанные на довольно прямолинейно применённом компаративном методе, типичны не только для Бруннера, но и для других немецких историков юридической школы, которые пытались найти одну общую для всех германцев модель эволюции общественного строя от племени к национальному государству.
Среди суждений по поводу германской дружины, высказанных или поддержанных Бруннером, два, связанные между собой, имели особое значение в немецкой историографии. С одной стороны, историк утверждал, что дружинные отношения древних германцев стали одним из «зародышей вассально-ленных». С другой стороны, тем основополагающим принципом, который и обеспечил эту преемственность, и, главное, цементировал сам дружинный строй, были особые отношения верности, характерные для германцев. Идея «германской верности», наряду с идеями о «германской свободе» и тому подобными, способствовала формированию представлений о неких базовых германских началах общественной организации, определивших историю немецкого народа, и стала частью «великого мифа» о национальном характере немцев. Она была разработана в целую теорию в 30-е годы XX в. и активно использовалась идеологами национал-социализма. По словам современных историков, уже отстранённо оценивающих развитие немецкой историографии в период до Второй мировой войны, верность понималась «(мета)психологически» как специфически германская добродетель и как «всеобщий принцип немецкого права»[72]. Эта идея повлияла на многих историков, в том числе и не связанных с политикой и идеологией Третьего рейха и работавших и после его падения.
Акцент на принципе верности привёл к выдвижению дружины в число структурообразующих элементов в эволюции общественного строя германцев и к расширению самого понятия дружины. Так, один из видных представителей немецкой исторической науки середины XX в. Генрих Миттайс, подчёркивая особый характер средневековой государственности (основанной на личных отношениях, а не формально-юридических), связал его именно с дружинными отношениями верности. Не только вассалитет связывался напрямую с германской дружиной[73], но и признание населением власти короля интерпретировалось как дружинная верность, и предлагалось выделить особый тип государства – «дружинное государство» (Gefolgschaftsstaat)[74].
Эту идею пытался развить Й. О. Плассман, который, опираясь на «Деяния саксов» Видукинда Корвейского и «Хронику» Титмара Мерзебургского, доказывал, что королевство Оттонов Х в., не воспринявшее каролингское наследство, было «дружинным государством»[75].
Другой известный немецкий медиевист Вальтер Шлезингер, работавший уже в основном в послевоенное время, также уделял дружине особое место в эволюции форм господства (Herrschaft), рассматривая её как специфически германское явление. В статье, опубликованной впервые в 1953 г., он предложил институционально-юридическую разработку понятия германской дружины, которая хотя и вызвала критику и оживлённые дискуссии, закрепила его «классический» вариант. В трактовке Шлезингера понятие дружины было тесно увязано с концепцией «господства знати» (Adelsherrschaft), к разработке которой больше других приложил усилия Генрих Данненбауэр и которую так или иначе поддержали Отто Бруннер, Теодор Майер, Герд Телленбах и другие медиевисты середины XX в. (которых иногда объединяют под названием «Neue Deutsche Verfassungsgeschichte»)[76]. Суть этой концепции сводилась к идее, что социально-политическое и экономическое господство знати в средневековых германских политических образованиях было не новым явлением относительно мифической «германской свободы», а продолжением господствующего положения знати и в германских племенах эпохи Цезаря и Тацита («германский континуитет»).
Шлезингер признал дружину следующей после семьи-дома (Haus) формой осуществления одним человеком господства над другими людьми, которые при этом не теряли личной свободы. Традиционно используя данные Тацита в сопоставлении с англосаксонскими и отчасти скандинавскими материалами, он пытался показать, что первоначальными в дружине были «добровольность подчинения» и черты «домашнего товарищества (Hausgenossenschaft)», и давал своё определение дружины: «отношения ежду господином и человеком, в которые вступают добровольно, которые основаны на верности и которые обязывают этого человека к совету и (военной) помощи, а господина – к защите и "милости"»[77].
Дружинные отношения, принимая разные формы, носили всеобщий характер— от объединения «крестьян» во главе с кем-либо из их среды в качестве вождя (grobuerliches Gefolgschaftswesen) до всего «племени»[78]. Но для знатного человека обладание дружиной было одним из «отличительных моментов» его «статуса господина (Herrenstand)» (наряду с происхождением, достатком и т. д.). В эпоху Великого переселения народов дружина переживает своеобразный расцвет и способствует становлению власти «военных князей» (Heerknige). «Военные князья», будучи первоначально предводителями объединений дружинного характера, становятся общепризнанными правителями, когда эти объединения, пережив под их начальством войну и переселение, оседают на какой-то территории. С принятием христианства власть правителя получает новое, религиозное, обоснование— как богоустановленная «по должности». Однако, «дружинные представления» не теряют своей силы. И Шлезингер пытается выявить и в каролингском законодательстве идею о короле как «дружинном вожде (Gefolgsherr)» всех свободных подданных, которые выступают в качестве его дружины (здесь Шлезингер присоединяется к Миттайсу и Плассману)[79].
Вассалитет сам по себе, согласно Шлезингеру, не мог быть опорой королевской власти, и его появление объясняется лишь как трансформация в новых условиях германской дружинной верности, «поглощавшей» галло-романские элементы. Наконец, и развитие частного землевладения в раннее средневековье выводится немецким историком из власти знатного господина над домашними и дружиной: «и зависимые крестьяне должны были считаться скорее дружинниками их господина». За этим заявлением следует общий вывод: «власть знати (die Herrengewalt des Adels) над землёй и людьми… выросла из власти в доме и в дружине», а альтернативные объяснения происхождения этой власти (право частной собственности, узурпация королевских прерогатив и др.) отвергаются[80].
В этой концепции институт германской дружины становится ключом, открывающим двери к разгадке происхождения не только вассально-ленной системы, но и едва ли не всех отношений господства – подчинения, известных в Средние века. И это говорит о том, что хотя Шлезингер существенно расходился с немецкими учёными XIX – начала XX в. в том, какое значение придавал этому институту, но его общий подход в сущности лежал в русле традиционной немецкой Verfassungsgeschichte. Однако, во второй половине XX в. такой подход уже не мог не вызвать критики.
В 1956 г. с возражениями Шлезингеру в статье с характерным названием «Границы германской дружины» выступил лингвист и филолог-скандинавист Ганс Кун, который поставил своей задачей «проследить терминологию дружинного строя и прояснить её происхождение, применение и отношение к лексике родственных сфер». Кун упрекнул Шлезингера в слишком широком определении дружины, так как оно подразумевало, с одной стороны, вообще практически любое объединение воинов под начальством одного вождя, а с другой – и разного рода работников (свободных и несвободных), которые выполняли невоенные функции. К тому же, по мнению Куна, Шлезингер на деле не соблюдал «границы» своего и без того широкого определения, и в итоге понятие теряло содержание и «расплывалось». Вот определение дружины, данное Куном: «союз свободных мужчин на постоянной, но, как правило, не пожизненной, службе какому-либо более могущественному человеку, которые принадлежат его дому, функция которых состоит только в военной службе и репрезентации и которые находятся в почётном положении и в отношениях взаимной верности с их предводителем»[81]. Принципиальным новшеством в рассуждениях лингвиста был отказ от идеи специфической германской верности.
С лингвистической точки зрения Куну удалось показать большое разнообразие и крайнюю неоднородность в обозначениях служебно-договорных отношений и разного рода военных объединений у континентальных германцев в разное время, англов и саксов в Британии в VI–X вв., датчан и норвежцев в X–XIII вв. Но ни одно из этих обозначений не может, по выражению Куна, возводиться «к седой древности», то есть ко времени раньше первых заимствований в германские языки из кельтских[82]. Это обстоятельство Кун использует в ряду аргументов в пользу тезиса, что институт дружины был ненамного старше свидетельств Тацита и возник под влиянием кельтов.
Рассуждая как историк, Кун приходил к заключению, что дружина (в его определении) существовала среди германцев до эпохи Великого переселения только у тех племён, с которыми больше других сталкивались римляне (то есть южных), а затем только у викингов в IX – первой половине XI в. Причём никакой преемственности между первой и второй формами дружины не было – они возникли независимо друг от друга в силу похожей констелляции нескольких факторов (обогащение за счёт грабежа более развитых и культурных земледельческих обществ, наличие ярко выраженного слоя знатных воинов и др.). Вообще же, по мнению Куна, для архаического общества значительно важнее дружины была служба разных несвободных зависимых людей (unfreie Dienstmannschaft). Службу такого рода он выявляет в разных формах как у германцев, так и кельтов, подчёркивает связь с ней вассалитета (отрицая, соответственно, преемственность вассалитета с германской дружиной) и настаивает на её всеобщем характере[83].
С другой аргументацией против Шлезингера выступил чешский медиевист Франтишек Граус[84]. Его возражения пересеклись с доводами Куна в одном: как и немецкий лингвист, чешский историк отказывался видеть в дружине древних германцев специфически германское явление. Но, в отличие от Куна, ссылавшегося на кельтов, Граус опирался на данные о дружинах некоторых славянских народов. Дружина у славян не только типологически представляла собой аналог германской, но и сыграла, по мнению Грауса, такую же генерирующую роль в становлении новых форм власти и господства и в этнических процессах. Ничего «типично» германского он не видел и в идее верности. Он считал, что в древности она «в примитивном виде» была как у германцев, так и у славян, а полнокровное развитие получила только с христианизацией. Именно христианство, связывая верность с верой, наполняет эту идею высоким морально-религиозным содержанием, а верность правителю получает новое содержание благодаря теории богоустановленности власти, и понятие fides развитого феодального общества уже не имеет ничего общего ни с германской, ни с какой бы то ни было другой дружинной верностью[85].
Шлезингер ответил на критику Куна и Грауса, защищая как теорию об особой германской верности, отличной от похожих этических представлений у других народов, так и свою концепцию об особой институциональной роли дружины. По его словам, для него было важно определить «основные понятия "идеологии" дружины», каковыми были, по его мнению, «добровольность и верность»[86]. Таким образом, Шлезингер в конечном счёте признал, что можно вести речь о разных формах дружины, хотя указывая на некие её базовые принципы, и это делало его понимание дружины предельно широким.
Признание возможности по-разному понимать дружину – в более узком и более широком смыслах – позволило некоторым историкам примирить позиции Шлезингера и его критиков. Наиболее последовательно различие узкого и широкого понятий дружины провёл Райнхард Венскус, автор фундаментального исследования «Формирование племён и общественный строй: становление раннесредневековых gentes» («Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der fhmittelalterlichen gentes», 1961), одна глава которого посвящена германской дружине. По мнению Венскуса, то, что имел в виду Кун, когда говорил о дружине в собственном смысле слова, подпадает под понятие Hausgefolgschaft – «домашняя дружина», то есть небольшая дружина «тацитовского» типа. Однако, историк указывал на то, что сам термин Gefolgschaft – современный, в немецком языке сконструированный искусственно, и поэтому считал возможным употреблять его как «собирательное понятие» (Sammelbegrief или Oberbegrief). Под это собирательное понятие он подводил и другие формы, родственные тацитовской дружине – например, «крестьянскую дружину (buerliches Gesinde)», военное объединение (ополчение) широкого состава (Heerhaufen), а также, при определённых оговорках, и выросшее из такого объединения новое «племенное» образование раннегосударственного характера. Более того, признавая заслугу Куна в указании на зависимых слуг в кельтских и германских обществах, Венскус полагал, что тот, разделяя те или иные термины как относящиеся к сферам несвободной службы или дружины, неправомерно разделяет тем самым реальные явления: в реальности, как термины могли в разных условиях наполняться разным содержанием, так и отношения зависимости и службы могли переплетаться с дружинными, основанными на добровольности и взаимности. Понятие служебной зависимости не может служить критерием различия, «важнее критерий взаимного обязательства, который выражается в признании общности: общности в борьбе и общности за столом»[87].
В вопросе о происхождении германской дружины Венскус согласился с Куном в отрицании особой «германской верности». Признавая, что «дружина в общем смысле является одним из тех базовых социальных типов, которые при известных условиях могут возникать независимо друг от друга в разных местах», Венскус допускает, что у кельтов и германцев независимо друг от друга существовали определённые дружинные «ранние формы» приблизительно до рубежа новой эры[88]. Среди тех «ранних форм» дружины, которые Венскус предполагает у германцев, он особенно подчёркивает службу чужаков могущественным вождям (правителям) других племён и народностей. Он фиксирует разные варианты такой службы, в том числе привлекая данные о славянских народах раннего и высокого Средневековья, и считает её важным инструментом усиления власти вождя (правителя)[89].
Окончательное образование дружины у германцев Венскус связывал с явлением, названным им «галльско-западногерманской "революцией"», то есть появлением в I в. до н. э. – I в. н. э. вождей нового типа – «военных князей» (Heerknige), распадением старых племенных общностей и началом масштабных людских перемещений, которые в конце концов вылились в Великое переселение народов и образование новых германских народностей. И именно дружинам он придавал решающее значение в укреплении власти Heerknige. Правда, в описании этой «революции» и других социально-политических и этнических процессов в первой половине I тысячелетия н. э., Венскус уже реже употреблял термин Gefolgschaft и писал более неопределённо об «объединениях с этосом, происходящим из сферы дружинных отношений (Verbnde, die mit dem aus dem Bereich des Gefolgschaftswesens stammenden Ethos erfllt waren)»[90]. Историк, таким образом, фактически признал, что не было некоего одного «института германской дружины», а были разные явления, которые можно только более или менее условно собрать под зонтиком одного «Sammelbegrief». В ходе социально-политических и этнических пертурбаций, пережитых германскими народами в эпоху поздней античности, эти «объединения» сыграли решающую роль в становлении новых форм власти и господства. «В какой бы значительной степени отношение между господином (Herrn) и знатными дружинниками ни было основано на добровольности и взаимных обязательствах, действие его вовне несло власть (nach auen wirkte es machtvoll)», – писал историк и тут же добавлял: «эта властная составляющая, разумеется, была сильнее выражена там, где в дружинах преобладали слуги и воины-чужаки (Dienstmannen-und Reckentum)»[91].
Таким образом, Венскус пытался сочетать идеи Шлезингера с доводами его критиков, особенно Куна. Однако, безусловно простившись с наследством национальной романтики, в главном Венскус был всё-таки скорее на стороне Шлезингера: понимание дружины как «собирательного понятия» давало возможность сохранить за ней ключевую роль в становлении власти и господства у германцев и сохраняло её важным элементом теории «господства знати» (Adelsherrschaft). Работа Венскуса существенно способствовала тому, что эта теория сохранила значение до сегодняшнего дня как некая, пусть и условная, основа, от которой можно отталкиваться. Именно в таком плане высказывается Вальтер Поль: «В целом, развитое в 40-е годы институциональное учение (verfassungsgeschichtliche Lehre) всё ещё, хотя и с оговорками, признаётся. Разумеется, после десятилетий фундированной критики теория господства знати (Adelsherrschaft) у древних германцев – господства, которое было основано на наследственной харизме, крепилось дружиной и обеспечивало защиту и покровительство в обмен на верность, – едва ли сохраняет силу как модель. Но ведь совершенно отсутствует альтернативная теория. Правда, относительно эпохи динамического общественного развития любая попытка поиска "сути" германского "строя (Verfassung)", – поиска, который бы дал возможность восстановить то, о чём молчат источники, – с самого начала обречена на провал»[92].
Под «фундированной критикой» Поль имел в виду не только работы Куна и Грауса, но и исследования ещё целого ряда учёных, посвященные самым разным вопросам истории германцев. Из них в данном случае будут отмечены только несколько, в которых прямо затрагивается проблема дружины. Для них характерны две связанные между собой тенденции: во-первых, углублённое изучение значения аутентичных слов и понятий древнего происхождения и верификация в свете этого анализа современных научных терминов и представлений, и во-вторых, стремление рассмотреть сведения одного источника в контексте той культурно-исторической ситуации, в какой он был создан, отрешившись от тех «подсказок» и «параллелей», которые как будто бы могут дать источники другого рода и происхождения. Нетрудно заметить, что эти тенденции лежат в русле тех направлений современной науки, которые называют «историей понятий» или «лингвистический поворот» (linguistic turn)[93], и спровоцированы проблематичными обобщениями, в том числе компаративными, историков юридически-институциональной школы в поисках той самой «сути германского строя», о которой писал Поль.
Не случайно, что в новой историографической ситуации особую ценность приобрело слово лингвистов и филологов и появилась серия терминологических исследований. Так, Клаус фон Зее на древнескандинавской лексике, относящейся к сфере права, попытался проверить идею о германской верности как своего рода моральном императиве. В частности, он рассматривает пару слов, обозначавших разные аспекты понятия мира, установленного по договору, – gri (перемирие, безопасное пребывание или доступ и т. п.)[94] и trygg (доверие по некоему твёрдому договору, стабильный мир). Второе из них родственно древнескандинавским словам tr (доверять) и traust (доверие), современному немецкому Treue (верность) и принадлежит группе слов, восходящих к древнегерманскому корню *treu-. Таким образом, оно могло бы выражать искомое немецкими историками понятие верности, в том числе дружинной. Однако фон Зее делает акцент на строго юридическом значении этого слова ("доверие согласно неким условиям или договорённостям") и указывает, что «общего понятия "верности" с этическим содержаием (Tugendbegriff) из него не развилось». Только в источниках второй половины XIII в. (прежде всего, в норвежских «Королевском зерцале» и «Hirskra») появляется достаточно разработанная терминология верности, в основном лексемы, производные от глагола tr, но это обстоятельство фон Зее связывает с «церковным и государственно-теоретическим идейным достоянием высокого Средневековья», пришедшим в Скандинавию с континента[95].
Таким образом, фон Зее однозначно поддержал Куна и других критиков теории «германского континуитета», выражавшегося, в частности, в преемственности всеобщей идеи верности. Более осторожную позицию в этом споре занял английский исследователь Дэннис Ховард Грин, попытавшийся реконструировать древнейшее семантическое «поле» нескольких общегерманских слов, употреблявшихся в значении властитель, господин. Возражая Куну, он усматривал в древних социально-правовых германских понятиях и терминах отражение представлений о некоей верности и взаимных обязательствах (хотя, разумеется, при этом ни о каком «Tugendbegriff» речи у него не шло). Возводя древневерхненемецкие слова truht (группа, банда) и truhtn (“господин, вождь”), происходящие от того же корня *treu-, к древнегерманскому *druhtz, он это последнее считал соответствием латинскому comtatus[96].
Общий вывод Грина о значении термина *druhtz поддержал американский лингвист Джон Линдоу, сосредоточившийся преимущественно на древнескандинавской лексике. Он считал возможным возводить к этому слову скандинавское слово drtt, известное по древней скальдической поэзии, и отвергал распространённое мнение о возможном соответствии германского *gasnpa ("спутники, сопровождение") латинскому comtatus[97]. В то же время им было хорошо показано разнообразие скандинавской лексики для обозначений воина, военного объединения и чести воина, только частично восходящей непосредственное к неким общегерманским корням с похожей семантикой. В частности, весьма характерным представляется то обстоятельство, что в Скандинавии X–XII вв. для обозначения военных объединений дружинного характера не было одного слова— кроме drtt, употреблялись ещё слова li, verung и hir. Причём последнее из этих слов, к XIII в. ставшее более или менее общепринятым обозначением королевской дружины, является заимствованием из древнеанглийского (от hred – "домашнее хозяйство, члены семьи, дома")[98].
Терминологические разыскания лингвистов были поддержаны историками. Карл Крёшелл, сопоставляя термины, относящиеся к домашней сфере и характеризующие носителей власти и господства, в законодательных памятниках раннего средневековья, опровергал исходный тезис Шлезингера о происхождении отношений господства из власти хозяина дома[99]. Анализируя понятия fides ufidelitas у античных писателей и в раннесредневековых источниках, Крёшелл приходит к выводу, что ни в одном случае в них нельзя найти отражение этического принципа взаимной верности. Первое из них, когда употреблялось в сфере человеческих отношений, обозначало либо обязательства патрона по отношению к его клиентеле (античное понимание), либо верность человека господину, но уже выстраиваемую «по образцу христианского доверия по вере (Vorbild vertrauender christlicher Glubigkeit)». Второе обозначало взаимное обязательство, но не этического, а «строго формального характера» (то есть по договору)[100].
В обширном труде Габриеле фон Ольберг наглядно представлено разнообразие слов и терминов, которые употреблялись в «варварских правдах» германцев для обозначения социальных слоев и групп. В частности, обсуждаются слова из «дружинной» сферы— gasndus, antrusto и др.[101] Скандинавские понятия из семантического поля "верность, преданность, лояльность" проанализированы по сагам и правовым кодексам XIII–XIV вв. в недавней работе Ганса Якоба Орнинга в контексте исследования отношений верности между правителем и разными слоями населения в Норвегии в конце XII–XIII в.[102]
На 80-е – начало 90-х годов XX в. пришлась волна интереса к тацитовскому описанию древних германцев. Вышли два новых издания «Germania», подготовленные учёными ФГГ и ГДГ, с новыми переводами на немецкий язык и комментариями[103]. Появились и новые исследования.
Работа датской исследовательницы Анне Кристенсен представляет собой попытку рассмотреть данные Тацита о германской дружине, так сказать, сами по себе, без сопоставления с другими источниками. В интерпретации этих данных Кристенсен в качестве исходного принимает тезис о тождественности «comites», из которых, по утверждению Тацита в главах 13 и 14 «Germania», состоял германский «comitatus», с теми «comites», которых римский историк упоминает в главе 12 как членов сотен, окружающих «principes» при исправлении последними суда на местах (в «pagus»). Такое отождествление даёт ей возможность далее утверждать, что и в главе 6, посвящённой военной тактике германцев, Тацит имел в виду дружину, когда писал, что войско германцев состояло из всадников и пехотинцев, набранных по сотням. В конце концов она приходит к выводу, что дружина фактически совпадала с сотнями, которые составлялись из молодёжи племени, а её состав и начальство того или иного prnceps над нею утверждались на тинге всем племенем[104]. Принципиальным новшеством в оценке дружины Кристенсен по сравнению с Вайтцем (ср. выше) и другими её предшественниками, также сопоставлявшими дружину с сотнями и видевшими в ней публично-правовой институт, было отнесение дружины к категории так называемых «мужских союзов».
Понятие «мужские союзы» (Mnnerbnde) ввёл в науку ещё в конце XIX в. немецкий этнолог Генрих Шурц, который изучал половозрастные разделения у некоторых африканских и меланезийских племён[105]. Это понятие прочно вошло в научный обиход этнологов, которые понимают под «мужскими союзами» «территориальное объединение молодёжи мужского пола со своими отдельным культом и социальными функциями», причём принятие в это объединение (нередко военизированное) и исключение из него осуществляются посредством специальных обрядов инициации[106]. Лили Вайзер и Отто Хёфлер применили это понятие к древнегерманским материалам, выдвинув тезис, что германские дружины (если не все, то многие) по происхождению были именно такими «мужскими союзами»[107]. В современной науке далеко не однозначно решается вопрос, подпадают ли в действительности под это понятие древнегерманские явления (ср. ниже). В любом случае, попытка Кристенсен представить «тацитовскую» дружину «мужским союзом» не может быть признана удачной. Датская исследовательница исходила из публично-правового характера той дружины, которую она реконструировала по данным Тацита, и делала акцент на том, что между вождём (prnceps) и молодым человеком, вступавшим в дружину (comes), устанавливались отношения «патронажа» или «шефства» (Initiationspatenschaft), характерные для «мужских союзов». Однако, ей приходилось оговариваться, что по описанию Тацита дружина германцев не обнаруживает черт ни культового объединения, ни возрастного класса[108].
Выводы Кристенсен вызвали у немецких историков и филологов критические замечания, итог которым был подведён Венскусом в статье в объёмном сборнике работ, посвященных «Германии» Тацита. Венскус, в частности, указал на те противоречия, которые обнаруживаются в свидетельствах Тацита, если принимается отождествление «comites» и «centeni», а также вообще признал еправомерным изначальное стремление Кристенсен рассматривать эти свидетельства изолированно от других источников[109].
С другой стороны, в этой работе Венскус решительно высказался против скептического подхода некоторых учёных, которые, пытаясь преодолеть пороки традиционной немецкой институционально-юридической школы, обратились к постмодернистской теории. По их мнению, «цивилизационная пропасть» между германцами и Тацитом была настолько большой, а цели и способ изложения материала римским историком настолько специфическими, что у нас нет возможности объективного познания той реальности, которую наблюдал и описывал римский историк. Так, например, Дитер Тимпе писал в статье 1988 г., что дискурс «Германии» строится не посредством «связи содержательных блоков, а через ассоциативную связь значений», и что вместе с традиционными топосами и схематикой античной этнографической литературы в этом произведении преобладает «спекулятивное». В результате он расценивал тацитовское описание дружины как «непропорциональное» и «перегруженное смыслом» по сравнению с реальностью, которую трудно, если вообще возможно, распознать за этим «конструктом»[110].
Возражения Венскуса сводились к тому, что именно понимание специфики работы римского историка и его связи с античной этно- и историографической традицией даёт возможность отсеять «зёрна от плевел», то есть отделить те достоверные данные, которыми он, вне сомнения, располагал, от абстракций и стереотипов.
Одним из главных аргументов, которые развивал Венскус в полемике с Тимпе и с другими исследователями, было также указание на специфику общественных отношений архаического общества, которые складывались не как юридические или политические институты, связанные в некую рациональную систему, а на основе личных связей, обычного права и традиционных представлений, обеспечивавших «социальное принуждение (sozialer Zwang)». Не случайно и поиск такого «института», как дружина, потерпел в конце концов крах. Реальное явление, которое Тацит обозначил словом comtatus, было, по мнению Венскуса, разнообразным и текучим в своих формах. Попытки понять его сущность в рамках абстрактных теорий вроде противопоставления начал «господства» и «товарищества» (Herrschaft vs. Genossenschaft) или в поиске одного точного «узкого» определения для него историк считает обречёнными на неудачу. Более перспективным, с точки зрения Венскуса, является использование наблюдений этнологов, которые обнаруживают «объединения, организованные по дружинному принципу», прежде всего у народов, вступивших в контакт с более развитыми культурами (Randvlker von Hochkulturen), и расценивают эти объединения «в качестве предпосылки процессов "государствообразования"»[111]. Отталкиваясь от разработок антропологов, Венскус предлагает в оценке общественного строя древних германских (и не только германских) народов исходить из «модели (Denkmodell)», названной им Vorrangordnung – строй, основанный на «преимуществе»[112]. В основе этого строя лежит принцип primus inter pares, противоречивый с точки зрения новоевропейских юридических представлений, но действенный в условиях архаического общества, поскольку позволял сочетать выдающиеся способности (харизму) отдельной личности и эгалитарно направленное «социальное принуждение». Дружину Венскус считает как раз примером выражения этого принципа.
Развивая свой давний тезис, что кельтские или германские дружины могли включать и служебно-клиентельные отношения разного рода, Венскус предлагает понимать дружину как историческое явление очень широко, ориентируясь в сущности на один главный определяющий признак: «такого рода отношение к одному человеку, возможно, но не обязательно родственнику, которое имеет эмоциональный характер и которое с течением времени приобретает институциональные черты (die emotional gesttzte Beziehung zu einer Person, die nicht notwendig ein Verwandter ist, wobei im Laufe der Zeit diese Beziehung institutionell geprgt wird)». Впрочем, тут же историк оговаривается, что этого признака, который он сам относит к сфере «менталитета», недостаточно для характеристики дружины как «идеального типа». Для создания нового «идеального типа» дружины, по его мнению, требуется объединение усилий специалистов разного профиля, что остаётся пока в области desiderata[113].
Эта статья Венскуса стала практически последним словом в немецкой традиции концептуального изучения «германской дружины». В этой статье хорошо видны новые вопросы и проблемы, которые обозначились перед медиевистами во второй половине XX в. Отталкиваясь от проблемы дружины, Венскус поднимает вопросы более широкие и далёкие от традиционной политико-юридической проблематики – как, оставив в стороне «институты» и юридические схемы, распознать ментальные «матрицы» и общественно-правовые нормы, которые регулировали поведение человека и под воздействием которых складывались каналы и формы коммуникации и выстраивались иерархические связи[114]. В общем, в таком направлении развивается творчество Герда Альтхоффа, который начинал с критики подходов Verfassungsgeschichte и в 1990-е гг. развил (ныне очень влиятельную) теорию «символической коммуникации», ритуалов и правил «политической игры» в Средние века[115].
Современные авторы очень осторожно подходят к данным Тацита и даже отказываются в интерпретации его трактата от самого понятия Gefolgschaft, поскольку оно подразумевает слишком «высокую степень институционализации»[116]. Сегодня исходят из множественности и текучести форм военно-служебных или военно-товарищеских объединений не только у германских, но и других народов древности и у тех «первобытных» народов, которые были описаны этнологами XIX–XX вв.; предпочитают говорить об элите, военном классе и военных объединениях (Kriegertum, Kriegergruppen, Kriegerbanden), иногда допускается, что эта элита была организована на дружинных началах (gefolgschaftsartige или gefolgschaftlich organisierte), но само слово gefolgschaftllch ("дружинный") берётся в кавычки[117]. Автор подробной статьи о дружине в новейшей энциклопедии, вынужденный самим жанром дать определение предмету, прибегает к «узкому пониманию» дружины в духе Куна (то есть то, что Венскус относил к типу Hausgefolgschaft) и скептически высказывается о попытках расширить смысл и значение этого понятия. Но при этом и относительно даже этого узкого понимания отмечается, что хотя «концепция (германской дружины – П. С.) имеет большое историческое и социо-этнологическое значение, она оставляет основные вопросы открытыми и поэтому во многих пунктах спорна»[118].
Таким образом, в современной немецкой историографии произошёл отказ от национально-романтических идей дружины и дружинной верности как специфически германского явления. В работах, касающихся развития отношений господства и властных структур, дружинам, если о них вообще и заходит речь, отводится чисто техническая и ограниченная роль. Концепт дружины, наиболее последовательно разработанный Шлезингером в рамках «Neue Deutsche Verfassungsgeschichte» в связи с теорией Adelsherrschaft, оказался невостребованным в работах, исследующих древнегерманские и раннесредневековые общества из «антропологической» перспективы[119]. Отсутствие в этой перспективе политико-юридических построений Verfassungsgeschichte естественно, хотя нельзя не пожалеть, что попытка Венскуса «вписать» в эту перспективу вопрос о дружине также не находит в немецкоязычной историографии никакого отзвука и продолжения.
Последнее обстоятельство тем более странно, что в литературе на английском языке «анропологический» подход в изучении «германской дружины» – или, наверное, правильнее: объединений дружинного типа у германцев – получил развитие. О двух таких работах будет подробнее сказано ниже после нескольких общих замечаний об англоязычной литературе по поводу «германской дружины».
Понятно, что интерес к «германской дружине» (и вообще к древним германцам) в других, помимо немецкой, историографических традициях сравнительно невелик. Например, французские историки не используют понятия дружины. Так, Фюстель де Куланж придавал существенное значение военным объединениям у франков в своей картине раннесредневековой истории Франции, но в качестве частной формы патроната и в связи со становлением феодализма – недаром о них речь идёт в разделе под характерным заглавием «Les origines du systme fodal: le bnfi ce et le patronat pendant l'poque mrovingienne»[120]. Марк Блок тоже в разделе о становлении вассалитета говорит как об одном из его корней о «домашних воинах (guerriers domestiques)», которые существовали повсеместно в раннесредневековой Европе, а Жорж Дюби ещё более неопределённо мельком упоминает просто о «соратниках (combattants)» «вождей (chefs)»[121].
В английской медиевистике влияние Verfassungsgeschichte не было, конечно, настолько сильным, как в немецкой, и теории вроде идеи германской верности не имели большого значения и распространения, особенно после того, как они были подняты на щит нацистской идеологией. Институт дружины как таковой никогда не становился частью каких-либо универсально-исторических или историко-юридических построений; в английском языке (как и во французском) отсутствует и соответствующий общепризнанный термин (чаще используют слова retainers и war-band)[122].
Тем не менее, в ряде работ второй половины XIX – начала XX в. влияние немецкой медиевистики (передовой на тот момент) всё-таки сказывалось, да и военно-патриотические представления об «англосаксонском духе», в русле романтического поиска «национальных корней», вдохновлялись во многом героическими идеалами «Беовульфа», «Битвы при Молдоне» и других произведений древней английской литературы. И тогда, и в недавнее время имели место попытки установить ту или иную связь— иногда косвенную и ограниченную эпохой «вторжения» англов и саксов на Британские острова, но иногда прямую и непосредственную преемственность, которая сказывалась вплоть до X–XI вв., – между этими идеалами и реалиями раннесредневековой Англии, с одной стороны, и тацитовским comtatus, с другой[123]. Относительно недавним примером является книга американского историка Стивена Эванса, который в модель тацитовского comtatus вписывает германские и кельтские дружины раннесредневековой Англии, опираясь, главным образом, на героический эпос (англосаксонский, валлийский и ирландский)[124]. Один из рецензентов книги, известный английский историк Патрик Вормлэнд отметил описательный характер книги, которая даёт обзор ("a neat resum") исторических свидетельств о военных объединениях англосаксов и кельтов, основанных на личных отношениях между вождём и его непосредственным окружением, но не приносит ничего нового в аналитико-методологическую и теоретическую разработку темы[125].
Такая оценка книги Эванса говорит не только о ней самой, но и об историографической ситуации. Историков теперь интересует больше уникальное, чем общее, важнее внутренняя логика локальной динамики и отличия от неких давно известных и описанных «моделей», а не сходства с ними. Тогда, когда познавательные возможности той или иной теории или схемы исчерпаны и накапливается всё больше данных, которые не вписываются в неё или просто противоречат ей, возникает закономерный вопрос – а стоит ли её придерживаться?
Характерной для современной тенденции критического пересмотра традиционных представлений является статья Роузмэри Вулф[126]. Отправной точкой для рассуждений Вулф стало традиционное сопоставление утверждения Тацита в гл. 14 «Германии» о том, что для дружинника «выйти живым из боя, в котором пал вождь, – бесчестье и позор на всю жизнь»[127], и эпизода известной англосаксонской поэмы конца X – начала XI в. «Битва при Молдоне», в котором описывается героическая гибель двух воинов Вульфмера и Эльфтнота, отказавшихся покидать поле битвы, когда исход её уже был ясен, после смерти своего предводителя Бюрхтнота[128]. Обычно в историографии это сопоставление служит доказательством преемственности «идеала дружинника, погибающего вместе со своим вождём», в германской традиции от Тацита до высокого Средневековья. Вулф взяла на себя труд пересмотреть ещё раз все свидетельства о такого рода «добровольном самоубийстве» дружинника в сочинениях античных писателей и пришла к выводу, что лишь в одном случае такое свидетельство подтверждается реальным историческим фактом (в «Истории» Агафия Схоластика VI в.) и скорее речь надо вести о литературном «бродячем сюжете» (топосе).
С другой стороны, она показывает, что в древнеанглийской литературе обычными способами поведения воинов после гибели их предводителя является совсем не гибель в том же бою, а либо месть за него (осуществление которой может растягиваться на многие годы), либо договор с победителем. Подчёркивая также различия между германскими дружинниками Тацита и англосаксонской знатью Х в. в социальном плане (главным образом, то, что представители последней уже имели собственные земли, состояли в сложных отношениях с правителем и его двором и т. д.), исследовательница заключает, что между ними не могло быть и преемственности в идеалах. Эпизод же с Вульфмером и Эльфтнотом она объясняет влиянием на английскую поэзию скандинавской, а именно примером древней датской поэмы «Речи Бьярки» («Bjarkaml»), где прославляется гибель в бою двух воинов Бьярки и Хьялти у тела убитого вождя Хрольва Краки. С точки зрения Вулф, английский поэт воспринял этот сюжет как «экзотический» вариант идеи верности, не имея никаких пропагандистских или морализаторских целей: такие сцены, пишет она, «ни возводят в образец, ни отрицают некое моральное обязательство, но скорее иллюстрируют героическую сторону человеческой воли»[129].
Выводы Вулф были поддержаны в работе Стивена Фаннинга, который подвергает ещё более резкой критике и саму концепцию «германской дружины», включающую необходимым элементом героический идеал верного дружинника, и попытки увязать с ней англосаксонские данные. В его заключительных замечаниях ключевым является слово fiction– выдумка, вымысел, фантазия. «Fiction» он считает и «…обычное современное представление о дружине (warband), описанной Тацитом», и то, что «дружины (warbands and retinues), фиксируемые в Англии англосаксонской эпохи, похожи на comitatus Тацита», и то, что описания этих дружин в древней литературе «отражают современное им общество в таком виде, какой историк может признать относительно достоверным», и вообще comitatus – это «миф»[130].
Очевидно, статьи Вулф и Фаннинга пересекаются с дискуссией, развернувшейся в немецкоязычной историографии по поводу «германской верности» и вообще «германского континуитета». Хотя статьи Вулф и Фаннинга, возможно, слишком полемически заострены и само существование у германских народов (по крайней мере, некоторых) идеала воина, готового умереть за вождя, вряд ли может быть поставлено под вопрос[131], вполне оправданы как критика расхожих представлений о преемственности и распространённости определённых идей или институтов, так и призыв к осторожному подходу в компаративных исследованиях и квниманию к деталям и уникальным особенностям каждого конкретного явления, фиксируемого в определённом месте в определённый момент. Во всяком случае, авторы целого ряда работ, самых разных по подходам и конечным выводам, в изучении героических идеалов древнеанглийской литературы и их взаимодействия с христианскими идеями и представлениями вполне обходятся не только без особой концепции дружины, но и без самого этого понятия[132].
На фоне господствующего среди историков скепсиса по отношению к теории «германской дружины» смелыми и неожиданными выглядят попытки «спасти» эту теорию, наполнив её новым содержанием, со стороны исследователей, обратившихся к культурно-антропологическим идеям и методам. Мне известны две работы такого рода: книги американского историка Майкла Энрайта и голландского историка Йоса Базельманса.
Исходным для исследования Энрайта под названием «Дама с кубком мёда: ритуал, пророчество и власть в европейской дружине от культуры Ла Тен до эпохи викингов» является наблюдение об особенной роли жены предводителя дружины во время дружинного пира. Наиболее ярко, по мнению автора, эта роль видна в известном эпизоде «Беовульфа», когда Беовульф прибывает в Хеорот к королю данов (датчан) Хродгару, его приглашают на пир и этот пир начинается с того, что жена Хродгара Вальхтеов подносит первый кубок мёда своему мужу. В этой церемонии подношения кубка с тем или иным алкогольным напитком женой дружинного предводителя (короля) своему мужу Энрайт видит отражение определённого религиозного культа, связанного со становлением дружинной организации, а также иерархии внутри этой организации. Книга призвана продемонстрировать этот тезис как на материале письменных источников от сочинений античных авторов до исландских саг, так и на археологических данных от эпохи кельтской культуры Ла Тен (ок. 6–1 вв. до н. э.) до рубежа I и II тысячелетий н. э.
Автор, хорошо ориентирующийся в дискуссиях вокруг германской дружины, предлагает своё понимание сути этого явления. По его мнению, первоначально групповая солидарность дружины (Genossenschaft – «товарищеское начало», по терминологии немецкой Verfassungsgeschichte) основывалась на имитации родственных связей (так как именно они в архаическом обществе рассматривались как наиболее надёжные), но «горизонтально организованная Gefolgschaft постепенно теряла элемент непосредственного равенства между господином и дружинником и превращалась в вертикальные отношения, основанные на службе». Присоединяясь к критикам идеи верности как фундамента дружины, Энрайт также скептически оценивает и значение дара как средства сплочения предводителя и дружинников между собой: «даже если дар был дан щедро и свободно (без ясно обозначенных условий), это было обычно пожалование только до смерти получателя и его держание было обусловлено милостью господина». Настоящей основой групповой солидарности дружины был, по мнению Энрайта, религиозный культ бога Бодана (заместившего кельтского бога Луга) и его спутницы (супруги) богини Росмерты, а актуализировалась и обновлялась эта солидарность на пиршественном собрании всех членов военного объединения дружинного типа, которое (собрание) «было нацелено на создание связей верности, не обусловленных родством, а алкоголь использовался как средство достижения экстаза и общения со сверхъестественным»[133]. Особая роль в культе и, следовательно, в укреплении дружинной солидарности, принадлежала супруге предводителя, которая в церемонии подношения кубка выражала идею превосходства вождя-господина и, кроме того, играла роль своеобразного медиатора в преодолении внутренних конфликтов в дружине, особенно в период после смерти одного предводителя и до признания власти следующего (как правило, женившегося на вдове умершего). В церемонии подношения кубка автор видит древнейший ритуал инаугурации предводителя в сан короля.
По всей видимости, Энрайт во многом справедливо заострил внимание на том, что военно-дружинные объединения, которые иногда рассматриваются исключительно как мужские группы и даже как специфические «мужские союзы», не могли существовать без женщин, а некоторые женщины могли даже иметь важное «функциональное» значение в этих объединениях. Подчёркивая значение пира и употребление алкоголя как средств укрепления солидарности, автор удачно обобщает наблюдения по этому поводу, накопленные в литературе, и обильно использует археологические данные, демонстрируя преемственность кельтской традиции ритуального застолья и германской[134]. Но сомнительной выглядит идея о религиозных корнях власти дружинного вождя и дружинной солидарности.
Особенно натянутой выглядит попытка проследить корни религиозно обоснованного участия женщины в дружине. По мнению Энрайта, оно появилось в определённый момент, а именно в I в. до н. э., в результате сложения нескольких традиций и обстоятельств. Традиционным было участие женщин в военных делах древних германцев. Кроме того, сказалось влияние военных достижений и городской культуры Римской империи. Но решающим, по Энрайту, было влияние кельтских культов бога Луга/«Меркурия» и богини Росмерты. В результате сложилась связь дружинный лидер-прорицательница (его жена), скреплявшая дружинный союз. Первым примером такой связи («прототипом») Энрайт считает сотрудничество вождя батавов Гая Юлия Цивилиса, прославившегося как предводитель восстания против римлян в 68–70 гг., и прорицательницы Веледы[135]. Однако, доказательства Энрайта здесь состоят из ряда допущений и предположений, имеющих очень шаткое основание в источниках[136]. Особенно сомнительным выглядит сохранение «конститутивной пары» вождь/прорицательница в условиях христианизации.
Мысль о кельто-германской преемственности кажется разработанной недостаточно и недифференцированно. Если религиозное влияние, в частности, в связи с традицией совместных трапезы и пития, можно допустить, то проблематичным выглядит сопоставление социальной организации военных объединений кельтов и германцев. Автор утверждает их принципиальное сходство, резко возражая устоявшемуся мнению об их различии[137]. Он сам заявляет, что первоначальная германская дружина носила «домашне-семейственный» характер и что в неё входили только свободные люди, но, с другой стороны, признаёт, что два основных слоя кельтской военной организации составляли soldur – свободные и знатные люди и ambact – их несвободные или полусвободные клиенты или слуги (функцией которых было, судя по всему, не столько воевать, сколько обеспечивать логистику – нести оружие и т. п.). Очевидно, в социальном плане это были две разные организации, на что неоднократно обращалось внимание в литературе (например, в работе Г. Куна). Попытки Энрайта решить это противоречие не убедительны (якобы указание античных писателей на то, что ambact были рабами и слугами, – это метафора, а на самом деле речь идёт о молодых членах дружины).
Конечный вывод американского историка о континуитете дружинной организации звучит весьма смело: «героический этос и воинственная религиозность были стержнем германской культуры около тысячелетия от Цивилиса до Беовульфа и продолжали быть таковыми и после распада Каролингской державы. Феодализм был не более чем мутацией принципа comtatus… Утверждение может показаться несколько парадоксальным, но не бессмысленным: раннесредневековая культура начинается с культуры Ла Тен»[138]. Попытка Энрайта дать синтетическую теорию происхождения, сущности и форм германо-кельтской дружины плохо согласуется с преобладающим ныне скептическим отношением к широким обобщениям и ставит его работу скорее в ряд с построениями Шлезингера, хотя она осуществлена с уже совсем иных методологических позиций.
Подход голландского историка и археолога Йоса Базельманса осноан на антропологической модели, которую разработали французский антрополог Луи Дюмон и его последователи, отталкиваясь от знаменитого труда Марселя Мосса «Очерк о даре» и исследуя, главным образом, разного рода кастовые системы, известные у некоторых народов древности и современности[139]. Исходя из тезиса, что связь через дары обеспечивала единство архаического (догосударственного) общества, Дюмон развил идею, что обмен дарами связывал не только людей, но и мир предков и даже, возможно, всякого рода других потусторонних существ и богов, которые таким образом становились интегральной частью «общества в целом» («холистический» подход). При этом сам дар не рассматривался отчуждённо, то есть как объект, а сохранял непосредственную связь с субъектом, то есть с человеком или, например, предком, владевшим им. Более того, каждая вещь, включённая в обмен как дар, несла определённую «составляющую» или «качество» личности, и приобретение этого «качества» мыслилось необходимым для каждого человека, чтобы не только включиться в социальное общение, но и самому перейти из одного этапа жизненного цикла в другой. Так, например, приобретение человеком при рождении такого «качества», как «тело», обуславливалось соответствующим обменом дарами (с родственниками, предками, соседями и т. д.), разумеется, при соблюдении определённых обрядов.