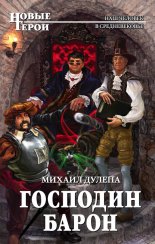Шерли Бронте Шарлотта

© Ф. Л. Мендельсон (наследник), перевод (гл. 18–37), 2013
© Е. Ю. Гениева (наследник), статья, 1990
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011
Издательство АЗБУКА®
Неукротимый дух
Вступление сестер Бронте в литературу было мгновенным, таким же внезапным был их уход. Дольше всех сияла на литературном небосклоне звезда Шарлотты Бронте. Но скупо отмеренные им судьбой годы они использовали так, как если бы прожили долгую жизнь. Единственное произведение Эмили Бронте «Грозовой перевал» – одно из самых великих и самых таинственных произведений в мировой литературе. Эмили и Шарлотта – признанные классики английской литературы, а Энн, чей талант был не такой яркий, – значительная викторианская писательница, несправедливо обойденная вниманием нашей критики.
Многие поколения ученых, биографов, литературоведов размышляют над феноменом этой семьи, проводят научные симпозиумы в Лондоне и на их родине в Йоркшире, строят гипотезы, по крупицам собирают все, что хоть как-то может объяснить загадочную и трагическую судьбу сестер. Честертон, кому трудно отказать в проницательности, с плохо скрываемым раздражением писал о том, «что яркий факел биографов вряд ли оставил в покое хоть один темный угол старого йоркширского дома». В самом деле, эти исследования, не лишенные очарования и интереса, не совсем подходят к сестрам Бронте. Их жизнь, их творчество утверждают незначительность всего внешнего, материального. С ними мы оказываемся в стихии духа, а потому, наверное, гораздо важнее понять причины, истоки, корни их творческой, пожалуй не имеющей себе аналогов в литературе «коллективной» одаренности. Примеров талантливых семей немало в истории литературы и культуры. Вспоминаются Уильям и Дороти Вордсворт, Чарльз и Мэри Лэм, Габриэль, Кристина и Майкл Россетти, дети Лесли Стивена: Вирджиния Вулф, ее сестра – художница Ванесса Белл, семья Уильяма Батлера Йейтса, наконец, братья Гонкуры.
И все же союз сестер Бронте был не столько по крови, сколько по духу. Современники, пытавшиеся разгадать тайну их «тройного псевдонима»: Каррер, Эллис и Эктон Белл, были не так уж далеки от истины, когда считали, что за этими странными именами скрывается какое-то одно существо.
Их талант буйно расцвел на одной почве – суровой почве затерявшегося в йоркширской глуши дома сельского священника; а потому их книги – романы и удивительные в своей лирической обнаженности и открытости миру и вечности стихотворения – проникнуты одинаковыми страхами, радостями, надеждами, разочарованиями.
Злой рок преследовал семью священника из Йоркшира Патрика Бронте. Старая церковь в Хоуорте, где он служил, хранит мрачную летопись смертей. В 1821 году скончалась его жена Мэри. От неведомой болезни сгорели, едва достигнув тридцати лет, единственный сын Патрика Бронте Патрик Брэнуэлл и дочь Эмили. Только на год пережила их Энн. А в 1855 году рядом с матерью, братом и сестрами положили Шарлотту, умершую на тридцать девятом году жизни, едва успевшую познать литературный успех, вкусить радостей домашнего очага и счастья будущего материнства. Трагедии, постигшие ее семью, рано возложили на ее плечи многочисленные заботы: надо было думать не только о домашнем хозяйстве, но и о том, как получше пристроить сестер, чтобы выбранный ими труд гувернанток приносил сносный доход, а переговоры с издателями – хоть какие-нибудь плоды.
Отец, о котором современники, отчасти с легкой руки Элизабет Гаскелл, автора «Жизни Шарлотты Бронте», книги, без которой не обходится ни один исследователь творчества писательницы (ведь это – прижизненное свидетельство), сложили немало легенд как о домашнем деспоте и самодуре, и в самом деле был плохой поддержкой в практических делах. Ирландец по происхождению, сын бедного крестьянина, он обладал отличными внешними данными, которые делали его, неотесанного деревенского паренька, аристократом в поведении, манере держаться, разговоре. Он был, несомненно, богат природными талантами, благодаря которым выбился в люди и даже сумел закончить Кембридж, что, впрочем, не слишком расширило его социальные возможности. Перед ним открывалась одна стезя – священнослужителя, кем он и стал, обосновавшись в Йоркшире, хотя в душе мечтал о другом – доблести и славе солдата. Тем немногим людям, кто был вхож в его дом, он казался малоприятным чудаком. Странности усилились со смертью жены, которую он очень любил и которая, видимо, была духовно близка ему. Материальная сторона жизни казалась ей несущественной: напротив, нищету она воспринимала как благо, посланное Небесами, – ведь нищему легче войти в Царствие Божие. Дни напролет просиживал Патрик Бронте в своем кабинете, готовясь к проповеди или зачитываясь каким-нибудь фолиантом. Даже трапезу и ту он предпочитал принимать в одиночестве. Драма Патрика Бронте была не в том, что он стал священником, но в том, что он не стал, кем хотел. Именно нереализованность натуры толкала его на странные поступки, объясняла его часто подавленное, угнетенное настроение.
И все же роль этого чудаковатого, но, несомненно, одаренного человека велика в духовном и интеллектуальном становлении его талантливых от природы детей. У него была собрана обширная библиотека, он был подписчиком многих газет и журналов, потому что «коридоры власти», взлеты и падения монархов, доблести полководцев, их победы и поражения интересовали его во сто крат больше, чем жития святых. Он – что было в высшей степени нетипично для английского пастора его времени – высоко ценил Байрона, отменно знал кельтские предания, которые рассказывал детям во всех подробностях, не тая ужасов и двусмысленностей. Поступал он так потому, что имел либеральные взгляды на образование. Дети его, за исключением, пожалуй, Энн, провели мало времени в школе. Патрик Бронте твердо верил, что только чтение, причем разностороннее, размышление, предпочтительно в одиночестве, общение с природой, постоянное и естественное, могут сформировать личность, развить ум, наставить на верный путь душу. Поэтому он предоставлял детям, в том числе и девочкам, полную свободу в выборе книг, откровенно и подробно обсуждал с ними прочитанное. Об особенностях интеллектуальной атмосферы, царившей в доме Бронте, можно судить по тому, что Патрик Бронте всерьез обсуждал политические новости с десятилетней Шарлоттой. Возможно, у него не было лучшего собеседника, но, как показывают некоторые письма Шарлотты Бронте, она, несмотря на свой юный возраст, действительно знала, что происходит в парламенте, чем славен Наполеон и плох Веллингтон. Все это имело двоякие последствия: с одной стороны, дети безоговорочно приняли политические взгляды отца и стали, повзрослев, убежденными тори, с другой – беседы развили в них независимость суждений, уважение к поступку, человеческой личности. Патрик сам писал стихи (довольно посредственные), мечтал издаться, поэтому всячески приветствовал творчество своих детей – увлечение живописью Патрика Брэнуэлла, поэзией и прозой – дочерей. Конечно, полученное Патриком Брэнуэллом и его сестрами образование и воспитание плохо подготовило их к реальной жизни. Патрик Брэнуэлл, которого в семейном кругу считали талантливым живописцем, не поступил в Королевскую академию художеств, и этот провал сломил его. Общение с внешним миром, «жизнь в людях» была мучительна для сестер. Однако эти же отрицательные обстоятельства способствовали и максимальному раскрытию их самобытных талантов. Наверное, знай Шарлотта Бронте и Энн Бронте лучше английскую литературную традицию, их книги вызывали бы меньше формальных нареканий. Но ведь настольной книгой в семье была «самая великая книга» – Библия, и ее дочери священника знали едва ли не наизусть. Отсюда, кстати, такое обилие библейских образов, прямых и скрытых цитат, парафраз в произведениях Шарлотты Бронте.
Воображение молоденьких сестер, так рано осознавших себя творцами, питали, конечно, не только книги и не только разговоры, но и сам их уединенный дом, стоящий на кладбище, среди могил, открытый всем ветрам и любой непогоде; народные предания, знатоком и мастерским рассказчиком которых была их старая няня; близость, реальность, неотвратимость смерти; мысли, а что же там – за гробовой чертой; и, конечно, природа, с которой они были не просто близки, но тесно слиты. Едва открыв дверь дома, они оказывались на вересковой пустоши, по которой вместе или в одиночку часами бродили и где на приволье их посещали удивительные образы прекрасных королев, безжалостных злодеев, нежных принцесс, видения далеких жарких стран. Давайте мысленно перенесемся в далекий Хоуорт, в скромный дом священника Патрика Бронте. Вот его кабинет, а вот и гостиная с алыми, потускневшими от времени обоями – не потому ли этот цвет так часто встречается у Шарлотты и Эмили. Вот диван, на котором умерла Эмили, обеденный стол – здесь были написаны все их романы. Поднимемся наверх. Тут спальни. Из них открывается очень грустный вид на кладбище, на могилы, смотрящие в окно. Становится тяжко на душе. Часы бьют девять, семья собирается на общую молитву, после которой его преподобие Патрик Бронте отправляется на покой. И тут три молоденькие девушки, как проснувшиеся лесные создания, начинают кружить по гостиной и плести свои чудесные истории. Еще мгновение – и они унесутся мечтой в воображаемые, фантастические страны – в Гондалу Эмили и Энн; Ангрию Шарлотты и Патрика Брэнуэлла. В Ангрии правил своенравный, обольстительный и жестокий герцог Заморна. О его военных доблестях слагал стихи Патрик Брэнуэлл; о бурной любовной жизни, изменах, неземной страсти, ревности, тоске – Шарлотта.
Завывает ветер на кладбище, еле тлеет камин, странные шорохи слышны по углам угрюмого дома, но четверо молодых людей ничего не замечают – они далеко, в стране грез, где царит неземная любовь, где в яростных черных глазах Заморны «сверкают все молнии ревности», где забываешь, что ты некрасива, мала ростом, больна, что тебя душит кашель, что…
«Мало кто поверит, – пишет в дневнике Шарлотта Бронте, – что воображаемая радость может доставить столько счастья».
Об этих удивительных странах и их не менее удивительных жителях сестры пишут стихи. Это начало их писательской карьеры. Пройдет совсем немного времени, и эти безудержные романтические вирши уступят место другим, тоже романтическим, но уже более земным – в них отразится реальный опыт сестер: страх перед большим миром, ужас от пребывания в школе, жажда, неуемная жажда любви, сочувствия, сострадания.
Но как решить, а можешь ли ты писать? Надо обратиться за советом к великим. И маленькая, скромная, безвестная девушка из Хоуорта пишет поэту-лауреату Саути. И вот ответ-приговор: «Праздные мечтания, в которых вы ежедневно пребываете, способны нарушить покой вашего ума, и, поскольку обычные дела покажутся вам пустыми и бессмысленными, вы почувствуете себя неспособной к их исполнению, не сумев стать пригодной к чему-нибудь еще. Литература не может быть уделом женщины и не должна им быть. Чем больше женщина занята свойственными ей обязанностями, тем меньше у нее остается досуга для литературы, даже если это занятие второстепенное или просто развлечение. Жизнь вас еще не призвала к исполнению своих обязанностей, а когда это свершится, вам не захочется мечтать об известности».
Правда, прочитав это нравоучение, Саути, которому стихи, видимо, понравились, все же «разрешил» Шарлотте Бронте «досуг для литературы»: «Пишите стихи ради них самих, без излишней гордыни, не рассчитывая на славу. Тогда это занятие не повредит ни вашему сердцу, ни уму».
После такой отповеди как не впасть в тоску и уныние. Но какое там – Шарлотта Бронте пишет ответ лауреату. Ей, покорной дочери сельского священника, гувернантке, которой надобно думать о хлебе насущном, необходимо оправдаться: нет, у нее и в мыслях не было пренебрегать своими женскими, дочерними обязанностями, и времени у нее нет для праздных мечтаний, и она, конечно, бросит сие неподобающее для молодой девушки занятие. Ей даже, наверное, казалось, что она именно так и поступит. Но неукротимый дух, безудержное воображение уже определили ее судьбу.
Этот неукротимый дух не раз на протяжении ее короткой жизни заставлял Шарлотту принимать решения, которые никак не вязались с образом послушной дочери сельского священника без каких-либо средств к существованию. Брат ее близкой подруги, получив место помощника священника, решил сделать Шарлотте предложение. Ему нужна разумная, послушная, покладистая жена, в меру образованная – ведь ей придется учить детей в сельской школе. Он нисколько не сомневался, что его предложение будет принято. Но получил решительный отказ. Хотя краски Ангрии и образ Заморны потускнели от соприкосновения с жизнью, школами, пансионами, денежными счетами, починкой поношенных платьев – в одном она осталась верна своей мечте: что угодно, но только не прозябание в любви, не тусклая доля жены священника.
И все же обстоятельства в конце концов оказались сильнее мечты. За год до смерти она дала согласие на брак с Артуром Николсом, преемником мистера Бронте в Хоуортском приходе, который уже второй раз делал предложение Шарлотте. Этот брак сулил сносное существование, ведь кто знает, может быть, ухудшающееся день ото дня здоровье и не даст сил заниматься литературным трудом. Николс был вполне достойным человеком, наверное, искренне любил Шарлотту, но весьма ревниво относился к тому, что отнимало у него внимание жены, – к ее творчеству. А ей так хотелось с ним поделиться своими замыслами. Совсем незадолго до смерти, в последние дни 1854 года, Шарлотта Николс грелась у камина, прислушиваясь к вою ветра за окном, и вдруг сказала мужу: «Если бы мы не сидели тут вдвоем, я бы, наверное, сейчас писала». И, бросившись наверх, вернулась с рукописью – началом новой книги. Она стала читать ее вслух. Когда она закончила, ее супруг сурово заметил: «Критики скажут, что ты повторяешься». – «Я переделаю, – с готовностью возразила она, – я по два, по три раза принимаюсь за роман, прежде чем остаюсь довольна». Но этому не суждено было свершиться.
Начало литературной деятельности сестер, которые готовились всю жизнь прожить гувернантками, что было естественно в их положении, а отнюдь не писательницами, положила случайность. Осенью 1845 года Шарлотта Бронте обнаружила тетрадь со стихами, написанную почерком Эмили. И до этого она знала, что сестра писала стихи, но эти показались ей особенными: «Они были лаконичны, жестки, живы и искренни. А для меня они звучали особой музыкой, дикой, меланхолической и возвышенной». Стихи были и у Энн. Писала стихи и сама Шарлотта. Почему не попытаться издать сборник? Самым трудным оказалось убедить Эмили, человека, как пишет Шарлотта Бронте, «необщительного, не разрешавшего даже самым близким и дорогим ей людям вторгаться без спросу в область ее мыслей и чувств». Но вот уговоры позади, и Шарлотта, самая энергичная из сестер, берет на себя все приготовления. Сначала надо придумать псевдоним, скрыв за ним свою женскую сущность: в противном случае суровые критики не обойдутся без оскорбительных намеков на ограниченность женского мышления. Уже в конце января 1846 года поэтический сборник «братьев» Белл увидел свет и даже удостоился похвалы критика из солидного журнала «Атенеум». Рецензент особенно выделил Эллиса Белла, то есть Эмили, чей «беспокойный дух создал такие оригинальные стихотворения».
Успех окрылил «братьев». В одном из писем издателям Шарлотта спрашивает, а не заинтересует ли их проза Каррера, Эллиса и Эктора Беллов. Она имела в виду свой первый роман «Учитель», «Грозовой перевал» Эмили и «Агнес Грей» Энн. «Грозовой перевал» и «Агнес Грей» приняли к публикации, а вот «Учитель» принес немало огорчений Шарлотте Бронте. Он увидел свет только после смерти писательницы. А при ее жизни шесть издателей отвергли его. Видимо, как и Элизабет Гаскелл, они считали, что сюжет «не очень интересен с точки зрения того читателя, который ищет в романах всякого рода чрезвычайных происшествий». Действительно, «чрезвычайных происшествий» в романе нет. История молодого человека Уильяма Кримсуорта, рано лишившегося родителей, получившего неплохое образование и отправившегося учительствовать и искать счастья в Бельгию, где он и встречает свою любовь, рассказана просто, безыскусно, не так, как было заведено у современников Шарлотты Бронте, которые ценили приключения, трагедии, роковые страсти. История Кримсуорта, конечно, автобиографична: Шарлотта Бронте тоже была в Бельгии, сначала училась, а потом учительствовала в пансионе супругов Эгер, где и встретила свое самое сильное чувство в жизни – любовь к учителю м-сье Эгеру, преподавателю французской словесности, человеку умному, вспыльчивому, обаятельному – словом, настоящему романтическому герою, который, конечно же, послужил прототипом для мистера Рочестера в «Джейн Эйр».
Судьба трех других романов Шарлотты Бронте иная. «Джейн Эйр» (1847), «Шерли» (1849), «Городок» (1853) вызвали живейший интерес читателей и критиков, среди которых, надо заметить, были весьма искушенные ценители, например знаменитый автор «Ярмарки тщеславия» ироничный Теккерей. Но и он рыдал над «Джейн Эйр», и он, убежденный противник всяческих романтических преувеличений, нелицеприятный критик Байрона, Жорж Санд и Виктора Гюго, вынужден был признать, что эти живые, полные искреннего, неподдельного чувства страницы никого не могут оставить равнодушными. «Кто автор, – писал Теккерей, – я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование. Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно. Передайте автору мою благодарность и уважение. Этот роман – первая из современных книг, которую я смог прочесть за последние годы».
Конечно, такой отзыв обрадовал Шарлотту Бронте. Второе издание «Джейн Эйр» она посвятила Теккерею. Бедная провинциальная девушка, окрыленная успехом, чистая в своих помыслах, даже не могла себе представить, какие пересуды, досужие вымыслы и безобразные сплетни вызовет ее наивное, романтическое и высокое посвящение. Она не поскупилась в нем на сравнения, похвалы, цветистые метафоры, назвала Теккерея «гением», «орлом», говорила об его уникальности, возвышенности ума и тонкости чувств. «Я почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей». Газетчики, а вслед за ними и люди света начали поговаривать о том, что уж не Теккерей ли Рочестер, а Бекки Шарп – эта Каррер Белл.
У каждого писателя есть «своя» книга, в которой его талант, ум, душа воплощаются особенно полно. У Шарлотты Бронте – это «Джейн Эйр».
Роман бесчисленное число раз переиздавали не только в Англии, множество раз экранизировали, делали телефильмы и радиопередачи. В Англии «Джейн Эйр» изучают в школе; об этом романе написаны сотни статей, исследований, диссертаций. Но главное – ему безраздельно отдано сердце читателей в самых разных странах мира и, конечно, в России: эту книгу узнали и полюбили у нас почти сразу же после ее появления в Англии. И даже те, кому не довелось прочитать эту книгу, знают о существовании ее удивительной героини – Джейн Эйр, маленькой невзрачной гувернантки, нашедшей после многих горестей свое счастье. Порой, размышляя о популярности этой книги, ее притягательной силе, начинаешь думать, а нет ли здесь чего-то мистического. В самом деле, литературоведы, среди которых в XX веке такие авторитеты, как Ливис, давно объяснили, что стилистом Шарлотта Бронте была довольно-таки посредственным, что ее сюжеты не выдерживают критики: уж больно много в них совпадений и всяческих нелепостей. Что стоит, скажем, сцена, где Рочестер предстает переодетым цыганкой. Да и вообще, как заметил Честертон, поступки Рочестера так чудовищны, что даже знаменитая пародия Брета Гарта не в силах представить их в утрированном виде: «Тогда, как обычно, он швырнул мне в голову ботинки и вышел». К тому же и характеры Шарлотты Бронте статичны: ей далеко до психологизма Джейн Остин. Впадает она часто и в патетику, совсем нелюбезную читателю XX века, и прочая, и прочая.
Но все доводы рассудка, все доказательства Ливиса, уверенной рукой исключившего Шарлотту Бронте из «великой традиции» английской литературы (заметим, он оставил в ней ее сестру – Эмили), меркнут перед неувядающим вот уже полтора столетия очарованием ее страниц. От Шарлотты Бронте бесполезно ожидать знания жизни, правдивости и точности в описании манер, деталей быта, примет времени. Правда этой книги в другом – в правде чувства. И вот от такой правды минутами захватывает дух. Нет тут никакой мистики – просто эти страницы и этих героев породили на свет сильное и страстное сердце, ум, который не мудрствовал лукаво, фантазия, столь буйная и чудесная, что она вызвала к жизни демонически прекрасного Рочестера, по которому и сегодня, в начале XXI века, втайне вздыхают молоденькие девушки, и трогательную, некрасивую, прекрасную в своей любви и стойкости Золушку – Джейн Эйр.
Однако будем справедливы. Не всегда чувство, страсть водили пером Шарлотты Бронте. Ее последний завершенный роман «Городок», еще одна повесть о любви, на сей раз несчастной, роман и более психологический, и, конечно, более реалистический. И его нравственный урок не столь прямолинеен и дидактичен и требует от читателя больше работы мысли и души: ведь это книга о необходимости, несмотря ни на что, нравственной самодисциплины. Все литературные достоинства налицо, они очевидны специалистам, но обычный читатель давно выбрал «Джейн Эйр».
Если взглянуть на книги Шарлотты Бронте и ее сестер с историко-литературной точки зрения, то, наверное, можно будет сказать, что они в чем-то даже нагляднее, чем произведения «титанов» Диккенса и Теккерея, тяготевших к масштабности, монументальности изображения, показывают процесс становления английского классического реализма, его особенности. На примере «Джейн Эйр», «Городка», исторического романа «Шерли», «Агнес Грей» и «Грозового перевала» видно, например, что для английского реализма, скажем в отличие от французского, характерно не столько отталкивание от романтической эстетики, сколько гармоничное сочетание реалистических и романтических черт в творчестве даже одного писателя. Свидетельство этому отнюдь не только книги сестер Бронте, но Чарльза Диккенса, Элизабет Гаскелл и даже «апостола обыденности» Уильяма Мейкписа Теккерея.
Не будет преувеличением заметить, что с творчеством сестер Бронте английский реализм вступил и в новую для него область внутренней жизни. Если Теккерей был первым английским писателем, который использовал роман для сознательной и последовательной критики общества, то Шарлотта Бронте первая превратила его в средство самораскрытия и самоанализа личности. Сказанное, безусловно, не означает, что на страницах ее книг не найти социально-обличительных образов, которые так удавались английским реалистам, – бездушных педагогов, тупых чиновников, расчетливых предпринимателей, картин нищеты и бесправия. А ловудская школа в «Джейн Эйр» превратилась в такой же символ порочного образования, жестоких, бесчеловечных порядков, как Дотбойс-холл в «Николасе Никльби» Диккенса. Но все же самой сильной и самой оригинальной стороной дарования Шарлотты Бронте было изображение внутреннего мира человека. По своей сути все романы Шарлотты Бронте – это растянувшаяся автобиография, в которой герои и героини вскрывают чувства, переживания самой их создательницы. По мере того как крепла рука Шарлотты Бронте, все убедительнее, все «ближе к жизни» становился рассказ об этом пылающем, мятущемся сердце. Трудно сказать, каким был бы ее новый роман о бедах и тревогах юной Эммы, если бы смерть не прервала работу над ним. Может быть, она задумала помериться силами с писательницей, которую не слишком жаловала, – Джейн Остин? Ведь вряд ли это случайность, что героиню незавершенного романа Шарлотты Бронте зовут, как и знаменитую героиню Остин, Эмма? Впрочем, творческие отношения этих писательниц заслуживают отдельного рассказа.
В середине сороковых годов завязалась переписка между Шарлоттой Бронте и видным английским критиком, будущим теоретиком английского натурализма Генри Льюисом. Восхищенный «Джейн Эйр», он направил Шарлотте Бронте письмо, где, наряду с самыми искренними и высокими похвалами, содержались и критические соображения: Льюис советовал Шарлотте Бронте «остерегаться мелодраматизма и держаться правды». Шарлотте Бронте был неизвестен ее корреспондент. Кто он, она узнала у своего издателя Джорджа Смита уже после того, как отправила ответ. Этот ответ стоит привести: в нем интересны не только мысли Шарлотты Бронте о «правде» в искусстве, интересно и то, как в этих строках проявилась ее личность.
«Вы советуете мне, – писала Шарлотта Бронте, – придерживаться только личного опыта, считая, что я пишу хуже, как только отклоняюсь от него, отдаваясь воле вымысла. Вы говорите: „Подлинный опыт интересен, притом интересен решительно всем“. Может быть, вы и правы. Но разве личный опыт любого из нас не ограничен? И разве автор, опираясь только на свой личный опыт, не рискует повториться и в конце концов стать эгоцентричным? И еще. Наше воображение – великий дар, настоятельно требующий выражения. Неужели мы не должны повиноваться его голосу, когда оно столь красноречиво и громко диктует нам, неужели мы не должны повиноваться его требованиям?»
В другой раз Генри Льюис посоветовал Шарлотте Бронте следовать Джейн Остин и тщательнее «отрабатывать образы», «быть более сдержанной». И на эти поучения он получил гневную отповедь: «Недоумеваю, почему Вам так нравится Джейн Остин. Что побудило Вас писать, что Вы предпочли бы стать автором „Гордости и предубеждения“, а не автором „Томаса Джонса“ или романов Скотта?.. Я прочла „Гордость и предубеждение“, и что я нашла там? Точное воспроизведение обыденных лиц, ухоженные сады с подметенными дорожками и нежными цветами. Но ни одного яркого образа! Ни одного дикого ландшафта. Там нет свежего воздуха, голубых, суровых скал. Мне не хотелось бы жить среди этих дам в их элегантных, но огражденных от жизни домах… Вы советуете мне запомнить, что Остин не поэтесса, не обладает ни „чувством“, ни красноречием, и предлагаете „научиться признавать в ней величайшего художника, величайшего создателя человеческих характеров“… Но может ли быть великий художник глух к поэзии? Если Остин, как Вы говорите, лишена поэзии, то она, возможно, разумна, реалистична, может быть, более реалистична, чем правдива, но великой она быть не может». Переведя эти суждения и оценки из плана эмоционального в план теоретический, можно сказать, что Шарлотта Бронте отстаивала право писателя на преувеличения, предпочитала власти реальности власть воображения. По этой логике она, конечно, должна была бы предпочесть Диккенса Теккерею, но в действительности все оказалось наоборот. Не Диккенса, но Теккерея она считала первым английским писателем, его портрет висел в ее доме в Хоуорте; ему, как уже говорилось, она посвятила второе издание «Джейн Эйр». Ее привлекали интеллектуальность прозы Теккерея, сдержанность, которую он проявлял в изображении чувства, лаконичность и точность стиля. Иными словами, ее влекли черты, которые у нее самой как у художника отсутствовали. Конечно, во всем этом есть парадокс: не любила Остин, но боготворила Теккерея, хотя Остин и Теккерей очень близки. Объективно была ближе к Диккенсу, его школе, субъективно ощущала себя ученицей Теккерея. Парадоксы иногда, оттого что они парадоксы, лучше помогают увидеть суть явления. И может быть, не столь нелепо утверждение, что психологическая проза, мастером которой был зрелый Теккерей, автор «Ньюкомов», «Виргинцев», немалым обязана романтику – Шарлотте Бронте. Наверное, романтическое начало «раскрепостило» Шарлотту Бронте и «помогло» ей изобразить в романах бурную, а подчас и излишне откровенную, как полагали некоторые блюстители морали ее времени, жизнь сердца.
Хотя Шарлотта Бронте в запале и возражала Генри Льюису, призывавшему ее основываться на собственном опыте при создании образов, на практике, возможно не отдавая себе в этом отчета, она следовала его советам. Опыт несчастливого, трудного детства в доме матери, в школе, где было не только голодно и холодно, но и по-настоящему страшно, где у нее на глазах гибли сестры и близкие подруги, позволил Шарлотте Бронте создать убедительные, волнующие в своей правдивости образы детей. И, даже раскрывая такую романтическую тему, как любовь, страсть, она если сама не шла по пути реалистической эстетики, то уже наметила путь для будущих художников-реалистов. Вот что писала последовательница Генри Льюиса Джордж Элиот о Шарлотте Бронте, которой, по ее собственным словам, была многим обязана: «Я только что вернулась к реальному миру, меня окружающему. Читала „Городок“ – еще более удивительную книгу, чем „Джейн Эйр“. Сила ее почти сверхъестественная».
Творчество Шарлотты Бронте – это и образец того, что может произойти с романтизмом, когда он должен существовать на пуританской почве. Ей, дочери сельского пастора, претила яркая, ослепительная красота. Возможно, поэтому все ее писаные красавицы – Бланш Ингрэм, Джорджиана Рид, Джиневра Фэншоу – лишены сердца. Ей ближе и понятнее внешняя невзрачность, которая скрывает красоту души, и ее настоящие героини – гувернантки, учительницы – обитают в самых что ни на есть неромантических слоях общества. С другой стороны, морализаторский дух тоже оказался усилен именно романтизмом, с его приверженностью к контрастам, противопоставлениям. По природе своего нравственного чувства Шарлотта Бронте дидактик: каждый характер, каждый жизненный эпизод, каждый поступок, важный или малозначительный, видится ею как арена борьбы греха и добродетели. Она – эдакая Жанна д’Арк, презирающая авторитеты, не боящаяся косых взглядов великосветских дам, смело пеняющая самому Теккерею, который, с ее точки зрения, слишком светский, слишком суетный и тщеславный.
«Помню трепетное, хрупкое создание, маленькую ладонь, большие честные глаза. Пожалуй, главной чертой ее характера была пылкая честность. Помнится, она дважды призвала меня к ответу за то, в чем усмотрела отступление от принципов… Хоть лондонская жизнь была ей внове, она вошла в нее, ничуть не поступившись своим независимым, неукротимым духом, она творила суд над современниками, с особой чуткостью улавливая в них заносчивость и фальшь. Она мне показалась очень чистым, возвышенным и благородным человеком. В ее душе всегда жило великое, святое уважение к правде и справедливости».
Такой Шарлотта Бронте запомнилась Теккерею, и такой замечательный в своей правде, искренности и щемящей грусти образ писательницы он нарисовал на страницах «Последнего очерка» – по сути дела, некролога, который он написал на смерть автора «Джейн Эйр», потрясенный ее ранней, такой безжалостной кончиной.
Может быть, о Шарлотте Бронте думал Л. Н. Толстой, когда писал: «В художественном произведении главное душа автора… Женщина нет-нет да и прорвется, выскажет самое тайное души, оно-то и нужно. Женщина не умеет скрывать, а мужчина выучится литературным приемам, и его уж не увидишь из-за его манеры».
Е. Гениева
Глава I. Левиты[1]
За последние годы на севере Англии появилось великое множество младших священников; особенно посчастливилось нашей гористой местности: теперь почти у каждого приходского священника есть один помощник, а то и больше. Надо полагать, что они сделают немало добра, ибо они молоды и энергичны. Но мы собираемся вести повествование не о последних годах, мы обратимся к началу нашего столетия; последние годы подернуты серым налетом, выжжены солнцем и бесплодны; забудем же о знойном полудне, погрузимся в сладостное забытье, в легкую дремоту и в сновидениях увидим рассвет.
Читатель, если по этому вступлению ты предполагаешь, что перед тобой развернется романтическое повествование, – ты ошибаешься. Ты ждешь поэзии и лирических раздумий? Мелодрамы, пылких чувств и сильных страстей? Не рассчитывай увидеть так много, тебе придется довольствоваться кое-чем более скромным. Перед тобой предстанет простая будничная жизнь во всей ее неприкрашенной правде, нечто столь же далекое от романтики, как понедельник, когда труженик просыпается с мыслью, что нужно скорее вставать и приниматься за работу. Возможно, в середине или в конце обеда тебе подадут что-нибудь повкуснее, но первое блюдо будет настолько постным, что и католик – и даже англо-католик – не согрешил бы, отведав его в Страстную пятницу: холодная чечевица с уксусом без масла, пресный хлеб с горькими травами и ни куска жареной баранины.
Итак, за последние годы север Англии наводнили младшие священники, но в тысяча восемьсот одиннадцатом или двенадцатом году такого наплыва не было: младших священников тогда насчитывалось немного; не было еще ни приходской кассы вспомоществования, ни благотворительных обществ, способных позаботиться об одряхлевших приходских священниках и предоставить им возможность нанять молодого деятельного собрата, только что окончившего Оксфорд или Кембридж. Нынешних преемников апостолов, учеников доктора Пьюзи[2] и членов коллегии миссионеров, в те дни еще пестовали под теплыми одеяльцами и няни подвергали их животворному обряду омовения в умывальном тазу. Увидев их тогда, вы не подумали бы, что накрахмаленная пышная оборка чепчика обрамляет чело будущего носителя духовного сана, предопределенного свыше преемника св. Павла, св. Петра или св. Иоанна. И вы бы, уж конечно, не разглядели в складках их детских ночных рубашонок белый стихарь, в котором им предстояло впоследствии сурово наставлять своих прихожан и повергать в полное изумление старомодного священника, – этот стихарь так бурно колыхался теперь над кафедрой, тогда как прежде он лишь чуть шевелился внизу.
Однако и в те скудные времена помощники священников все же существовали, но лишь кое-где, как редкостные растения. Впрочем, один благословенный округ Йоркширского графства мог похвастать тремя такими жезлами Аарона[3], которые цвели пышным цветом на небольшой площади в каких-нибудь двадцать квадратных миль. Сейчас ты их увидишь, читатель. Войди в уютный домик на окраине города Уинбери и загляни в маленькую комнатку, – вот они обедают. Позволь тебе их представить: мистер Донн, помощник священника из Уинбери; мистер Мелоун, помощник священника из Брайерфилда; мистер Суитинг, помощник священника из Наннли. Владелец этого домика – некий Джон Гейл, небогатый суконщик, у которого квартирует мистер Донн, любезно пригласивший сегодня своих собратьев отобедать у него. Подсядем к ним и мы, посмотрим на них, послушаем их беседу. Сейчас они поглощены обедом; а мы тем временем немного посудачим.
Джентльмены эти в расцвете молодости; от них веет силой этого счастливого возраста, силой, которую старые унылые священники пытаются направить на стезю христианского долга, убеждая своих молодых помощников почаще навещать больных и усердно надзирать за приходскими школами. Но молодым левитам такие скучные дела не по душе: они предпочитают расточать свою кипучую энергию в особой деятельности, – казалось бы, столь же утомительно однообразной, как труд ткача, но доставляющей им немало радости, немало приятных минут. Я имею в виду их непрерывное хождение в гости друг к другу, какой-то замкнутый круг или, вернее, треугольник визитов, в любое время года: и зимой, и весной, и летом, и осенью. Во всякую погоду, не страшась ни снега, ни града, ни ветра, ни дождя, ни слякоти, ни пыли, они с непостижимым рвением ходят один к другому то пообедать, то выпить чаю, то поужинать. Что влечет их друг к другу, трудно сказать; во всяком случае, не дружеские чувства – их встречи обычно кончаются ссорой; не религия – о ней они никогда не говорят; вопросы богословия еще изредка занимают их умы, но они никогда не касаются благочестия; и не чревоугодие – каждый из них и у себя дома мог бы съесть столь же добрый кусок мяса, такой же пудинг, столь же поджаристые гренки, выпить столь же крепкого чаю. По мнению миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уипп – квартирных хозяек, – «это делается только для того, чтобы доставить людям побольше хлопот». Под «людьми» эти дамы подразумевают, конечно, себя, да и нельзя не согласиться, что постоянные нашествия гостей хлопот доставляют немало.
Как уже было упомянуто, мистер Донн и его гости сидят за обедом; миссис Гейл им прислуживает, но в глазах у нее сверкает отблеск жаркого кухонного огня. Она находит, что за последнее время ее жилец злоупотребляет своим правом приглашать к столу друзей без дополнительной оплаты, о чем была договоренность при найме квартиры. Сегодня еще только четверг, однако уже в понедельник к завтраку явился мистер Мелоун, помощник священника из Брайерфилда, и остался к обеду; во вторник тот же мистер Мелоун вместе с мистером Суитингом из Наннли зашли выпить по чашке чаю, потом остались ужинать и переночевали на запасных кроватях, а в среду утром соизволили и позавтракать; и вот нынче, в четверг, оба они снова тут как тут! Обедают, да наверняка еще и проторчат целый вечер. «C’en est trop»[4], – сказала бы она, если бы говорила по-французски.
Мистер Суитинг мелко режет ростбиф и жалуется, что он жесткий как подошва; мистер Донн сетует на слабое пиво. Вот это хуже всего! Будь они учтивы, хозяйке было бы не так обидно; если бы ее угощение пришлось им по вкусу, она бы им многое простила, но «молодые священники слишком уж заносятся и на всех смотрят сверху вниз; они дают ей понять, что она им не ровня», и позволяют себе дерзить ей только потому, что она не держит служанки и ведет хозяйство сама, по примеру своей покойной матери; вдобавок они постоянно бранят йоркширские обычаи и йоркширцев, а это, по мнению миссис Гейл, говорит о том, что они не настоящие джентльмены, во всяком случае, не благородного происхождения. «Разве сравнишь этих юнцов со старыми священниками! Те умеют себя держать и одинаково обходительны с людьми всякого звания».
«Хле-ба!» – крикнул мистер Мелоун, и его выговор, хотя он и произнес всего лишь двусложное слово, тут же выдал уроженца края трилистника и картофеля[5]. Этот священник особенно неприятен хозяйке, однако он внушает ей трепет – так он велик ростом и широк в кости! По всему его обличью сразу видно, что это истый ирландец, хотя и не «милезианского»[6] типа, подобно Даниелю О’Коннелу[7]; его скуластое, словно у североамериканского индейца, лицо характерно лишь для известного слоя мелкопоместных ирландских дворян, у которых на лицах застыло высокомерно-презрительное выражение, более подобающее рабовладельцам, чем помещикам, имеющим дело со свободными крестьянами. Отец Мелоуна считал себя джентльменом; почти нищий, кругом в долгах, а надменности хоть отбавляй; таков же и его отпрыск.
Миссис Гейл поставила хлеб на стол.
– Нарежь его, женщина, – приказал гость.
И «женщина» повиновалась. Дай она себе в эту минуту волю, она, кажется, заодно отрезала бы и голову священнику; такой повелительный тон возмутил до глубины души гордую уроженку Йоркшира.
Священники, обладая изрядным аппетитом, съели изрядное количество «жесткого как подошва» жаркого и поглотили немало «слабого» пива; йоркширский пудинг и две миски овощей были уничтожены мгновенно, как листва, на которую налетела саранча; сыру также было воздано должное, а сладкий пирог вмиг исчез бесследно, как видение! И только на кухне ему была пропета отходная Авраамом, сыном и наследником миссис Гейл, малышом шести лет; он рассчитывал, что и ему кое-что перепадет, и при виде пустого блюда в руках матери отчаянно заревел.
Тем временем священники потягивали вино, правда, без особого удовольствия, ибо оно не отличалось высоким качеством. Что и говорить, Мелоун попросту предпочел бы виски, но Донн как истый англичанин не держал у себя такого напитка. Потягивая портвейн, они спорили; спорили не о политике, не о философии, не о литературе – эти темы никогда их не интересовали – и даже не о богословии, практическом или догматическом; нет, они обсуждали незначительные частности церковного устава, мелочи, которые всем, кроме них самих, показались бы пустыми, как мыльные пузыри. Мистер Мелоун ухитрился осушить два стакана, в то время как его друзья выпили по одному, и настроение его заметно поднималось: он развеселился на свой лад – стал держать себя вызывающе, заносчивым тоном говорил дерзости и покатывался со смеху от собственного остроумия.
Каждый из сотрапезников по очереди становился мишенью для его острот. У Мелоуна всегда был наготове запас плоских шуточек, которыми он угощал своих приятелей при дружеских встречах, не пытаясь быть разнообразным; это и не требовалось, ибо сам он не находил себя скучным, а о том, что думают другие, нимало не заботился. Он высказался насчет чрезмерной худобы и вздернутого носа мистера Донна, поехидничал, критикуя некий весьма потертый шоколадно-коричневый сюртук, к которому сей джентльмен питал особое пристрастие во всех случаях жизни и при любой погоде, посмеялся над выговором приятеля и вульгарными словечками, которыми тот пересыпал свою речь, что, безусловно, придавало ей своеобразное «изящество» и колоритность.
Суитинга он попрекнул тщедушным видом, – тот рядом с верзилой Мелоуном и в самом деле казался чуть ли не ребенком, – посмеялся над его музыкальными талантами, ибо Суитинг играл на флейте и пел гимны ангельским голосом (по мнению некоторых его юных прихожанок), назвал его «дамским угодником» и в довершение всего принялся ехидничать насчет нежной привязанности юноши к матушке и сестрицам, о которых тот имел неосторожность говорить в присутствии ирландца, чье черствое сердце начисто лишено было родственных чувств.
Жертвы воспринимали его нападки каждый по-своему: Донн противопоставлял им броню самодовольной тупости и невозмутимой важности, заменявшей ему чувство собственного достоинства; Суитинг – равнодушие покладистого, веселого юнца, который о поддержании достоинства вовсе не заботился.
Но когда насмешки стали чересчур колкими, жертвы объединились и попытались отплатить обидчику той же монетой. Они полюбопытствовали, сколько мальчишек кричали ему сегодня вслед: «Питер-ирландец!» (Мелоуна звали Питер – преподобный Питер Огест Мелоун); поинтересовались, не из Ирландии ли идет странный обычай – навещать своих прихожан с заряженными пистолетами в карманах и с дубинкой в руках; предложили разъяснить им значение слов: покр-ров, твер-рдость, р-руль, гр-роза (так, раскатывая «р», произносил их мистер Мелоун), – словом, пускали в ход все свое природное остроумие, чтобы побольнее его уколоть.
Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Мелоун, не отличавшийся ни благодушием, ни спокойным нравом, вышел из себя. Он кричал, размахивая руками, а Донн и Суитинг хохотали. Он вопил, что они саксы и снобы, и его пронзительный кельтский голос звенел на самых высоких нотах; они в ответ напоминали ему, что он уроженец завоеванной страны. От имени своей «р-родины» он грозил им восстанием, изливал накипевшую в нем ненависть к господству Англии; они тыкали ему в глаза лохмотья, нищету, болезни его родной Ирландии. В маленькой гостиной поднялся невообразимый шум. Казалось, такая ядовитая перебранка неминуемо должна закончиться дракой. Было удивительно, что хозяева не пугаются, не посылают за констеблем для водворения порядка; но они уже привыкли к подобного рода бурным спорам, знали, что у священников ни обед, ни чай не обходились без состязаний в красноречии и что это ничем не грозит; знали также, что от их ссор больше шума, чем вреда, и что в каких бы отношениях ни расстались друзья сегодня вечером, завтра утром они встретятся как ни в чем не бывало.
Итак, почтенные супруги сидели у кухонного очага, прислушиваясь к громким ударам кулака Мелоуна по обеденному столу красного дерева, к звону подскакивающих стаканов и графина, к насмешливому хохоту двух союзников-англичан и несвязным выкрикам их одинокого противника-ирландца, как вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги и настойчиво застучал дверной молоток.
Мистер Гейл пошел отворять.
– Кто это у вас шумит наверху? – властно спросил чей-то гнусавый голос.
– Никак это мистер Хелстоун? В темноте я вас не сразу и разглядел… теперь так рано темнеет. Милости просим, сэр, входите.
– Сначала мне нужно знать, стоит ли входить. Кто у вас там?
– Молодые священники, сэр.
– Как, все трое?
– Да, сэр.
– Обедали здесь?
– Да, сэр.
– Отлично.
С этими словами в дом вошел пожилой мужчина, весь в черном. Он пересек кухню, отворил внутреннюю дверь и, подняв голову, прислушался. Да и было что послушать – спорщики, как нарочно, шумели пуще прежнего.
Посетитель буркнул что-то себе под нос; затем, обратясь к мистеру Гейлу, спросил:
– И часто они у вас этак развлекаются?
Мистер Гейл, бывший церковный староста, всегда проявлял снисходительность к особам духовного звания.
– Молоды еще, сэр, сами знаете, – сказал он примирительно.
– Молоды! Проучить их надо! Негодники, бездельники! Ведь если бы вы были диссидентом[8], а не добрым сыном Англиканской церкви, они бы все равно вели себя так же, они бы себя позорили… но уж я…
Не закончив фразы, он вышел из кухни, затворив за собой дверь, и поднялся по лестнице. На верхней площадке он снова остановился и послушал. Затем без стука распахнул дверь комнаты и остановился на пороге.
Все трое смолкли, оторопело уставясь на него; нежданный гость тоже замер на месте. Это был человек невысокого роста, но с очень прямым станом и широкими плечами, а его маленькая головка с острыми глазами и крючковатым носом делала его похожим на ястреба; не сочтя нужным снять или хоть приподнять свою широкополую шляпу, он скрестил руки на груди и, не двигаясь с места, спокойно, свысока разглядывал своих молодых приятелей, если только это были его приятели.
– Что я слышу! – начал он, произнося слова уже не гнусавым, а глубоким раскатистым голосом. – Что я слышу? Уж не повторилось ли чудо Духова дня? Уж не снизошли ли с небес разделяющиеся языки? Но где они? Только что этот шум наполнял весь дом. Я различил семнадцать наречий сразу: парфяне, и мидяне, и еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне – все они, по-видимому, были здесь, в этой комнате, две минуты тому назад.
– Извините, мистер Хелстоун! – начал Донн. – Не присядете ли вы, сэр, не налить ли вам вина?
На это учтивое предложение ответа не последовало; ястреб в черном одеянии продолжал:
– Что я толкую о даре языков! Дар, как бы не так! Я перепутал главы, и книги, и Заветы! Новый Завет с Ветхим, Деяния апостолов с книгой Бытия, Иерусалим с долиной Сенаар. Нет, тот шум, что буквально оглушил меня, это не дар языков, а вавилонское столпотворение. Это вы-то апостолы? Вы трое? Разумеется, нет. Три самонадеянных вавилонских каменщика – вот вы кто!
– Уверяю вас, сэр, мы просто болтали за стаканом вина после дружеской трапезы. Ну и взялись разносить диссидентов…
– Диссидентов, вот оно что! И Мелоун тоже разносил диссидентов? А мне-то показалось, что он разносит своих собратьев. Вы просто ругали друг друга. И вы трое шумели ничуть не меньше, чем наш портной Моисей Барраклу вкупе со своими слушателями, когда они войдут в раж в методистской молельне. А ведь, наверное, все из-за тебя, Мелоун?
– Из-за меня? Что вы, сэр!
– Конечно из-за тебя. До твоего приезда и Донн, и Суитинг вели себя смирно, и опять присмиреют, если ты уедешь. Тебе бы следовало, отправляясь к нам, оставить свои ирландские привычки по ту сторону пролива[9]; быть может, там, среди болот и в диких горах Коннота[10], повадки дублинского студента сходят священнику с рук, но здесь, в благопристойном английском приходе, они неуместны. Вы все позорите и самих себя, и, что еще хуже, церковь, скромными служителями которой вы являетесь.
В обращении маленького пожилого джентльмена с молодыми священниками, в том, как он их отчитывал, сквозила известная властность, – может быть, и неуместная при данных обстоятельствах. Мистер Хелстоун, прямой, как шест, с острым взглядом ястреба, несмотря на свою одежду – черный сюртук, широкополую шляпу и гетры, – больше походил на старого служаку-офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, увещевающего своих духовных сынов. Евангельская доброта, апостольская кротость не наложили своего отпечатка на это смуглое энергичное лицо; его изваяла твердость, раздумье проложило на нем свои борозды.
– Мне только что повстречался Сапплхью, – продолжал он. – Невзирая на ненастье и поздний час, он брел по болотам читать проповедь сектантской общине Милдина. Как я уже упоминал, я слышал Барраклу, проповедовавшего в сектантской молельне, и голос его напоминал рев разъяренного быка; а вас, джентльмены, я застаю в полном бездействии, вы прохлаждаетесь за полпинтой дрянного портвейна и пререкаетесь, подобно сварливым кумушкам. И неудивительно, что Сапплхью за один день смог окрестить шестнадцать новообращенных взрослых, как это случилось две недели тому назад, или что негодяй и лицемер Барраклу сумел привлечь в свою молельню всех этих девушек-ткачих, явившихся в уборе из лент и цветов, чтобы убедиться, насколько его пальцы тверже края деревянной купели. Стоит лишь предоставить вас самим себе – и вы частенько служите в пустой церкви и произносите свои сухие проповеди лишь для причетника, органиста и церковного сторожа. Но довольно об этом. Сейчас мне нужен Мелоун. У меня к тебе дело, вояка!
– Какое? – недовольно спросил Мелоун. – Для похорон как будто поздновато…
– Ты сейчас вооружен?
– Конечно! Я всегда вооружен… – И он вытянул свои могучие руки и ноги.
– Не шути! Я говорю о настоящем оружии!
– Я всегда ношу при себе пистолеты, которые вы мне дали; даже ночью они лежат наготове у моей постели. Есть у меня и палка.
– Отлично. Можешь ты сейчас отправиться на фабрику Мура?
– А что там стряслось?
– Пока ничего, да, может, ничего и не будет, но Мур там совсем один. Всех надежных рабочих он послал в Стилбро, а с ним остались только две женщины. Узнай его «дружки», что путь свободен, они не преминули бы его навестить.
– Но и я не принадлежу к числу его друзей, сэр; что он мне?
– Ого, Мелоун, ты трусишь?
– Вы, конечно, шутите. Если бы я мог предположить, что там и вправду завяжется потасовка, я бы пошел. Но ради удовольствия провести вечер в обществе Мура – нелюдимого, странного и чуждого мне человека – я не сделаю и шагу.
– Потасовка может вспыхнуть. Конечно, настоящего бунта не будет, но вряд ли эта ночь пройдет спокойно. Ты ведь знаешь, что Мур решил во что бы то ни стало установить новые машины и сегодня вечером ждет из Стилбро два фургона с ткацкими и стригальными станками. Старший мастер Скотт и несколько надежных людей уже отправились за ними.
– Они доставят их в целости и сохранности, сэр.
– Мур тоже в этом уверен и считает, что никто ему не нужен. И все-таки на всякий случай не мешает кому-нибудь быть поблизости, хотя бы в качестве свидетеля. Мур слишком неосторожен: не закрывает ставен в конторе, поздно вечером бродит совсем один по склону лощины или среди кустов возле поместья Филдхед, словно он неуязвим, словно он у нас всеобщий любимец или заколдован от ненависти, которую сам снискал. Печальная судьба Пирсона и Армитеджа – в одного стреляли в его собственном доме, а в другого на пустоши – не служит ему предостережением!
– А не мешало бы ему вести себя поосмотрительнее: да он, наверное, и поостерегся бы, доведись ему услышать то, что я услышал на днях, – вмешался Суитинг.
– Что ты слышал, Дэви?
– Вы знаете Майка Хартли, сэр?
– Ткача-антиномиста? Ну конечно.
– Так вот, после продолжительного запоя Майк обычно ходит в Наннли, к мистеру Холлу, высказывает ему свое мнение о его проповедях, порицает за приверженность к доктрине добрых дел и заявляет ему, что как сам мистер Холл, так и все его прихожане пребывают во мраке кромешном.
– Все это так, но при чем здесь Мур?
– Этот Майк не только антиномист[11], сэр, но к тому же убежденный якобинец и левеллер[12].
– Это я знаю. Когда он основательно напьется, он только и думает что о цареубийствах. Майк довольно сведущ в истории, и любопытно послушать, как он перечисляет тиранов, которые «не ушли от кровавого возмездия». Он прямо-таки бредит убийствами коронованных особ и покушениями политического характера. Мне уже намекали, что у него какой-то странный интерес к Муру. Ты это имеешь в виду, Суитинг?
– Вы угадали, сэр. Мистер Холл думает, что у Майка нет личной ненависти к Муру; Майк и сам признает, что он не прочь с ним поговорить, только он вбил себе в голову, что участь Мура должна послужить уроком для других. Совсем недавно он отзывался о Муре с похвалой, как об умнейшем фабриканте Йоркшира, и доказывал, что поэтому-то Мура и следует избрать искупительной жертвой. Не кажется ли вам, сэр, что он сумасшедший, этот Хартли? – простодушно закончил Суитинг.
– Кто его знает, Дэви; может быть, сумасшедший, может быть, плут, а скорее всего – и то и другое.
– Он уверяет, что у него бывают видения.
– О да! Что касается видений, это второй Иезекииль или Даниил[13]. В прошлую пятницу он пришел ко мне, когда я уже собирался лечь спать, и поведал об одном видении, явившемся ему днем в наннлийском парке.
– Кого же он увидел, сэр? – снова спросил Суитинг.
– О, Дэви, на твоем черепе красуется большая шишка любопытства[14], а вот Мелоун, как видно, ее лишен: ни видения, ни убийства его не интересуют. Взгляни-ка на этого рослого, ко всему безучастного Сафа[15].
– Саф? А кто был Саф?
– Ну конечно же, я так и думал. Постарайся узнать это из Библии, – правда, мне и самому известно только его имя и колено, но его образ живо представляется мне еще с детского возраста. Мне кажется, он был честен, но неуклюж и несчастлив, этот Саф. Он погиб при городе Гоб от руки Сивхая.
– Ну а видение, сэр?
– Подожди, сейчас услышишь. Донн уже покусывает ногти, а Мелоун зевает, так что я расскажу это одному тебе. Майк сейчас, к несчастью, без работы, как и многие другие, и мистер Грейм, управляющий сэра Филиппа Наннли, поручил ему обнести поместье живой изгородью; и вот, рассказывал мне Майк, когда он работал однажды перед самыми сумерками, ему почудились звуки горна, флейты и трубы, словно далеко в лесной чаще играл оркестр; удивленный, он огляделся и увидел, что среди деревьев мелькают какие-то существа, красные, как мак, и белые, как яблоневый цвет; лес кишел ими; всё прибывая, они проникали в помещичий сад, и тут он понял, что это солдаты, тысячи и тысячи солдат, но шума от них было не больше, чем от мошек, роящихся летним вечером. В стройном порядке они промаршировали полк за полком по парку. Майк последовал за ними и дошел до общинного луга; издали все еще доносилась тихая музыка. На лугу солдаты начали перестраиваться, повинуясь команде человека в алом одеянии, стоявшего в самой середине. Строй растянулся на пространстве свыше пятидесяти акров; с полчаса Майк наблюдал за ними; затем они неслышно удалились; за все время он не уловил ни звука их голосов, ни поступи – ничего, кроме музыки – торжественного марша.
– Куда же они направились?
– К Брайерфилду; Майк пошел было за ними, но, когда они проходили мимо Филдхеда, столб серовато-синего дыма, словно от артиллерийского залпа, бесшумно разостлался над полями, дорогой и лугом и докатился до самых его ног. Когда дым рассеялся, Майк поглядел по сторонам, ища солдат, но их больше не было видно. Майк, как и подобает мудрому Даниилу, не только поведал нам о своем видении, но и дал ему толкование: по его мнению, оно предвещает кровопролитие и гражданские распри.
– И вы этому верите, сэр? – спросил Суитинг.
– А ты, Дэви?.. Однако, Мелоун, ты все еще здесь?
– Странно, сэр, что вы сами не остались у Мура. Такие вещи вам по душе.
– Я бы так и сделал, но, к сожалению, я пригласил Болтби поужинать со мной после заседания Библейского общества в Наннли. Я обещал Муру прислать тебя, за что, к слову сказать, он меня не поблагодарил, он предпочел бы мое общество. Но если что-нибудь случится, пусть ударят в фабричный колокол, и я поспешу к вам. Ступай же! А впрочем, – он повернулся к Суитингу и Донну, – не пожелают ли заменить тебя Дэви или Джозеф Донн? Что скажете, джентльмены? Поручение почетное, связанное с известным риском, – для вас не тайна, что в округе неспокойно, что население ненавидит и самого Мура, и его фабрику, и его машины. Я не сомневаюсь, что у вас в груди бьются сердца, полные рыцарских чувств и благородной отваги. Может быть, я слишком пристрастен к моему любимцу Питеру; пусть героем станет наш маленький Дэвид или наш непорочный Джозеф. А ты, Мелоун, оказывается, всего лишь огромный неуклюжий Саул[16], тебе остается только вручить свои доспехи более достойным: вынимай же свои пистолеты, подай сюда свою палку – вон она в углу.
С многозначительной усмешкой Мелоун вынул из кармана пистолеты и протянул их своим собратьям. Однако те не спешили завладеть ими; напротив, оба джентльмена с похвальной скромностью отступили на шаг.
– Я никогда не беру в руки оружия, – заявил Донн, – даже не прикасаюсь к нему.
– А я едва знаком с Муром, – пробормотал Суитинг.
– Если ты никогда не брал в руки оружия, не мешает коснуться его, чтобы знать, каково оно на ощупь, о великий сатрап Египта. Что же до нежного музыканта, он, по-видимому, намерен встретить филистимлян[17] с одной только флейтой в руках. Питер, подай им шляпы, они оба готовы отправиться в путь.
– Нет, сэр, нет, мистер Хелстоун, моя мать не одобрила бы этого, – жалобно произнес Суитинг.
– Я придерживаюсь правила никогда не вмешиваться в подобного рода дела, – заметил Донн.
По лицу Хелстоуна скользнула презрительная усмешка, а Мелоун раскатисто захохотал; он положил пистолеты в карман, взял шляпу и палку и, заявив, что «сегодня был бы не прочь ввязаться в хорошую потасовку и даже хотел бы, чтобы компания грязных сукновалов нагрянула этой ночью к Муру», вышел из комнаты, сбежал по лестнице, прыгая через две-три ступеньки, и захлопнул за собой дверь с такой силой, что весь дом содрогнулся.
Глава II. Фургоны
На дворе была непроглядная тьма; звезды и луна скрылись за свинцовыми тучами, – вернее, свинцово-серыми они выглядели днем, а теперь превратились в непроницаемо-черные. Но Мелоун вообще не склонен был предаваться созерцанию природы и обычно не замечал ее. Когда в переменчивый апрельский день случалось ему проходить по многу миль, он не видел милых шалостей неба и земли, не замечал, как солнечный луч целует вершины холмов и те благодарно улыбаются, окутанные зеленоватым сиянием, или как лохматая туча, прикрыв их вершины своими космами, орошает их слезами. Ему и в голову не приходило сравнивать небо этого ненастного вечера – окутанный тучами свод, непроглядно-черный, кроме того краешка на востоке, где печи чугунолитейных заводов Стилбро отбрасывали бледное, дрожащее зарево, – с безоблачным небосводом ясных морозных ночей. Он не задумывался над тем, куда же девались созвездия и планеты, не сожалел о том, что иссиня-черный воздушный океан, с рассыпанными по нему серебристыми островками, невидим сейчас, застланный другим океаном – стихией более плотной и тяжелой. Он следовал своим путем, чуть подавшись вперед и сдвинув шляпу на затылок по ирландскому обычаю. «Топ-топ», – раздавались его шаги по шоссе, там, где дорога могла похвастать таким названием; «шлеп-шлеп», – по хлюпким колеям и слякоти, когда кончался булыжник. Взгляд его искал только путеводные вехи – шпиль церкви Брайерфилда, потом огни трактира. Когда же он поравнялся с ним и увидел свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые занавеси, круглый, уставленный стаканами стол и компанию бражников на деревянных скамьях, он чуть было не поддался соблазну уклониться от своего пути. Мелоун с тоской подумал о стакане виски с водой; в другом месте он не замедлил бы удовлетворить свое желание, однако среди сотрапезников, пировавших на кухне, он заметил прихожан мистера Хелстоуна; все они его знали. И, тяжело вздохнув, он пошел дальше.
Вскоре Мелоун свернул с проезжей дороги и двинулся напрямик по ровным, пустынным полям, перепрыгивая кое-где через изгороди и плетни, что значительно сокращало расстояние до фабрики. На пути ему встретилось только одно здание, большое, казарменного типа, хоть и не совсем правильной формы: к высокой крыше, венчавшей длинный фасад, примыкала крыша пониже, с частым рядом дымовых труб; позади здания виднелись деревья. Весь дом тонул в темноте, ни одно окно не светилось; кругом царило безмолвие, слышно было только, как стекают струи дождя с карнизов да завывает ветер среди голых сучьев и труб.
В этом месте пологие поля обрывались крутым скатом: внизу лежала лощина, со дна которой доносилось журчание ручья. Невдалеке светился одинокий огонек, к нему-то и направился Мелоун.
Он подошел к невысокому домику, белевшему даже в густом мраке, и постучал в дверь; ему отворила румяная служанка; свеча, которую она держала в руке, осветила тесный коридор и узкую лестницу. Две двери, обитые темно-красным сукном, и красная ковровая дорожка на лестнице приятно оттеняли окрашенные в светлый тон стены и белизну пола; все здесь дышало свежестью и чистотой.
– Мистер Мур дома?
– Да, сэр, но здесь его нет.
– Нет? А где же он?
– На фабрике, в конторе.
Одна из дверей приотворилась, и женский голос спросил:
– Что там, Сара, – фургоны пришли?
И в дверях показалась женская головка. Возможно, то не была головка богини – этого нельзя было предположить хотя бы из-за папильоток над висками, но и головой Горгоны ее нельзя было бы назвать; однако Мелоун, очевидно, увидел в ней нечто устрашающее. При виде этой особы наш великан пугливо отпрянул и, пробормотав: «Я пойду к нему», в полном смятении, под дождем поспешил по дорожке вдоль живой изгороди, пересек темный двор и очутился перед черной громадой фабрики.
Рабочий день уже окончился, люди разошлись, машины бездействовали; дверь была заперта. Мелоун обошел вокруг здания; на длинном закоптелом фасаде он высмотрел щелочку света и забарабанил в одну из дверей. Щелкнул ключ, и дверь отворилась.
– Это ты, Джо Скотт? Ну как с фургонами?
– Нет, это я. Меня послал к вам мистер Хелстоун.
– А-а, мистер Мелоун! – В голосе говорившего прозвучало легкое разочарование. Мгновение спустя хозяин дома вымолвил учтиво, хотя и несколько суховато: – Входите, пожалуйста, мистер Мелоун. Мистер Хелстоун напрасно побеспокоил вас, я говорил ему, что в этом нет никакой надобности… да еще в такую погоду. Входите же.
Мелоун прошел за хозяином через темное помещение, в котором ничего нельзя было разглядеть, в ярко освещенную просторную комнату. В особенности светлой и веселой показалась она путнику, чьи глаза только что целый час напряженно всматривались в густой мрак ненастной ночи. Впрочем, только яркий огонь в камине да изящная лампа, разливавшая теплое сияние над столом, придавали некоторый уют этой совсем простой комнате. На дощатом полу не было ковра; три-четыре жестких стула, выкрашенные зеленой краской, словно перенесенные из фермерской кухни, конторка солидного, делового вида, упомянутый уже стол; на стенах, выкрашенных в серый цвет, чертежи строений и машин, планы разбивки садов – вот и вся обстановка.
Но какой бы ни была комната, она, очевидно, пришлась Мелоуну по вкусу. Сняв мокрый сюртук и шляпу, он пододвинул к камину один из неуклюжих стульев, уселся и протянул ноги к раскаленной докрасна каминной решетке.
– А вы тут уютно устроились, мистер Мур.
– Да. Но сестра была бы, наверное, рада вас повидать, – не пройти ли вам в дом?
– Ну что вы! Дамам лучше не мешать. Я ведь не дамский угодник. Не путаете ли вы меня, чего доброго, с моим другом Суитингом?
– Суитинг? Который же это? Тот, что в коричневом сюртуке, или другой, такой маленький?
– Маленький, тот, что в Наннли; поклонник всех девиц Сайкс, влюбленный во всех шестерых сразу, ха-ха!
– Мне кажется, всегда безопаснее увлекаться несколькими сразу, чем одной.
– Но он и влюблен в одну из них особенно сильно; мы с Донном однажды выпытали у него, кто его избранница в этом цветнике, и, как вы полагаете, кто?
– Дора, конечно, или Гарриет, – ответил Мур, усмехнувшись своим мыслям.
– Ха-ха! Вы догадливы! Но почему вы так думаете?
– Они самые рослые и красивые среди сестер; Дора к тому же самая дородная; мистер Суитинг, напротив того, мал ростом и тщедушен; ну а всем известно, что противоположности сходятся.
– Вы правы: он влюблен именно в Дору. Однако надеяться ему не на что, как по-вашему?
– А что у него есть, помимо жалованья?
Вопрос этот привел Мелоуна в неописуемый восторг; минуты через три, насмеявшись вволю, он ответил:
– Что есть у Суитинга? У нашего Дэвида есть арфа или флейта, – впрочем, это все равно; у него есть часы накладного золота, такое же кольцо и такой же лорнет; вот и все, что есть у Суитинга.
– Да сможет ли он хотя бы одевать такую особу, как мисс Сайкс?
– Ха-ха! Это хорошо сказано! Не забуду спросить у него об этом при первой же встрече. Уж и подразню я его за самоуверенность! Но, вероятно, он рассчитывает, что Кристофер Сайкс даст за дочерью хорошее приданое? Он как будто богат? У них такой большой дом.
– Да, он ведет крупные дела.
– Значит, он в самом деле богат?
– Значит, он весь свой капитал вкладывает в эти дела. Для него сейчас изъять деньги из оборота, чтобы дать их в приданое за дочерьми, так же безрассудно, как мне, скажем, снести свой домик и возвести на его развалинах величественное здание вроде Филдхеда.
– А знаете ли вы, что я слыхал на днях?
– Нет; вероятно, что я и вправду замышляю что-нибудь в этом роде? Здешние жители способны на любую выдумку.
– Что вы собираетесь арендовать Филдхед – сейчас только проходил мимо этого мрачного места – и ввести туда хозяйкой одну из девиц Сайкс; короче говоря, что вы собираетесь жениться, ха-ха! Ну-с, докладывайте, кто же ваша избранница? Дора небось, – сами же сказали, что она красивее других.
– С той поры как я поселился в Брайерфилде, меня то и дело женят! В окрестностях, кажется, нет ни одной невесты, которую бы мне не сватали: то двух девиц Уинн – сначала черненькую, потом беленькую, то рыжую мисс Армитедж, то перезрелую Энн Пирсон. А теперь вы хотите обременить меня целым выводком девиц Сайкс. Откуда берутся эти толки – один Бог ведает. Я нигде не бываю, избегаю общества женщин столь же старательно, как и вы, мистер Мелоун; в Уинбери я езжу только затем, чтобы повидать Сайкса или Пирсона в их конторе, и говорим мы вовсе не о женитьбе, ибо головы наши полны забот, весьма далеких от сватовства и приданого. Сукно, которое некуда сбывать, рабочие руки, которые нечем занять, фабрики, которые приходится закрывать, неблагоприятное для нас стечение обстоятельств, которые мы бессильны изменить, – вот что действительно волнует нас… Где уж тут заниматься такими пустяками, как ухаживание за девушками.
– Я с вами согласен, Мур. Ничто так не противно мне, как брак; я подразумеваю пошлый, вульгарный брак, – брак только по сердечной склонности; двое нищих вступают в союз, скрепленный нелепыми узами любви, – какая чушь! Но выгодная партия, основанная на взаимном интересе и общности взглядов, – дело неплохое, как по-вашему?
– Пожалуй, – рассеянно отозвался Мур; тема эта, казалось, вовсе его не занимала.
Разговор оборвался. Некоторое время Мур сидел молча, с озабоченным видом глядя на пламя камина; вдруг он повернул голову и насторожился.
– Что это? – воскликнул он. – Вы слышали? Стук колес!
Встав с места, он подошел к окну, отворил его, прислушался и опять закрыл.
– Увы! Мне показалось, – заметил он. – Это только шум ветра или ручей, вздувшийся от ливня, стремительно бежит по лощине. Я ожидал фургоны к шести часам; теперь же скоро девять.
– Вы в самом деле боитесь, что установка новых машин может оказаться опасной? – спросил Мелоун. – Хелстоун, кажется, в этом уверен.
– Только бы станки были доставлены в целости и стояли у меня на фабрике, и никакие разрушители машин мне уже не страшны; а если они наведаются сюда – получат по заслугам. Моя фабрика – это моя крепость.
– Что и говорить, низкие негодяи, – произнес Мелоун как бы в глубоком раздумье. – Мне даже хочется, чтобы они пожаловали сюда сегодня ночью; однако на дороге, когда я шел, все было спокойно и я не заметил ничего подозрительного.
– Но ваш путь лежал мимо трактира?
– Да!
– Там-то все спокойно. Угроза со стороны Стилбро.
– Вы все-таки ждете нападения?
– Громили же других, могут напасть и на меня. Разница только в одном: я намерен защищать свое дело, фабрику и машины, а большинство фабрикантов скованы страхом. Взять хотя бы того же Сайкса: когда эти бандиты сожгли его склад, а сукна сорвали с сушилен, искромсали и бросили среди поля, Сайкс и пальцем не пошевелил, чтобы разыскать негодяев; он держался робко, как кролик в зубах у хорька. Нет, я не таков.
– Хелстоун говорит, что все это – ваши кумиры; вы считаете Приказы Совета[18] семью смертными грехами, Каслри – антихристом, а партию сторонников войны – его воинством.
– Ничего удивительного! Все эти Приказы разоряют меня; они создают препятствия на моем пути, не дают мне развернуть дело, разбивают все мои планы.
– Но вы же преуспеваете, вы богаты?
– Богат! Богат товаром, которому нет сбыта; загляните ко мне на склад, вы увидите, что он доверху завален грудами сукон. Рокс и Пирсон в таком же положении; Приказы Совета лишили нас нашего главного рынка – Америки.
У Мелоуна, казалось, не было охоты поддерживать такого рода беседу: он зевнул и начал постукивать каблуком о каблук.
– А при всем этом, – продолжал Мур (увлеченный своими мыслями, он не замечал, что гость его порядком скучает), – здесь, в Уинбери и в Брайерфилде, о тебе разносят нелепые слухи, без конца сватают тебе невест. Как будто в жизни и делать больше нечего, кроме как ухаживать за молодой девицей, потом повести ее к алтарю, совершить с ней свадебное путешествие и круг положенных визитов, а затем, очевидно, «плодиться и размножаться»… Oh, que le diable emporte[19]. – Он как-то сразу оборвал свою пылкую речь, затем добавил более спокойным тоном: – Впрочем, у женщин только и разговоров, только и дум что о браке; им невдомек, что мужчины заняты другим.
– Конечно. Да что нам до них, – отозвался Мелоун, он засвистел и огляделся вокруг, проявляя признаки нетерпения. На этот раз намек был понят хозяином.
– Мистер Мелоун, вам нужно подкрепиться после такой прогулки под дождем. Простите, что я столь негостеприимен.
– Нет, что вы! – возразил Мелоун.
Но по выражению его лица Мур понял, что угадал. Он поднялся и открыл шкаф.
– Я люблю, чтобы все необходимое было у меня под рукой, – сказал он. – Ни к чему на каждом шагу зависеть от женщин. Я часто провожу здесь вечер, ужинаю в одиночестве и ночую с Джо Скоттом на фабрике. Иногда я заменяю ночного сторожа: я мало сплю и не прочь тихой светлой ночью побродить с ружьем на плече часок-другой по лощине. Скажите, мистер Мелоун, сумеете ли вы поджарить баранью котлету?
– Еще бы… сотни раз проделывал это в колледже.