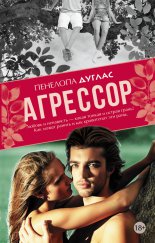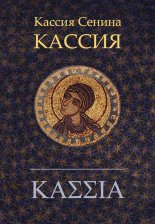Невинная кровь Джеймс Филлис

Опровергнуть выдумку было некому. Девять лет назад граф продал Пеннингтон, а сам сбежал на юг Франции, подальше от гнета налогов и притязаний бывших жен. В деревне из прежних слуг почти никого не осталось, а уж в особняке и подавно. Имение перешло к одному арабу и с тех пор было закрыто для широкой публики. Действительно, не подкопаешься. Мало того: девочке и не приходило в голову сомневаться. Россказни Хильды слишком хорошо вязались с ее личными грезами. Мы верим тому, чему желаем верить. Даже теперь какая-то часть ее разума упорно не хотела отрекаться от красиво сплетенной истории.
Филиппа с горечью произнесла:
– Не ожидала от тебя такой бурной фантазии. Тебе бы только присяжных в суде обманывать. Я-то думала: почему она увиливает от разговоров о моем прошлом? Наверно, не любит вспоминать Пеннингтон… А оказалось… Приятно было столько лет водить меня за нос, да? Хоть какое-то удовольствие от общения с ребенком, которого тебе навязали на шею!
– Неправда! – закричала приемная мать. – Я хотела тебя! Мы оба хотели! Когда я поняла, что не смогу родить Морису ребенка…
– Подумаешь! Как будто оргазм не сумела доставить. Если это все, ради чего он на тебе женился – а иначе для чего же еще? – то я вообще удивляюсь, как он прежде не потребовал справку от гинеколога…
Парадная дверь негромко стукнула.
– Твой отец! – с отчаянием, со слезами на глазах воскликнула Хильда, перепуганная, словно ждала домой пьяного мужа-громилу. – Морис вернулся!
И она метнулась к подножию лестницы, взывая:
– Морис! Морис! Иди сюда!
Шаги затихли, потом осторожно двинулись вниз. Мистер Пэлфри встал на пороге, вопросительно глядя на обеих.
– Она знает! – вскричала Хильда. – А я предупреждала! Филиппа раздобыла свидетельство о рождении. Она ходила на Банкрофт-Гарденс.
– И сколько тебе известно? – промолвил Морис.
– Разве мало того, что я дочь насильника и убийцы?
«Хорошо хоть, они не любят меня, – подумала девушка. – А то бы, чего доброго, принялись жалеть, полезли обниматься, утолили бы мою злость и обиду».
– Извини, Филиппа, – ровным голосом произнес отец. – Полагаю, рано или поздно этот день все равно настал бы.
– Ты должен был рассказать мне.
Пэлфри спокойно подвинул артишоки и положил портфель на стол.
– Даже если я соглашусь с тобой – а это не так, – нам просто не подворачивалась подходящая минута. Сама посуди, когда ты предпочла бы услышать правду? Сразу после удочерения? Пока привыкала к нашему дому? Пока боролась с подростковыми проблемами? Или когда сдавала экзамены? Десять лет пролетают очень быстро, особенно если у тебя сплошные детские кризисы. Бывают новости, с которыми лучше не спешить.
– Где она сейчас?
– Твоя мать? В Мелькум-Гранж, тюрьме открытого типа неподалеку от Йорка. Почти через месяц ее выпускают.
– И ты знал!..
– Разумеется, меня интересовало, когда эта женщина выйдет. Но и только. Я за нее не отвечаю. И не могу ничего для нее сделать.
– Зато я могу. Напишу, приглашу к себе. У меня накоплены деньги на поездку в Европу. Сниму квартиру в Лондоне, буду присматривать за матерью хотя бы месяца два, пока не отправлюсь в Кембридж.
Внезапные слова слетели с губ девушки помимо ее воли, однако мысль показалась Филиппе единственно правильной. Так она и поступит. Так она и собиралась поступить с той минуты, когда услышала, что мать жива. Сердце, конечно, подсказывало, что истерический жест породило не столько сострадание к неведомой родственнице, сколько злость на Мориса, беспомощность и запутанные, полуосознанные желания. Однако не время думать о причинах, подвигнувших ее на этот поступок, оправдывать собственный эгоизм.
Морис отвернулся и неожиданно жестко произнес:
– Опасная и глупая затея. Опасная для вас обеих. Ты ничем ей не обязана. В день удочерения она утратила все права на тебя. Эта женщина ничего не сможет тебе дать.
– При чем здесь обязательства? И ты ошибаешься. Я получу от нее то единственное, чего желаю. Знания. Информацию. Прошлое. Эта женщина, как ты выражаешься, поможет выяснить, кто я такая. Неужели не понятно? Она моя мать! От этого никуда не деться, как и от ее преступления. Не могу же я не искать встречи с мамой! Чего ты хочешь? Чтобы я все забыла? Будто ничего и не случилось? Сочинила себе новую сказочку? Вы с Хильдой довольно кормили меня баснями.
Хильда не то всхлипнула, не то фыркнула. Отец развернулся и медленно взял портфель со стола. Судя по виду и голосу, Мориса вдруг охватила усталость.
– Потолкуем после ужина. Досадно, что гости придут именно сегодня, но за какой-нибудь час мы от них отделаемся. Я же говорю, для подобных вестей вечно не хватает времени.
Филиппа наряжалась очень тщательно. Не ради каких-то там Клегорнов и Габриеля Ломаса, которого пригласили для ровного счета, но для себя самой выбрала она любимую вечернюю юбку из тонкой плиссированной шерсти и закрытую блузку бирюзового цвета. В такой одежде можно ощущать себя актрисой на сцене, кроме того, она не требует чересчур осторожного обращения и на ощупь очень приятна. Чего еще желать? Потом девушка старательно уложила волосы: расчесывала их, затянула тугим узлом на затылке и накрутила влажным пальцем две тонкие пряди у щек. Постояла, придирчиво изучая свою внешность в большом зеркале. «Вот как я себя вижу». Ну а другие?
Сердце на удивление ровно билось; продолговатое, худощавое лицо с резкими скулами сохраняло ясный медовый оттенок, а взгляд оставался безоблачным. Честно говоря, Филиппа почти ожидала, что зеркало закачается и поплывет перед глазами, словно изображение на волнах озера. Девушка протянула руку, и пальцы осторожно коснулись холодного стекла.
Потом Филиппа медленно прошлась, пытливо глядя вокруг, точно чужая. Когда-то здесь располагались два смежных чердака с низкими потолками, затем верхний этаж перестроили под ее комнату, которую Морис обставил целиком по вкусу приемной дочери. В отличие от остального дома тут была современная обстановка: ничего лишнего, сплошная легкость, простор и чувство парения. Окна с обеих сторон заливали пространство светом. Южное выходило на огороженный садик, на каменный внутренний двор и платаны, за ними пестрели бесчисленные крыши Пимлико… Вот за этим столом Филиппа учила уроки, готовилась поступать в Кембридж. А на этой кровати светлого дерева они с Габриелем на ощупь, извиваясь, впервые неудачно пытались заниматься любовью. Впрочем, какое нелепое выражение. Чем бы они там ни занимались, но только не любовью. Пару раз он сказал, сначала нежнее, потом уже сквозь зубы: «Не думай ты о себе. Хватит беспокоиться о своих чувствах. Отпусти себя на волю».
Именно этого она никогда не умела. Можно ли отпустить то, в чем до конца не уверен, то, чем, по сути, толком и не владеешь? Она боялась даже на миг утратить контроль над собственным «я».
Странно, что первое интимное фиаско не привело к отчуждению. Габриель подобно Филиппе не признавал поражений. Разочарованная, недовольная, когда все кончилось, она даже не пыталась притвориться из соображений целесообразности или великодушия. Поздновато, не ко времени вспомнилось предупреждение его сестры. Сара как-то раз изрекла холодно, почти со злорадством: «Видела розетки с переменным током? Вот и братишка у нас такой. В принципе мелочь, а все-таки знать не мешает. Прежде чем кофеварку врубать».
Надевая халат, Филиппа поинтересовалась:
– Чего тебя разобрало? Хотел доказать, что можешь и с девушками?
– А тебя? – огрызнулся парень. – Хотела доказать, что вообще можешь?
Хотя, если уж на то пошло, после кошмарного вечера молодой человек вел себя по-другому: нежнее, заботливее. Девушка в ответ отлично играла отведенную ей роль, подозревая, что вряд ли скроет от ухажера истинные причины своего поведения. Просто в списке нужных и красивых вещей, которые пригодятся в Кембридже, он занимал одну из верхних строчек. Разве будущей студентке помешает прихвастнуть в компании ровесников столь завидным приобретением, как богатый, остроумный, несравненный Габриель Ломас?
Комнату переделали, когда ей исполнилось двенадцать. Утро следующего дня – это была суббота – навсегда врезалось в память Филиппы, ибо научило ее важному жизненному уроку: за незаслуженное счастье тоже нужно платить. Она садилась за новый стол писать историческое эссе, когда Хильда поднялась вместе с прислугой, миссис Купер, чтобы та разделила ее восторги по поводу детской. Миссис Пэлфри посвящала ее во все домашние события, отчаянно притворяясь, что у них прекрасные отношения. А Купер неколебимо продолжала называть хозяйку «мадам», словно желала показать: мол, за десять шиллингов в час и бесплатный обед можно купить раболепие, но не дружбу. Она, конечно, поглазела вокруг и привычным бесстрастным тоном изрекла:
– Очень мило, мадам, это уж точно.
Зато, как только Хильда вышла из комнаты, служанка бросилась к девочке и, дохнув на нее какой-то кислятиной, прошипела:
– Подкидыш! Надеюсь, ты хоть скажешь им спасибо. Что же такое творится? Приличные дети ютятся по четверо чуть не в сарае, а ты, безродная, – в хоромах прохлаждаешься, когда твое место в детдоме! – И тут же, без паузы, любезным тоном окликнула хозяйку: – Я сейчас, мадам!
Потрясенную Филиппу охватила ярость. Она готова была взорваться, однако уже научилась держать себя в руках. Простые слова, как выяснилось, бьют больнее кулака, больнее истеричного визга.
– Нечего было столько рожать, раз не можете прокормить, – промолвила девочка ледяным голосом. – Желаю вашим детям всю жизнь просидеть в сарае, особенно если они похожи на вас.
В тот же день миссис Купер уволилась без объяснений, и Хильда записала на свой счет еще один провал.
Книжные полки. Филиппа провела рукой по многочисленным корешкам. Классическая библиотека семьи, живущей выше среднего достатка. С таким набором немудрено сдавать на пятерки литературу, а если повезет, и поступить в Кембридж. По этим томикам трудно было бы определить вкусы хозяйки, разве только понять, что Тургенева она предпочитает Толстому, Пруста – Флоберу, а Генри Джеймса – Диккенсу. Правда, здесь никто не нашел бы потрепанных обложек, любимых книжек детства, передаваемых из поколения в поколение, – все выглядели купленными специально для привилегированного ребенка.
Полки, уставленные знаниями, мудростью, мечтами, которых достаточно для целой жизни… Для какой жизни? Странное дело: Филиппа ни строчки, ни слова не написала на этих страницах, и все же именно к ним, к собранию чужих мыслей и переживаний, прибегает она в поисках своего «я».
«Даже наряжаясь, – подумала она, – мы надеваем себя же. Вот, например, нагая, в ванной, кто я есть? Тело можно взвесить, описать, измерить, изучить каждый физический процесс в отдельности, дать ему имя, настоящее или вымышленное, разложить жизнь по полочкам… А как же я-то? Ведь во мне ничего нет от Мориса или Хильды. Они тут ни при чем, они лишь предоставили подсказки для шарады: одежду, книги, творения искусства. И даже этот внутренний монолог – плод выдумки, не более. Какая-то часть меня, та, что однажды начнет писать книги, внимательно следит за мною же, подыскивающей нужные слова, выбирающей, что чувствовать и как себя вести».
Она распахнула дверцы стенного шкафа и с грохотом сдвинула вешалки. Платья и юбки заколыхались, донесся знакомый слабый аромат – должно быть, ее собственный. Филиппа любила дорогие наряды. Покупки она делала редко, но выбирала весьма старательно. Синтетике предпочитала шерсть и хлопок.
Она подошла к пробковой, угольного цвета, доске для записок, повешенной над столом. Пестрые открытки, купленные во время поездок или в художественных галереях, учебное расписание, газетные заметки о предстоящих выставках, aides-memoire[13], два приглашения на праздники. Филиппа присмотрелась к открыткам-репродукциям. Утонченный портрет Сесилии Герон[14] работы Ганса Гольбейна[15]; У. Б. Йитс[16] на гравюре Огастеса Джона[17]; обнаженная фигура кисти Ренуара из музея Же-де-Пом[18]; акватинта[19] Фарингтона[20] «Лондонский мост. Тысяча семьсот девяносто девятый год»; ну и картина Джорджа Брехта[21]. Какой капризный, причудливый выбор! Он ровным счетом ничего не говорил о вкусах хозяйки: обычный перечень галерей, в которых она побывала.
В этих самых стенах десять с лишним лет Филиппа сочиняла мифологию своего прошлого; и вот отживший, уличенный во лжи мир ускользает от нее. «А ведь по большому счету ничего не изменилось, – сказала себе девушка. – Я все та же, что и вчера. Да, но кем я была вчера?»
Комната напоминала творение дизайнера в мебельном магазине, где каждая вещь должна намекать на то, что ее никогда не существовавший, созданный фантазией автора владелец якобы с минуты на минуту вернется домой.
Перед глазами всплыло лицо Хильды, склонившейся, чтобы подоткнуть приемной дочери одеяло.
– Куда я деваюсь, когда сплю?
– Ты по-прежнему здесь, в своей кроватке.
– Почем ты знаешь?
– Потому что вижу тебя, глупенькая. И даже могу потрогать.
Хотя вот этого Хильда как раз не любила. Троица жила как бы в отдалении друг от друга, и вина лежала отнюдь не на миссис Пэлфри. По вечерам девочка застывала в постели, будто деревянная, и всегда уворачивалась от обязательного поцелуя. Филиппа не выносила прикосновения влажных губ, после которого Хильда непременно вытаскивала из-под простыни колючее одеяло и совала его приемной дочери под подбородок.
– Это ведь ты знаешь, где я. А я не могу потрогать себя во сне.
– Никто не может. И все-таки ты здесь, в постели.
– А если мне сделают операцию под наркозом? Где я буду тогда – не тело, а я сама?
– Спроси лучше папу.
– А когда умру?
– Попадешь к Иисусу на небеса, – восставала Хильда против атеистических воззрений мужа; впрочем, без особой убежденности.
Девушку снова потянуло к книжному шкафу. Если она и отыщет ответ, то лишь на этих полках. Вот и они, обложка к обложке, – первые экземпляры книг Мориса, подписанные его рукой на имя, навязанное приемной дочери против ее воли. Странно, что при такой трудоспособности ни один из университетов до сих пор не предложил ему кафедру. Возможно, прочие, кто разбирался в науке, чуяли в нем притворщика-дилетанта, не сумевшего полностью отдаться своему предмету. Или все гораздо проще? Их попросту раздражало и отталкивало резкое высокомерие некоторых его публичных заявлений? Студентов наверняка отталкивает. Однако свежие плоды интеллектуальных трудов обладали безупречным – по мнению критиков – стилем, довольно элегантным для социолога, и хотя бы частично объясняли Мориса. А заодно, как оказалось, и его приемную дочь. «Природа и воспитание: взаимодействие наследственности и среды в развитии языковых навыков», «Вредное окружение: социальный класс, язык и интеллект», «Гены и среда: влияние окружения на понятие неизменности объекта», «Обученные неудачниками: классовая бедность и образование в Великобритании». Пора бы ему прибавить еще кое-что: «Усыновление: социологическое исследование взаимодействия среды и наследственного фактора».
В конце концов, чтобы слегка успокоиться, Филиппа присела и долго любовалась самым дорогим, что у нее было: холстом Генри Уолтона[22], изображавшим преподобного Иосифа Скиннера вместе с семейством. Она лично выбрала себе этот подарок на восемнадцатый день рождения – за необыкновенную привлекательность и мастерство, а главное, за полное отсутствие налета сентиментальности, присущего более поздним работам великого мастера. Картина воплощала собой всю изысканность, порядок, уверенность и манеры ее любимой поры в английской истории. Преподобный Скиннер и трое его сыновей сидели верхом, супруга с двумя дочерьми – в коляске. Позади располагался их приличный, бесстрастный дом, а впереди тянулась подъездная аллея, тенистая лужайка, усаженная дубами. Вот уж кто вряд ли затруднялся с определением самих себя. Вытянутые лица Скиннеров, их носы с горбинкой не оставляли сомнений в чистоте родословной. И все же герои, запечатленные великой кистью, словно говорили девушке: «Мы жили, страдали, терпели, умерли. Тебе, как и нам, не уйти от общей доли».
Гарри Клегорну стукнуло сорок пять, и он уже начинал лысеть, однако по-прежнему сохранял за собой славу многообещающего политического деятеля. Филиппе он так напоминал успешного тори-заднескамеечника, что будущая карьера гостя казалась ей просто неизбежной. Рельефные мышцы, гладкая, смуглая кожа, иссиня-черные волосы – не крашеные ли? Влажный, чуть надутый рот; губы красные, словно обведены помадой. Оставалось только гадать, что связывало столь непохожих мужчин, кроме участия в одних и тех же телевизионных программах. Впрочем, разве требовалось еще что-нибудь? Всякая разница в происхождении, темпераменте, интересах, даже приверженность противоположным политическим философиям тут же блекла в ярких лучах студийных прожекторов, экран крепко спаивал своих избранников воедино.
Боевую раскраску Норы Клегорн немного скрадывали мягкие блики свечей. Лет этак в двадцать она, должно быть, кружила головы тем, кому по душе фарфоровая кукольная прелесть и кто не сумел распознать, что та слишком быстро увянет, ибо держится не на изящных пропорциях, а лишь на свежести юной кожи и бойкой косметике. Глупая женщина безумно гордилась своим супругом, однако это мало кого раздражало: было нечто подкупающе наивное в ее убеждении, что членство в палате общин и есть вершина человеческих устремлений. По своему обыкновению, ради неофициального ужина гостья разоделась в пух и прах. Безрукавка над пышной бархатной юбкой сверкала металлическими блестками. А запах этой дамы вызывал в воображении Филиппы образ мешка золотых монет, утонувшего в море духов.
Кстати, Габриель Ломас тоже вырядился не по случаю: он единственный из мужчин додумался надеть смокинг. По крайней мере молодой человек сознательно ошеломлял своим видом. Морису он явно нравился – не то вопреки, не то благодаря бурным восторгам по поводу проявлений крайне правого торизма. Это хотя бы отличало Габриеля от большинства студентов мистера Пэлфри. С другой стороны, девушку всегда удивлял чрезмерный интерес парня к ее отцу. Именно от Габриеля она услышала львиную долю того, что знала о Хелене. В памяти Филиппы, словно в архиве, хранились почти дословные записи всех интересующих ее разговоров. Например, обрывок такой беседы:
– Твой отец похож на всех богатых социалистов: в его душе прячется тори, которого он пытается загнать поглубже.
– Не думаю, что Морис подходит под твое описание, – возразила тогда девушка. – Тебя сбил с толку наш образ жизни. Особняк, почти вся мебель и картины унаследованы от первой жены. Папино происхождение безупречно с точки зрения товарищей. Он был почтовым инспектором, образцовым трудягой. Морис никогда не бунтовал, только приспосабливался.
– Взять за себя дочь графа – я бы не назвал такой поступок приспособленчеством. Правда, мы говорим о весьма своеобразном графе, можно сказать, белой вороне среди представителей этого класса, но по крайней мере династия и чистота породы вне подозрений. Хотя, конечно, зная леди Хелену, многие удивлялись их браку, пока спустя семь месяцев на свет не появилось дитя, единственный в своем роде недоношенный младенец восьми с половиной фунтов весом.
– Габриель, где ты нахватался таких подробностей?
– Пагубная привычка к мелочным сплетням. Это у меня с детства. Помню, как долгими вечерами в Кенсингтон-Гарденс я слушал няньку и ее дряхлых подружек. Расфуфыренная Сара едет в нашей семейной, видавшей виды коляске, я чинно шествую рядом… И мы все дружно наворачиваем круги вокруг старинного Круглого пруда. С ума сойдешь от тоски! Скажите спасибо, что ваши юные годы обошлись без этой отравы.
Ужин начался с артишоков и взаимного поддразнивания между Морисом и Габриелем, который прикинулся, что свято верит, будто бы последняя передача с участием лейбористов и группы молодых социалистов оказалась сорвана усилиями все тех же консерваторов.
– Ах, как невежливо. Впрочем, сомневаюсь, что лишнее выступление прибавило бы им новообращенных. И потом, если они собирались нагнать на кое-кого страху, то преуспели в своем намерении. На моей памяти даже молодые товарищи не потчевали слушателей настолько смехотворной смесью из нелепой философии, классовой нетерпимости и давно опорочившей себя экономической теории. И где, скажите на милость, они набрали актеров с такими гнусными рожами? Золотушные просто! Вот бы провести научное исследование на тему «Прыщавость и левые убеждения». Получился бы занятный проект для одного из ваших бывших студентов, сэр, вы не находите?
– А я думала, выступать будут лейбористы, – удивилась Нора.
Клегорн рассмеялся.
– Хотите добрый совет, Морис? Припрячьте куда-нибудь молодых товарищей хотя бы до конца выборов.
За столом разгоралась неизбежная политическая дискуссия. Филиппа давно заметила, что не может запомнить подобные беседы: в них либо мусолились доводы, уже высказанные на последних теледебатах, либо же отрабатывались реплики для будущих. Поэтому она перестала слушать наскучившие споры и перевела взгляд на Хильду.
Едва успев подрасти, девочка стала смотреть на приемную мать как на поношенное, но еще крепкое зимнее пальто, требующее основательной переделки, изменений, улучшений: то и дело мысленно накладывала на ее лицо макияж, как будто бы краска способна придать выражение тусклым, невыразительным чертам. Даже теперь Филиппа не могла спокойно видеть Хильду, не изменив в воображении ее прическу или стиль одежды. Примерно год назад, когда миссис Пэлфри потребовалось вечернее платье, она робко предложила девушке пройтись по магазинам вместе. Должно быть, надеялась на эдакий дамский заговор, легкомысленную вылазку, хотела поиграть в дочки-матери. Все закончилось полным провалом. Хильда терпеть не могла витрин, заполненных чем-либо, кроме еды, тушевалась при виде других покупателей, щеголяющих более приличным платьем, и сюсюкала с продавцами; изобилие выбора сбивало ее с толку, а неизбежное раздевание вообще казалось целой трагедией. В последнем из магазинов, куда Филиппа в отчаянии затащила приемную мать, была длинная общая примерочная. Интересно, что за реальный или надуманный телесный недостаток загнал несчастную в самый дальний угол, вынудив переодеваться под покровом собственного плаща, в то время как прочие девушки и женщины преспокойно обнажались до бюстгальтеров? Утратив надежду, Филиппа опустошала целые прилавки, но и это не помогало. На миссис Пэлфри ничто не смотрелось как подобает. В первую очередь потому, что та одевалась без малейшей уверенности в себе, не проявляла никакого удовольствия, стояла с видом бессловесной жертвы, украшаемой на заклание. В конце концов покупательницы остановили выбор на черной шерстяной юбке – она и висела сейчас на Хильде в сочетании с аляповатой кримпленовой блузкой дурного покроя – и больше уже никуда не ходили вместе. Теперь и не придется, поздравила себя девушка. Однажды попыталась разыграть из себя примерную дочь – и хватит.
Раскатистый, словно на трибуне, голос Гарри Клегорна грубо прервал привычные, по-своему даже уютные пренебрежительные размышления о Хильде, наделенной лишь двумя дарами: стряпать и лгать.
– Вот вы представляете так называемый рабочий класс, да? А ведь большинство членов вашей партии даже не догадываются об истинных чувствах тех, кого якобы защищают. Возьмем, к примеру, старушку с южного берега, коротающую век в одной из ваших блочных высоток; если она боится лишний раз выйти на улицу за покупками или чтобы забрать пенсию, опасаясь бессовестных грабителей, – кому нужна такая воля? Свобода без страха разгуливать по собственному городу, черт побери, гораздо важнее «гражданских свобод», о которых трещат на всех углах члены парламента.
– Будь любезен, разъясни нам, как это более длинные сроки заточения и более суровый тюремный режим сделают жизнь безопаснее?
Нора Клегорн слизнула с пальцев соус и между прочим обронила:
– Все-таки, я думаю, они должны вешать убийц, как раньше.
Слова прозвучали столь буднично, словно речь шла о праве горожан закрывать окна от любопытных соседских глаз. За столом наступила мертвая тишина, как если бы дама разбила что-нибудь очень ценное. Филиппе даже послышался тонкий звон стекла.
– Они? – невозмутимо повторил Морис. – Вы хотели сказать, мы должны. Лично я бы не взвалил на себя подобного рода обязанность и не представляю, кто бы выполнил за меня грязную работу.
– О, Гарри сделает все, что угодно, не правда ли, дорогой?
– Ну, пару-тройку подонков я бы не задумываясь отправил на тот свет.
Разговор, как и ожидалось, перекинулся на самую знаменитую женщину-детоубийцу двадцатого века. Ее имя всплывало в каждой беседе, как только где-то заговаривали об отмене высшей меры наказания – этом камне преткновения для всех либералов. Филиппе казалось, что ее родную мать нарочно продержали в заключении дольше обычного, лишь бы не возбуждать общественное волнение по поводу той печальной знаменитости. Девушка покосилась через стол на Хильду. Миссис Пэлфри низко склонилась над тарелкой, прикрыв лицо двумя прядями волос. Артишоки – удачное начало для досадного обеда, они требуют столько внимания.
– Решив, что казнить убийц неправильно, – разглагольствовал Клегорн, – мы только теперь осознали: оказывается, они не умирают потихоньку в камерах и не испаряются неизвестно куда. Вдобавок кто-то должен о них заботиться, и очень скоро никто не возьмется выполнять неблагодарную работу задешево. А ведь рано или поздно эту женщину придется выпускать. По мне, чем позже, тем лучше.
– Да ведь, говорят, она жутко ударилась в религию? – вмешалась Нора. – Вроде в газетах писали, ее потянуло не то в монастырь, не то ухаживать за прокаженными.
– Бедные прокаженные! – хохотнул Габриель. – Вечно подворачиваются под руку желающим раскаяться! Как будто им своих бед не хватает.
Влажные губы Клегорна облепили сочную сердцевину артишока, точно большой палец младенца. Голос прозвучал приглушенно сквозь льняную салфетку:
– Мне все равно, о ком она заботится, лишь бы держалась подальше от детей.
– Но если эта женщина так переродилась, – вставила Нора, – ей незачем рваться из тюрьмы, верно?
– Да уж, – нетерпеливо поморщился Клегорн. Филиппа не раз обращала внимание, с какой легкостью он прощал жене любые глупости, зато разумных речей из ее уст просто не переносил. – Это последнее, что теперь волнует нашу героиню. В конце концов, камера – самое подходящее место на земле, чтобы творить добро, которого вдруг возжаждала ее душа. Все эти толки о раскаянии – сущий бред. Она с любовничком замучила насмерть ребенка. Если когда-нибудь детоубийца поймет, что натворила… Не знаю, как можно это пережить. Тем более строить планы на будущее.
– Тогда пожелаем ей не каяться, ради собственного же блага, – усмехнулся Габриель. – Однако меня забавляет весь этот шум по поводу преступной души. Понятно, общество вправе наказать убийцу, дабы припугнуть остальных или постараться как-нибудь обезвредить ее после выхода, но разве можно требовать сожаления, мук совести? Этот вопрос останется между ней и ее богом.
– Вот именно, – сказала Филиппа. – Не будучи еврейкой, я не вправе заявить, что прощаю нацистам холокост. Это была бы пустая, высокомерная болтовня.
– Не более, чем утверждение о том, что покаяние касается лишь преступницы и ее бога, – сухо промолвил мистер Пэлфри.
– Уймись, Морис! – усмехнулся Клегорн. – Оставь теологические споры до теледебатов с епископом. К слову, сколько тебе сейчас платят за выступления?
Разговор обратился к новым контрактам и порокам телевизионных продюсеров; детоубийцу благополучно забыли. Хозяева и гости расправились с телятиной, потом – с лимонным суфле, затем перебрались в сад неторопливо пить кофе и бренди. Филиппа уже не верила, что этот безумный день когда-нибудь закончится. Утром она проснулась внебрачной дочерью и вот за какие-то часы стала законной, зато окунулась в пучину кошмара и бесчестья. Девушка словно пережила разом рождение и смерть – две по-своему болезненных стороны одного неумолимого процесса. Теперь же она, опустошенная, сидела за столом на освещенном дворике и мысленно проклинала засидевшихся гостей.
Даже утомление имеет свои границы. Мозг Филиппы вдруг сделался неестественно чистым и ясным, а разум начал цепляться за какие-то мелочи, придавая невероятную важность лямке бюстгальтера, спустившейся с плеча Норы Клегорн, тяжелому перстню с печаткой, впившемуся в толстый мизинец ее супруга, кроне персикового дерева, серебряной при свете лампы; если протянуть руку и тряхнуть ствол как следует, на всех полился бы дождь из блестящих листьев.
К половине двенадцатого беседа стала бессвязной, поверхностной. Морис и Гарри уладили свои академические дела, и Габриель с полунасмешливой учтивостью откланялся. Однако Клегорны с упорством, достойным лучшего применения, продолжали сидеть за столом. По саду стелилась сырая ночная свежесть, багровое небо покрыли сетью вспухшие вены умирающего дня. Около полуночи назойливая семейка вспомнила, что живет не в этом доме, и потом еще долго-долго прощалась, медленно шагая по тропинке к своему «ягуару». Наконец Филиппа могла свободно пойти к себе.
Ни одно из школьных сочинений не давалось девушке с таким трудом, как это письмо. Поразительно: короткий отрывок прозы потребовал на свое составление столько времени, что самые заурядные слова вдруг обрели бесчисленное множество смысловых оттенков, отяжелели от снисходительных намеков, резали ухо бестактностью. Уже само обращение заставило Филиппу серьезно задуматься. «Дорогая мама»? Чересчур навязчиво и отдает самонадеянностью. «Уважаемая миссис Дактон»? Обидная, почти жестокая любезность. «Уважаемая Мэри Дактон»? Ни то ни се, затасканный оборот, признание в собственном бессилии. По долгом размышлении она остановилась на «Дорогой матери». В конце концов, именно такой и была связь между ними, основанная на первичных, незыблемых биологических узах. Открыто признать ее не означало напрашиваться на большее.
Первые строчки сложились относительно легко. «Надеюсь, – начала она, – это письмо не причинит вам боли. Дело в том, что я воспользовалась своим правом и получила подлинное свидетельство о рождении, после чего отправилась на Банкрофт-Гарденс, где и узнала от соседа, кто вы такая».
К чему говорить лишнее? Кровавое прошлое поднято лишь на миг и с отвращением отброшено.
«Я бы очень желала встретиться, если у вас нет серьезных возражений, и приеду в Мелькум-Гранж, как только вы сообщите удобные день и время для визита».
Вычеркнув прилагательное «серьезных», Филиппа задумалась над определением «удобные», но потом решила оставить его. Предложение не совсем устраивало ее, зато по крайней мере верно и коротко передавало суть.
Со следующей частью письма опять возникли загвоздки. «Освободиться», «выпуститься», «выйти», «вернуться на волю» – все эти выражения казались бранными, а без них обойтись было бы сложно. Девушка решилась и быстро набросала черновой вариант:
«Не хочу навязываться, однако если вам некуда будет… негде будет… если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум-Гранж, то можете переехать ко мне».
Какая холодная и надменная концовка! Словно приглашение для нежеланного гостя. Девушка попробовала снова:
«В октябре я поступаю в Кембридж и надеюсь до этого снять квартиру в Лондоне на пару месяцев. Если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум-Гранж, и хотели бы разделить со мной жилище, меня бы это устроило; впрочем, вы не обязаны соглашаться».
Филиппе вдруг пришло в голову, что мать может обеспокоиться по поводу оплаты. Много ли денег дают преступникам, отсидевшим свое и выходящим на свободу? Надо бы разъяснить: мол, деньги не потребуются. Она взялась было писать, что ее предложение не связывает мать никакими обязательствами, но безликая коммерческая нота, прозвучавшая в этой фразе, напоминала рекламу из торгового каталога. И потом, как же совсем без обязательств? Родная дочь действительно кое-чего желает от матери, просто деньги здесь ни при чем. Ладно, подробности подождут до личного разговора.
Филиппа закончила абзац:
«Это будет небольшая двухкомнатная квартира с кухней и ванной, хотя, конечно, я поищу что-нибудь удобное, поближе к центру».
Удобное для чего? И как понимать центр? Королевский оперный театр «Ковент-Гарден», магазины Уэст-Энда, рестораны, театры? Какого рода жизнь она предлагает, в каком окружении представляет себе незнакомку, которая скоро выйдет на волю, если только отмену смертной казни за убийство и вечное бремя воспоминаний о мертвом ребенке можно назвать волей?
Она переписала все набело, поставила подпись: «Филиппа Пэлфри» – и внимательно перечла каждую строчку. Лицемерие, сплошная фальшь. Докопается ли мать до правды сквозь эти неискренние слова? Выбора у нее нет. Мэри Дактон снова в розыске – и ей не увернуться. Встреча неизбежна: не сейчас, так после.
Наверное, можно было проявить больше честности, а вместе с тем и человечности. Выложить жестокую, голую правду, например:
«Если тебе некуда деться, не хочешь ли разделить со мной квартиру в Лондоне? Только до октября, пока я не отправлюсь в Кембридж? Я ведь не собираюсь менять ради тебя всю свою жизнь. Тебе нужно жилье, а мне – информация. По-моему, честный обмен. Для начала дай знать, когда можно будет наведаться в Мелькум-Гранж и потолковать».
За дверью послышались шаги: кто-то поднимался по лестнице. Раздался негромкий стук. Значит, это Хильда. Морис никогда не стучался – должно быть, перенял привычку Хелены.
На пороге стояли оба. Смущенные, робкие, точно делегация просителей, только в халатах. Она – в цветастом нейлоне, он – в тонкой шерстяной ткани багряного оттенка. Девушке вспомнились детские купания, запах мыла и присыпки.
– Филиппа, нам надо поговорить, – сказал приемный отец.
– Я устала. Уже давно за полночь. И что здесь обсуждать?
– По крайней мере не принимай никаких решений, пока вы не увидитесь, не пообщаетесь…
– Я уже написала ей. Завтра отправлю – то есть уже сегодня. Приглашение сразу обесценится, если не сделать его до нашей встречи. Мы же не на рынке, а она – не товар, чтобы ее заранее осматривать.
– Получается, ты способна взять на свою шею незнакомую женщину, которая ничего для тебя не сделала, которая превратится в обузу и, возможно, даже не понравится тебе, – и это на недели, на месяцы, а то и на целую жизнь? Я уже молчу о том, что она своими руками убила ребенка. Не донкихотствуй, Филиппа. Не капризничай, точно маленькая.
– Я вовсе не хочу сажать ее себе на шею.
– Именно хочешь. Ты ведь не секретаршу нанимаешь. Ту хоть, когда не угодит, можно выгнать, а здесь увольнительной запиской не обойдешься. И как это, по-твоему, называется?
– Разумным подходом. Я всего лишь помогу ей устроиться на первые месяцы. К тому же это просто предложение. Может, она и не захочет меня видеть, не то что делить квартиру. Может, у нее другие планы. А если нет, я все равно свободна до самого октября. Пусть у нее хотя бы будет выбор.
– Думаешь, ей и правда некуда податься? Не беспокойся, государство заботится о бывших заключенных; без крыши над головой их никто не оставит.
– Да и есть ведь общежития! – нервно вмешалась Хильда. – Я слышала, они довольно приличные. Что, если ей поселиться там, пока не устроится на какую-нибудь работу?
«Говорит так, как будто мою мать раньше времени выписывают из больницы», – мелькнуло в голове Филиппы.
– Еще она может въехать к подруге по камере, – вставил Морис. – Вряд ли все эти годы она провела в полном одиночестве.
– Ты имеешь в виду – к любовнице? Лесбиянке?
– Это общеизвестный факт, – раздраженно бросил отец. – Ты ровным счетом ничего о ней не знаешь. Позволив тебе исчезнуть из своей жизни, твоя мать, несомненно, решила, что так будет лучше. Сделай для нее то же самое. Тебе не приходило на ум, что ты – последний человек, которого этой женщине хотелось бы снова увидеть?
– Ей достаточно сказать лишь слово. Я потому и написала сначала: не хочу появляться в тюрьме без предупреждения. Кроме того, она рассталась со мной из-за того, что не было другого выбора.
– Ты не смеешь просто так уйти! – всхлипнула Хильда. – Что подумают люди? Что мы скажем твоим друзьям, Габриелю Ломасу?
– При чем тут он? Если спросит, говорите: путешествует за границей. Я ведь так и собиралась поступить.
– Но тебя непременно увидят в Лондоне! Увидят вместе с ней!
– И что? По-вашему, у нее на лбу пылает каинова печать? Я придумаю, как ответить вашим друзьям, если вас так беспокоит их мнение. Сами подумайте, это всего лишь на пару месяцев. Люди время от времени уезжают из дому.
Морис прошелся по комнате, остановился перед холстом Генри Уолтона и произнес, не оборачиваясь:
– Что ты читала об убийстве?
– Ничего не читала. Я знаю, она задушила девочку по имени Джули Скейс, изнасилованную моим отцом.
– Ты не просматривала газетные репортажи?
– Нет, мне некогда копаться в архивах.
– Тогда послушай совет: прежде чем совершить глупость, полистай вырезки той поры, изучи протокол, собери все факты…
– Факты мне уже известны. Их бросили мне в лицо не далее как сегодня утром. И я не намерена шпионить за собственной матерью. Она сама сообщит то, что сочтет нужным. А теперь извините, я очень устала и хочу спать.
Два дня спустя, в пятницу четырнадцатого июля, Норман Скейс отпраздновал одновременно свои пятьдесят седьмые именины и последний день на бухгалтерской службе. Коллегам он заявил, что скромное наследство, оставленное дядюшкой, позволяет ему безболезненно заморозить пенсию, дабы уйти с работы на три года раньше срока. Норману редко доводилось обманывать, и ложь его смущала. Однако нужно же было как-нибудь объяснить, почему обычный клерк, проходивший пять лет из восьми в одном и том же костюме, ни с того ни с сего оставил теплое место. Не выкладывать же сослуживцам правду: дескать, в августе убийца моей дочери выходит на свободу, и нужно сделать кое-какие приготовления, которые поглотят все мое время!
…Хотя конечно, «отпраздновал» – не совсем подходящее слово. Больше всего Норману хотелось бы уйти незаметно, как после обычного рабочего дня; однако в отделе действовали свои правила, от исполнения которых не удавалось увильнуть даже самым необщительным и замкнутым сотрудникам. Любому, кто оставлял место, уходил на пенсию, шел на повышение или женился, полагалось позвать сослуживцев на чашку кофе или рюмку хереса, в зависимости от важности события. Для тех, у кого не было личной секретарши, приглашения любезно печатало машинописное бюро, а распространял какой-нибудь младший конторский помощник – заодно со служебными записками, циркулярами и свежими периодическими изданиями. Старшая секретарша мисс Милисент Йелланд, тут же начинала суетиться – с таинственным видом перемещалась из кабинета в кабинет с конвертом, куда все желающие клали деньги на подарок, и открыткой, где всякий расписывался под различными поздравлениями, пожеланиями или прощальными словами. Выбор открытки мисс Йелланд неизменно оставляла за собой. В свои пятьдесят четыре года она научилась сублимировать подавленные материнские чувства, взяв на себя роль мамаши всего отдела, и последние пятнадцать лет силилась, хотя и без успеха, создать на рабочем месте иллюзию крепкой и счастливой семьи.
Каждый раз поиски велись самым тщательным образом. Секретарша неспешно изучала прилавки «Магазина армии и флота»[23] и книжной лавки Вестминстерского аббатства. Для представителей старшего поколения мисс Йелланд обычно выбирала изображения собак – эти уважаемые, приятные животные вызывали у нее целую гамму смутных мыслей и чувств, ассоциируясь с верностью и преданностью, с неприкрытой мужественностью, с таинственными развлечениями элиты на охотничьих болотах, где среди вереска прятались куропатки, и, наконец, просто с умеренно хорошим вкусом. Поскольку деревенский особняк, намекающий на теплое семейное счастье, решительно не подходил вдовцу, а легкомысленные оленята и черные кошечки никак не вязались с образом мистера Скейса, в этот раз пришлось остановиться на лохматой псине неопределенной породы с фазаном в зубах.
Уже в офисе мисс Йелланд внимательно изучила открытку – и ощутила приступ сомнения. Фазан, или похожая на него дичь, выглядел чересчур жалким и уж очень мертвым из-за остекленевших глаз и неестественно выгнутой шеи. Да и собака, если приглядеться, смотрела недобро, почти злорадно. Оставалось надеяться, что завтрашнему пенсионеру не претят кровавые забавы. И вообще, дареному коню в зубы не смотрят. Секретарша и так потратила тридцать три пенса из собранных десяти фунтов – ничтожная сумма, конечно, хотя, с другой стороны, он сам никогда не стремился быть в центре внимания, так что покупать новую открытку, повеселее, было бы глупой и неоправданной тратой денег.
Впрочем, поиски карточки для этого мужчины всегда отнимали до обидного много усилий. Восемь месяцев назад, после смерти его жены, о которой скрытный мистер Скейс распространялся так же мало, как и о прочих личных делах, мисс Йелланд послала ему от имени отдела траурную открытку – серебряный крест, увитый фиалками и незабудками, – так потом извелась, гадая, понравился ли вдовцу ее выбор. Мужчина работал в отделе около девяти лет, и при этом сослуживцы практически ничего о нем не знали – разве только что хмурый молчун, как и старшая секретарша, добирался до Ливерпуль-стрит откуда-то из восточных предместий. Пару раз они случайно столкнулись на остановке; с тех пор мисс Йелланд ловила себя на мысли, уж не нарочно ли ее избегают.
Несколько лет назад, осмелев после двух бокалов дешевого хереса, выпитого на офисной рождественской вечеринке, секретарша спросила, есть ли у него дети. «Нет, – ответил мистер Скейс. И, помедлив пару секунд, неожиданно прибавил: – У нас была дочь, но рано скончалась». Потом залился краской и отвернулся, словно раскаиваясь в неуместном признании.
Мисс Йелланд не могла не почувствовать себя не в меру любопытной грубиянкой. Она неловко пробормотала слова извинения и удалилась – наполнять подставленные бокалы, отвечать на праздничную болтовню коллег. Однако чуть позже сказала себе, что это, пусть ненамеренное, признание слетело с губ несчастного лишь для нее одной. С тех пор секретарша ни разу не вспоминала о трагедии в разговорах, однако лелеяла разделенную тайну, которая, быть может, повысила ее ценность в глазах мистера Скейса. Кроме того, его личная драма заставила мисс Йелланд посмотреть на мужчину другими глазами: он стал интересен, выделился из общей массы, заинтриговал ее, а когда овдовел – и вовсе сделался предметом сокровенных грез. Теперь они оба остались одни. К тому же он такой добросовестный… Младшие сотрудники недолюбливали Скейса – тот настаивал на дотошном выполнении любого задания. Лишь опытная, зрелая женщина могла оценить его по достоинству. Что, если им подружиться, а потом… кто знает… Милисент еще не стара и вполне способна составить чье-нибудь счастье, а не только стирать и готовить для мамочки. Одно плохо: первый шаг придется делать самой.
Ее вдохновила колонка советов из женского журнала; какая-то читательница писала, что интересуется молодым сослуживцем, который не проявляет к ней ничего, кроме дружелюбия и вежливости, никуда не приглашает и не зовет на свидания. Ответ прозвучал вполне определенно: «Купите два билета на спектакль, который бы ему непременно понравился. Затем скажите, что неожиданно получили билеты в подарок, и как бы невзначай спросите, не составит ли молодой человек вам компанию».
Уловка оказалась не из легких. Потребовалось убеждать соседку присмотреть за больной матерью, а потом ломать голову над выбором подходящего мероприятия. В конце концов мисс Йелланд решила, что музыка – самый верный выход, и отстояла длинную очередь за дорогими билетами на концерт Брамса в крупнейшем концертном зале Лондона «Ройал-фестивал-холл» в пятницу вечером. В понедельник Милисент решилась заговорить об этом. Сдержанное приглашение так долго репетировалось, что в итоге прозвучало неловко и неискренне. Некоторое время вдовец молчал, уставившись в бухгалтерскую книгу; секретарша даже усомнилась, услышал ли он хоть слово. Затем мистер Скейс неуклюже поднялся со стула, коротко посмотрел на нее и пробубнил:
– Очень мило с вашей стороны, однако я никуда не хожу по вечерам.
В его глазах мисс Йелланд прочла досаду, чуть ли не панику. Покраснев как вареный рак от унижения из-за столь безусловного отказа, она бросилась искать уединения в дамской раздевалке, порвала ненавистные бумажки в клочья и спустила в унитаз. Бессмысленный и экстравагантный жест. Концерт пользовался большой популярностью, и в кассе билеты наверняка приняли бы обратно. Правда, поступок слабо утешил ее пострадавшую гордость. С тех пор секретарша не приближалась к отвергнувшему ее мужчине. Кстати, ей почудилось, что тихий, ответственный работник еще больше замкнулся, окружил себя еще более жестким панцирем. И вот он покидает отдел. Девять лет обходил ее любовь и заботу стороной, а теперь ускользает навсегда.
Официальное прощание назначили на половину первого, и к часу главный бухгалтер отдела мистер Уиллкокс, в чьи обязанности входило выступать с речами, уже заливался соловьем.
– Если бы кто-нибудь попросил меня, как старшего в нашем отделе, назвать самое выдающееся качество Нормана Скейса, проявленное им за годы работы, я бы ни секунды не медлил с ответом.
Тут он искусно выдержал полуминутную паузу, чтобы коллеги успели притвориться горячо любопытными, будто бы сей вопрос и впрямь вертелся у всех на устах; заместитель старшего бухгалтера мрачно возвел глаза к потолку, младшая секретарша хихикнула, а мисс Йелланд ободряюще улыбнулась Норману. Улыбка осталась без ответа. Мистер Скейс стоял у стола, сжимая в руке бокал, наполовину наполненный сладким африканским вином, и затуманенными глазами смотрел куда-то поверх голов. В этот день он позаботился о своей внешности не больше и не меньше обычного: надел синий костюм с изрядно потертыми рукавами, рубашку с помятым, но чистым воротничком и аккуратно завязал галстук неописуемой расцветки. Кого-то он напомнил мисс Йелланд, стоя вот так, поодаль от остальных, точно изгой. Правда, не знакомого человека, скорее героя картины, фотографии, кинохроники. И вдруг ее осенило. Норман поразительно смахивал на обвиняемого с Нюрнбергского процесса. Нелепое, оскорбительное сравнение потрясло секретаршу, женщина вспыхнула, точно ее застали врасплох у чужой замочной скважины, и устремила взгляд на свой бокал; воспоминание не отпускало. Тогда она вновь сосредоточила взор на мистере Уиллкоксе.
– Я бы ответил одним-единственным словом, – провозгласил тот и принялся перечислять: – Добросовестность, сознательность, честность, методичность, профессиональность, – тут он поперхнулся, и Милисент невольно удивилась: неужели в языке есть подобное существительное, – полная надежность. К чему бы ни приложил руку наш мистер Скейс, любое поручение он выполнял от начала до конца с чистоплотностью, четкостью и полной надежностью.
Заместитель залпом выпил бокал, поскольку вино было не из тех сортов, которые хочется смаковать подольше, и с тоской подумал, что если кто-нибудь и слышал более дурацкую, убийственно нудную прощальную речь, то сам он, во всяком случае, ничего хуже на своем веку не слышал. Однако почему Скейс решил так рано удалиться от дел? Легендарное наследство, о котором ходило столько слухов, наверняка принесло ему очень солидную сумму, чтобы на три года раньше… Разве что этот тихоня нашел себе новое место и помалкивает. Хотя вряд ли. Кому в наши дни захочется брать пятидесятисемилетнего работягу без особой квалификации?
А самодовольный оратор все бубнил и бубнил. Словно из рога изобилия, на слушателей сыпались заковыристые намеки, как распорядится преждевременный пенсионер своей будущей жизнью, полушутливые поздравления с отчетливой ноткой плохо скрываемой зависти, последние традиционные пожелания долгой, благополучной и счастливой старости и надежды на то, что скромный подарок отдела пригодится для покупки какого-нибудь предмета роскоши, который напоминал бы мистеру Скейсу о привязанности и уважении теперь уже бывших сослуживцев.
С этими словами Уиллкокс протянул чек и присоединился к жидким хлопкам, на удивление мерно и беззвучно смыкая и разводя ладоши, точно вялый капитан болельщиков.
Все взгляды обратились на мистера Скейса. Тот поморгал на конверт, который сунули ему в руку, но даже не открыл. Как будто бы не знал, что полагается по обычаю: сначала сделать вид, словно не может расклеить конверт, потом благодарно выгнуть бровь при виде чека, восхититься рисунком открытки, внимательно изучить все подписи… Норман зажал подарок в ладони, точно маленький ребенок, не уверенный, что это принадлежит ему, и произнес:
– Благодарю вас. Во многих отношениях мне будет не хватать моего отдела после примерно девяти лет…
– Ровно девяти лет! – со смехом воскликнул кто-то.
– После примерно девяти лет, – невозмутимо повторил мистер Скейс. – На любезно подаренный вами чек я куплю бинокль, пусть напоминает о старых друзьях и сослуживцах. Еще раз большое спасибо.
Тут он улыбнулся. Но так мимолетно, вскользь, что видевшим оставалось лишь ломать голову, а не померещилось ли им чудесное преображение. Норман поставил на стол недопитый бокал, пожал руки одному или двум ближайшим коллегам и вышел.
В крохотном кабинете, который он делил еще с парой служащих, лежали в хозяйственной сумке нехитрые, заранее приготовленные пожитки, которые следовало забрать: чайная пара, завернутая во вчерашний выпуск «Дейли телеграф», арифметические таблицы, словарь и мыло. Скейс осмотрелся в последний раз. Вроде ничего не забыл. Шагая к лифту, он на минуту вообразил себе, как вытянулись бы лица бывших товарищей по работе, если бы Норман просто взял и сказал то, что у него на сердце:
«Видите ли, я решил уйти заранее из-за одного важного дела, которое требует серьезной подготовки и займет несколько ближайших месяцев. Понимаете, мне надо найти и прикончить убийцу дочери…»
Фальшивые улыбочки так и замерзли бы у них на губах, превратившись в недоверчивые гримасы, а потом, наверное, все разразились бы деланным смехом. Или еще сюрреалистичнее: коллеги продолжали бы кивать, учтиво скалиться, потягивать за его здоровье дешевый херес, придавая жуткой исповеди не больше значения, чем напыщенным разглагольствованиям Уиллкокса. Именно в конце его пустопорожней речи Скейса и охватило бессмысленное желание выложить правду-матку. Не то чтобы искушение было неодолимым, но все-таки. Мистер Скейс и сам удивился собственной дерзости. До сих пор его не находили способным на поступок или яркий жест, хотя бы даже и в мыслях. Убийство Мэри Дактон не в счет: это была обязанность, от которой Норман попросту не хотел, да и не смог бы уклониться. Разумеется, он желал себе удачи – в том смысле, чтобы ловко уйти от расплаты за преступление: несчастный отец искал правосудия, а не венца мученика. Досадно, что именно сегодня Скейса посетила мысль, как отнеслись бы к его намерению сослуживцы. Едва появившись, мелодраматическая мыслишка на миг опошлила, если не обесценила, в его глазах грядущую трагедию.
Как обычно, Скейс возвращался к себе по Вестминстерскому мосту, через Парламентскую площадь, Грейт-Джордж-стрит и Сент-Джеймсский парк. До восточного пригорода можно было добраться и более коротким путем, по городской линии, однако Норман предпочитал пройтись вечером по набережной и уже у парка сесть на метро. С тех пор как умерла Мэвис, он никогда не спешил домой. Не видел в этом смысла.
В парке было многолюдно, но Скейс ухитрился найти свободную скамейку. Пристроив сумку на земле между ног и глядя на озеро сквозь ветви плакучих ив, он вспомнил, как сидел на этом самом месте восемь месяцев назад, в свой первый обеденный перерыв после смерти жены. Тогда стояла необычайно холодная ноябрьская пятница. Солнце в зените казалось большой, размазанной по облакам луной. Ивы медленно роняли на воду тонкие бледные листья. На грядках с розами оставались лишь крепкие алые бутоны, побитые заморозками; колючие стебли шуршали мертвыми листьями. Озеро блестело морщинистой бронзой, и только посередине будто бы сверкал гладкий поднос чеканного серебра. Какой-то старик шаркал ногами по тропинке, усеянной опавшими листьями. В парке печально веяло запустением: с перил голубого моста вытерли краску бесчисленные руки туристов, фонтан молчал, чайная была закрыта на зиму. Теперь в воздухе гудели голоса гуляющих, звенел детский смех. В тот день, как припомнилось Норману, по дорожке брел один-единственный мальчик, и когда он грубо, надтреснуто хохотнул, над озером взметнулись с жалобными криками пухлые чайки. Вдали, у корней деревьев, между пучками травы белели пятна раннего снега.
На Скейса даже дохнуло забытым ноябрьским холодом, и он прикрыл веки, чтобы не видеть залитой солнцем зелени парка над зеркалом голубой воды, отрешился от призывных ребячьих криков и приглушенной музыки оркестра и мысленно перенесся в больничную палату, где скончалась Мэвис.
Надо же было выбрать такой неудачный день, напряженный четверг, да еще и четыре пополудни – самое горячее время. Уж лучше бы ночью: большинство пациентов спят или просто угомонились, персонал может отдохнуть от ежедневной битвы за жизнь и уделить внимание тем, кто ее проиграл. Утомленная медсестра объяснила, что по правилам полагалось, конечно, переместить больную в отдельную боковую палату, но, к несчастью, все они заняты. Может, завтра… В общем, кто доставляет в последние минуты меньше хлопот персоналу, тот и заслуживает больше комфорта. Норман сидел рядом с женой за шторами, узор которых навсегда отпечатался в его памяти: маленькие розовые бутоны на фоне гвоздик. Очень мило и уютно. Как будто бы можно приукрасить смерть. Сквозь щель между занавесками Скейс видел, как суетятся медсестры в длинных халатах, с безразличным видом подкатывая к постелям столики на колесах, закрепляя капельницы… Чья-то голова просунулась и радостно спросила:
– Чаю?
Норман принял чашку и блюдце из белого фарфора; в буроватой жидкости уже таяли два куска сахара.
Руки жены лежали поверх одеяла. Норман держал ее левую ладонь, гадая, какие грезы царят в долине теней. Разумеется, им далеко до кошмаров, которые мучили Мэвис долгими ночами после гибели единственной дочери, так что Норман то и дело просыпался от истошного визга, задыхаясь от горячего, сладковатого запаха пота и страха. Мир, куда она унеслась, наверняка добрее, иначе почему бы ей лежать столь тихо? Скейс отстраненно наблюдал, как пробегали по лицу умирающей смутные тени чувств, уже недоступных ей: то капризно сдвигались брови, то мелькала коварная, неискренняя улыбка. Мужу она почему-то напомнила маленькую Джули в те дни, когда девочка страдала газами и строила похожие серьезные мины. Вот ее веки задрожали, а губы слабо зашевелились. Норман наклонился.
– Лучше ножом. Так надежнее. Не забудешь?
– Нет, не забуду.
– Письмо с собой?
– Да, письмо с собой.
– Покажи.
Скейс достал бумажник. Мутные глаза Мэвис с трудом сосредоточились на клочке помятой бумаги, трясущиеся пальцы жадно потянулись к нему, словно к мощам святого-целителя, а челюсть отвисла и задрожала от натуги. Муж прижал ее иссохшую ладонь к конверту и произнес:
– Я не забуду.
Ему на ум пришел тот день, когда письмо появилось на свет. Примерно год назад Мэвис впервые услышала, что больна раком. Вечером супруги сидели на диване – рядом, но порознь – и смотрели передачу о птицах Антарктики. Как только Норман выключил телевизор, жена промолвила:
– Если не вылечусь, придется тебе действовать в одиночку. Это нелегко, понимаю. Чтобы ее разыскивать, понадобится убедительная отговорка. И потом, после убийства, вдруг тебя заподозрят, надо будет внятно все объяснить. Я напишу письмо, напишу, что простила ее. Скажешь: дескать, исполнял мою последнюю волю, хотел передать конверт из рук в руки.
Когда она это придумала? Должно быть, размышляла во время передачи. Скейс ощутил болезненный укол разочарования и страха. В глубине души он надеялся, что уход Мэвис каким-то образом избавит его от тяжкой ноши, непосильной для одного. Однако выбора не оставалось. Тогда же за кухонным столом и родилось роковое письмо. Жена не стала запечатывать конверт: мало ли кто пожелает ознакомиться с его содержимым, прежде чем сообщить Норману местонахождение убийцы. Скейс так и не прочел письма – ни тогда, ни позже, но всегда носил его в своем бумажнике. До самой предсмертной минуты Мэвис ни разу не заговаривала об этом послании.
Потом она впала в забытье. А Норман сидел прямо, словно проглотил аршин, накрыв ладонью сухую руку, похожую на лапку ящерицы – недвижную, с противно скользящей кожей. Он напомнил себе, что эта самая рука долгие годы готовила для него, стирала, убирала дом, и попытался вызвать прилив жалости. Сердце немного дрогнуло, хотя это было не сострадание, скорее смутное чувство еще одной невозвратимой утраты. И медсестра – зачем она так хлопочет? Столько шума, суеты, а ведь все бесполезно. Зарыдать бы сейчас – не о Мэвис, обо всех сразу, о больных и здоровых, а главное – о себе самом. Слезы не подступали. Вместо них появилось желание брезгливо отдернуть ладонь. Скейс пересилил его. Что, если медсестра заглянет за штору? Наверняка она ожидает увидеть верного мужа покорно сидящим у смертного ложа, склонившимся над своей любимой в тщетной попытке утешить угасающую плоть. Любимой… Нет, любовь умерла. Мэри Дактон удавила ее своими руками, когда вытрясла душу из их ребенка. Если вдуматься, настоящее чувство не должно так легко погибать. Но когда-то оно казалось очень даже настоящим. Да, они любили друг друга, как и всякое живое существо на планете – в меру сил. А чем это кончилось? И кто из них больше виноват? Та, которую прежде переполняла энергия, или тот, который, наверное, мог бы помочь своей половине преодолеть кошмар и начать жить? К чему теперь гадать на кофейной гуще? Важно не подвести Мэвис хотя бы в последний раз. Для этого остался единственный путь: их общая цель отныне должна стать его собственной. Кто знает, может быть, смерть убийцы искупит и оправдает потраченные впустую бесконечные годы ожидания.
Жена лелеяла горькую жажду мести, словно чудовищного младенца, который день ото дня рос в утробе, ни на миг не позволяя забыть о себе. Со временем даже личный врач утомился выписывать рецепты и направления к местным светилам психиатрии, даже он признал, что несчастная горюет слишком долго. В конце концов, горе – непозволительная роскошь в современном обществе, выделяющем сочувствие скупыми монетками, точно милостыню, так что многие гордецы и вовсе не протягивают за ней руки. Норману подчас приходило в голову, что викторианские обычаи показного траура не лишены смысла. По крайней мере они четко определяли границы общественной терпимости. Вдове, например, полагалось провести год в черном, полгода в сером и потом уже ходить в лиловом. Так рассказывала Скейсу бабушка, с уважением отзываясь о богатых провинциальных домах, где ей довелось служить горничной. Интересно, сколько черного причиталось родителям изнасилованного и убитого ребенка? В те времена подобная потеря возмещалась не позже чем за год.
«У вас впереди целая жизнь», – твердили Мэвис. В ответ она широко распахивала непонимающие глаза: какая еще жизнь? «Подумайте о муже», – советовал доктор. И она думала. По ночам, напряженно и безмолвно лежа в двуспальной кровати, Норман смотрел в черный потолок и явно видел еще более беспросветные тучи ее мыслей: невысказанные упреки злокачественной опухолью запускали щупальца в его мозг. Жена ни разу так и не повернулась к нему. Разве только иногда протягивала руку, но стоило Скейсу коснуться ее, отдергивала. Та самая плоть, что некогда заронила в нее семя жизни, теперь отталкивала Мэвис. Как-то раз, чувствуя себя последним предателем, Норман робко поднял деликатную тему в беседе с врачом, и тот, ни секунды не сомневаясь, выдал: «Физическая близость ассоциируется у вашей супруги с бедой и утратой. Терпение, подождите немного». Он и терпел. До самой ее смерти.
…Кажется, снова заговорила? Скейс наклонился ниже, уловил кисловато-сладкий запах тления – и еле справился с искушением закрыть рот платком, чтобы не заразиться. Вместо этого он задержал воздух и постарался не дышать. Потом не выдержал и все-таки втянул в себя часть ее дыхания. Несколько нескончаемых минут Норман не мог разобрать, что шепчут дрожащие губы, но вот послышался неожиданно ясный, резкий, глубокий голос, какой был у нее до болезни.
– Сильная, – произнесла умирающая. – Сильная.
О чем это? Может, она имела в виду сильную волю, которая понадобится ему, чтобы исполнить задуманное? Или хотела напомнить об огромной силе убийцы, о том, что не следует легкомысленно приближаться к ней без оружия?
Тогда, на скамье подсудимых, Мэри Дактон не показалась ему ни слишком высокой, ни крепкой. Хотя, должно быть, сам зал суда – столь неожиданно тесный, безликий, обитый бледным деревом – приуменьшал всякое человеческое существо, виновное и невиновное, попавшее в его стены. Даже прокурор, облаченный в багряную мантию с королевским гербом, съежился до крылатой марионетки. Однако долгие годы, проведенные за решеткой, вряд ли ослабили преступницу. О, за узниками хорошо присматривают, чтобы никто не перерабатывал, не голодал, делал по утрам зарядку. Заболевшим предоставляется наилучший медицинский уход. Прежде, замышляя убийство, супруги мечтали удавить Мэри Дактон голыми руками, ведь именно так погибла Джули, но… Мэвис права. Мистер Скейс остается один. И без оружия ему не обойтись.
Видит Бог, он совсем не желал, чтобы жена умирала в горькой злобе. Преступница навеки отняла у них любовь – утешение каждого смертного, дружбу, смех, планы, надежды. И конечно, Джули. Порою Скейс недоуменно ловил себя на том, что почти забыл о ней. А Мэвис утратила своего Бога. Как всякий из верующих, она мысленно творила Его по собственному образу и подобию, представляя себе эдакого добряка-методиста с провинциальными вкусами, любителя радостных песен и умеренно-академических обрядов, не требующего больше, чем она в состоянии дать. В церковь по воскресеньям жена ходила по привычке, скорее из соображений удобства, чем ради страстного желания восславить Творца. Воспитанная в семье методистов, она была не из тех, кто отвергает понятия, привитые в детстве. Однако так и не простила Богу гибели маленькой дочери. Скейсу часто казалось, что Мэвис и его не простила. Наверное, потому и умерла их любовь: из-за вины. Жена укоряла его, а он терзал сам себя.