Flamma д'Эстет Антуан
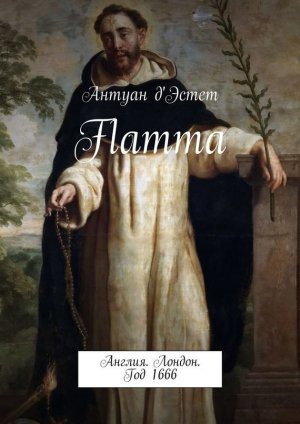
© Андрей В. Болотов, 2024
ISBN 978-5-4474-2768-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
1665 год. Непростой год для Англии. Взаиморасположение Марса и Сатурна, которое можно было наблюдать 12 ноября 1664 года, по мнению астролога Джона Гэдбери было предзнаменованием больших несчастий, а две кометы, – в конце 1664 года и еще одна в начале 1665, – указанием на их количество.
***
Война всегда большое несчастье. Она требует денег и уносит жизни тысяч людей. 14 марта 1665 года Карл II Стюарт – король Англии, Шотландии и Ирландии, официально объявил войну Голландии.
***
Тем временем в церкви Сент-Джайлс, расположенной в одном из портовых пригородов Лондона, один за другим погибали люди. Пока умирали нищие работники порта, массовые смерти не вызывали опасений правительства: их просто не замечали; но уже скоро чума коснулась и обеспеченных слоев населения.
***
29 июня 1665 года Карл II со своим семейством был вынужден покинуть Лондон. Вслед за королем в Оксфорд переселился почти весь королевский двор. Все, кто имел возможность покинуть город, спешили ею воспользоваться: знать покидала свои дома, купцы заколачивали лавки. Один из крупнейших городов Европы замер.
***
Сотни домов приговоренных, отмеченные кроваво красным крестом и надписью «Да поможет нам Господь», безжизненными окнами глядели, как по затихшим и опустевшим улицам Лондона, в черных плащах и устрашающего вида бронзовых масках с длинными носами, бродили, похожие на ужасных птиц, священники, врачи и аптекари. Склоняясь над жертвами эпидемии, в отблесках пламени горевших повсюду костров, они производили гнетущее впечатление, вселяя тоску и страх в тех, кто еще не был заражен.
Почти во всех газетах Англии приводились неутешительные сводки смертности: каждую неделю в одном только Лондоне погибало до двух тысяч человек. Месяцами люди засыпали под доносящийся с улицы призыв: «Выносите ваших мертвецов», и грохот колес тяжело нагруженной телами умерших телеги.
Повсюду жгли перец, ладан, благовония; курили табак, стараясь хоть как-то заглушить смрад разложения, окутавший Лондон. Печатались и распространялись брошюры с советами и указаниями, направленными на предотвращение заражения. Свозились в чумные ямы уже умершие, но все было бесполезно. К осени 1665 года смертность достигла семи тысяч человек в неделю. Черные язвы продолжали пожирать жизни людей. Ничто не могло совладать с «Черной Смертью».
***
Отчаявшись в людях и лекарствах, жители Лондона обратились к Богу и религии. Однако и здесь все оказалось не так просто: около десяти лет церковь Англии была лишена официального статуса. Приход Карла II к власти в 1660 году изменил ситуацию и ознаменовался возрождением Англиканской церкви. Однако не прошло и трех лет, как появились слухи о переходе в католичество. И не без оснований: среди придворных короля было немало католиков; а в 1662 году женой Карла стала португальская принцесса Екатерина Браганца – тоже католичка. Скоро в симпатиях к католической вере стали подозревать и самого короля. Эти подозрения некстати вспомнились во время чумы 1665 года.
Религиозная нестабильность была решена весьма необычным способом: в Лондоне появились секты.
***
Облегчение жителям Лондона принесло лишь наступление зимы: уровень смертности заметно снизился; в город постепенно стали возвращаться те, кому в свое время посчастливилось его покинуть; возобновилась торговля, открылись банки, начала работу биржа. Лондон ожил. Казалось, что Великая Чума 1665 года, унесшая десятки тысяч жизней, закончилась. Но бедствие, предвещаемое третьей кометой, было еще впереди, а значит, припорошенные снегом чумные ямы – это еще не конец… это всего-навсего передышка.
***
1666 год. Весь христианский мир пребывает в тревожном ожидании. Вся Европа устремляется в церкви и Лондон не становится исключением. Его жители уверены: если в этом году произойдет что-то страшное – это произойдет здесь.
Часть первая: Падение
Глава I. Дневник
Собор святого Павла – один из самых величественных храмов в Англии. Его каменная громада гордо высится над окрестными постройками, ничтожество которых неоспоримо в сравнении с его великолепием. Трижды этот храм повергался во прах; и неважно огонь или викинги были тому причиной, потому что Собор святого Павла трижды же восставал из небытия, с каждым разом становясь все более прекрасным и могучим творением людей и Бога. Даже сегодня, 13 февраля 1666 года, мощные стены собора, хоть и нуждаются в небольшой реставрации, выглядят столь твердо и непоколебимо, что трудно представить себе силу, кроме времени, способную их разрушить.
Внешнее величие Собора святого Павла, бесспорно, впечатляет. Однако не менее поразительно его внутреннее убранство. Массивные дубовые двери и скамьи; украшенные алым бархатом исповедальни; косые лучи света, проникающие сквозь высокие витражные окна и, дополняющий их, мягкий свет множества свечей вселяют в прихожан благоговейный трепет и ясно дают понять, что это место – святыня. И чувство благости лишь усиливается, когда во время христианских празднеств, под проникающее в самую душу пение церковного хора и снисходящую откуда-то сверху музыку органа, священники, сияющие в парадных одеяниях, проводят торжественное богослужение, являя прихожанам всю славу церкви.
Но помимо всего этого блеска и величия, доступных взору каждого, в соборе есть помещения, которые не дано увидеть простому прихожанину – священнические кельи. Одна из них – келья архидьякона Собора святого Павла, представляет собой весьма любопытное место. Это маленькая комнатушка расположенная неподалеку от ложи с органом, и, на первый взгляд, она мало чем отличается от подобных же помещений, занимаемых священнослужителями менее высокого сана. Однако, кроме обычных для непритязательных клириков предметов мебели (как например кровать) в келье архидьякона примостился резной письменный стол, на котором, в ночь с 13 на 14 февраля 1666 года, лежал весьма странный набор вещей: две жемчужины, – черная и белая, – выкатившиеся из небольшого кошелька; распечатанное письмо с обломками траурной печати и тяжелый золотой крест с пятнышком еще свежей крови на блестящей поверхности.
Впрочем, есть здесь еще кое-что необычное: за отодвинутым чуть в сторону шкафом с дюжиной толстых книг по богословию и медицине виднеется щель потайного проема. Там сокрыта от излишне любопытных взглядов узкая винтовая лестница, ведущая в каморку, меблировка которой чем-то напоминает саму келью, разве только здесь нет кровати (ее место занимает тяжелый обитый железом сундук) да книги в шкафу выглядят чуть более мрачными и ветхими.
В этой комнатке, за столом, грубо сколоченным из досок недорогих пород дерева, с пером в трясущейся руке, сидит, склонившись над толстой тетрадью, человек в черной сутане. При тусклом свете одной-единственной свечи в изящном серебряном подсвечнике он что-то сосредоточенно пишет. Опускает перо в чернильницу, заносит его над бумагой и торопится вставить в неразборчивый текст новую, такую же неразборчивую, фразу. Это нервная дрожь руки и порывистая резкость движений так плохо сказываются на его почерке. И все же, несмотря на чернильные пятна, размазанные буквы и неровный почерк, написанное, с трудом, но можно прочесть.
«Не знаю с чего начать…» – жирно выведено в самом верху листа желтоватой бумаги. – «Никогда раньше не вел дневник. Но теперь… мне это просто необходимо. Необходимо поделиться с чем-то своими мыслями. Не с кем-то, а именно с чем-то (ибо доверится, я могу лишь бездушию) и даже не мыслями, а переживаниями и страхами, иначе… я просто сойду с ума.
Начну, пожалуй, с того, что расскажу немного о себе. Мое имя Люциус, мне 33 года и я – священник. Думаю этого достаточно, чтобы тот, кто когда-нибудь прочтет мой дневник смог осудить меня за то, о чем я собираюсь здесь поведать. Сан архидьякона и служба в одном из крупнейших соборов Европы лишь отягчают мою вину. Но довольно! Пора снять частичку бремени с оскверненной души и хоть я не горю желанием заново переживать события этого страшного вечера, я знаю: бумага стерпит больше, чем живое сердце».
Глава II. Сон. Начало
Дневник.Запись от 13 февраля 1666 года.
Все началось еще ночью. Мне привиделся весьма странный сон:
Я стою где-то высоко-высоко, на краю обрыва, и смотрю ввысь, на затянутое облаками бескрайнее серое небо. Сквозь облака пробиваются узкие лучи мягкого белого света. Я слышу музыку и пение, на душе становится радостней и чище. Небо зовет меня! Зовет туда, куда с детства были устремлены мои взоры и помыслы. Я расправляю крылья и ощущаю в них приятное сопротивление ветра. Чувства уверенности и легкости переполняют меня. Кажется, еще мгновение и я взлечу…
…Но за этот короткий миг все меняется. Недавно белоснежное облако, прямо на моих глазах, теряет белизну и, стягиваясь к своему центру, начинает бешено вращаться, все больше и больше уподобляясь огромной воронке. Усилившийся ветер, остервенело, бьет по крылам, небесная музыка становится тяжелее, а пение громче и угрожающей. А потом… я вижу, как разгневанное небо низвергает из своего вращающегося чрева крылатый призрак женщины – тень, объятую ярким пламенем и стремительно падающую вниз…
…Заканчивается все еще скорее, чем начиналось. В мгновение ока исчезла с небес воронка и стих ветер. Небо очистилось и вновь стало таким тихим, спокойным, манящим… Все, что произошло несколько секунд назад, кажется всего лишь коротким неприятным сном и быстро стирается из памяти, как нечто такое, о чем не хочется даже задумываться, но… я все еще вижу ее…
…Падающая тень… Она так прекрасна! Она завораживает! Она – свидетельство обманчивости небес и напоминание о том, что им не чужда ярость. В сравнении с ней небо теряет свою притягательность, и я понимаю, что мой взор больше не поднимется до былых высот. Отныне я не смогу относится к небесам так, как раньше…
…Отрекшись от небес, я опускаю взгляд и вижу не имеющую края пропасть. Окутанная густым туманом, она так похожа, и в то же время не похожа, на простирающееся где-то далеко над нею небо. Кажется там, нашло свое место темное отражение небес и оно, как бы в насмешку переменчивому небу, не скрывает своего постоянства тьмы, а клубы красноватого тумана будто передразнивают зависшие в поднебесье облака…
…Я чувствую, как во мне зарождается невольная симпатия к этому доселе неведомому мне миру. И все мои прежние представления переворачиваются. У меня кружится голова. Я смотрю на крылатую тень и не понимаю: падает она или же взлетает. Впрочем, какая разница?! Давно ль я жаждал вознестись на небеса? А сейчас… я с той же страстью делаю шаг в пропасть… вслед за чудесной тенью покорившей все мое существо. И мне не важно, взлет это или падение, потому что это – мой выбор!..
…Я быстро приближаюсь к желанной тени, но чем меньше расстояние между нами, тем тяжелее становятся мои крылья. Огонь яркими синими языками лишает их былой покоряющей небо силы. Еще мгновение и я понимаю, что уже не лечу, а просто падаю…
…Мы погружаемся в багровый туман. Я настиг ее! Мои руки обхватывают невесомую тень, но я больше не чувствую за спиною крыльев. Могучий удар и…
…Я открываю глаза, лежа в грязи. Сверху, медленно кружась, на меня падают обуглившиеся перья. Какие-то жалкие существа нерешительно обступают меня. Это люди! Одетые в рубище, с горящими злобой и страхом взорами, они жадно тянут ко мне руки…
…Скрюченные пальцы безумной толпы больно сжимают мои плечи. Я стараюсь подняться, но ноги не слушаются меня; пытаюсь вырваться, но разбитая при падении спина пресекает все попытки к сопротивлению: любое движение причиняет мне невыносимую боль. К тому же, оглядываясь по сторонам, я нигде не нахожу очаровавшее меня виденье. И боль уже иного рода пламенным перстом пронзает душу: «Неужели это был всего лишь мираж? Простой обман, испытание веры?.. И я не справился… или она все-таки на самом деле есть!? Где-то здесь, где-то рядом? Тогда ей, как и мне, грозят нечистые руки погрязшего во злобе и зависти человечества, а я… я ничего не могу сделать»…
…Перед этими ничтожествами я вынужден почувствовать свое бессилие. Весь мой гнев, вся моя боль и унижение изливаются в одном невероятной силы яростном вопле.
Глава III. Пробуждение
Дневник.Продолжение записей от 13 февраля 1666 года.
Я проснулся от звенящего в ушах отголоска этого ужасающего крика и больше не мог уснуть. Пред моим мысленным взором, то и дело, возникали образы сна, упрямо не желая забываться. По телу разливались волны слабости, левая нога онемела, а спина болела так, словно мне действительно довелось упасть с большой высоты.
Пробуждение казалось не прекращением сна, а его продолжением. С самого утра этот день обещал быть необычным. Даже мрачным. Дурные предчувствия – предчувствия чего-то плохого, если не сказать ужасного, одолевали меня. И самое неприятное в том, что они незамедлительно стали сбываться.
На столе лежало письмо – обычный лист бумаги, сложенный вчетверо и скрепленный печатью на черном воске. Я не помнил, как оно попало в мою келью, но почему-то не был удивлен этому. Однако прочесть письмо долго не решался. Знаки траура заставили меня задуматься: «А стоит ли вообще читать это письмо, если заранее известно, что ничего приятного прочесть все равно не удастся?». Кажется, в такие минуты у нас есть выбор, но воспользовался ли им хоть кто ни будь? Не сделал этого и я. Я сломал печать и, сознательно причиняя себе боль, погрузился в чтение.
Письмо оказалось для меня ударом (как, впрочем, и все события этого забытого богом дня). Именно поэтому я приведу здесь его содержание полностью:
Дербишир, 11 февраля
Дорогой Люциус Флам! Не сочтите за дерзость и простите за то, что я осмеливаюсь писать вам, но я не могу поступить иначе. Я знаю, что вы не любили барона Анкепа. Вам всегда был глубоко ненавистен тот образ жизни кутилы и волокиты, который вел ваш дядя, и вы, надо полагать справедливо, презирали его за это. Но вы – единственный оставшийся у него родственник и именно вам я вынуждена сообщить, что 10 числа сего месяца, ваш дядя – Алджернон Пичер барон Анкеп – скончался. Мне известно о том, что не так давно вам довелось потерять обоих своих братьев, а посему, я думаю, эта новая утрата не станет для вас трагедией. И все же, примите мои искренние соболезнования.
Скорблю вместе с вами.Всегда ваша,экономка покойного барона Анкепа,Мери Сертэйн.
Дядя Алджернон… Мы действительно не ладили, но почему-то сильно защемило сердце, когда я читал эти строки. Будто какие-то предчувствия, или быть может воспоминания, не давали ему покоя. Как бы то ни было, предположение написавшей это послание особы не оправдалось: потеря родного человека – это трагедия… трагедия тем большая, что этот человек был моим последним родственником.
Не подумайте, что я рассказываю все это для того, чтобы оправдать то, чему нет оправдания. Нет! Просто я хочу, чтобы мой будущий судия, кто бы он ни был, мог проследить мое состояние, мои эмоций, мои чувства в этот несчастный день. Чтобы поставив себя на мое место, не в ущерб справедливости, он мог все же проявить ко мне хотя бы чуточку снисходительности. А эта новость… она тоской и болью омрачила и без того не радостное утро. Впрочем, то было лишь утро, и я, еще надеясь развеять сковавшие меня путы грусти, слегка прихрамывая на левую сторону, отправился выполнять свои обязанности настоятеля собора.
Из всех храмов Лондона, Собор святого Павла традиционно самый посещаемый. Ежедневно сотни прихожан спешат присутствовать на отправляемых здесь богослужениях, множество заблудших являются на здешние проповеди, десятки смущенных душ приходят сюда исповедоваться. Здесь всегда можно видеть молодую пару клянущуюся друг другу в вечной любви и верности или стоящего в сторонке человека, в гордом одиночестве воссылающего богу свою молитву. Редкий день обходится здесь без молебна, свадьбы или крещения. Атмосфера света, надежды, любви и благости царит в этих стенах, будто каждый из этих людей приносит сюда частичку своего внутреннего, духовного света, заставляя и сам храм сиять изнутри.
Но в этот день все было иначе. Полное отсутствие прихожан, явилось для меня неожиданностью и удивительным образом сказалось на всем соборе. Не знаю, сон и письмо ли так повлияли на мое восприятие, или так оно и было на самом деле, но я чувствовал, как гнетущая пустота поглощает его. Казалось, без людей, без их надежд, чувств, веры, храм покидает некий дух света, он теряет тепло и, уступая мраку и унынию, божья обитель превращается в простое строение из холодного камня, способное защитить от ветра и дождя, но не от огня внутренних тревог и терзаний.
Весь день я ждал и надеялся, что вот сейчас появятся люди, хотя бы один человек, который своей верой возвратит собору то его неуловимое свойство даровать спокойствие и изгонять горести, которое было мне так необходимо. Но время шло, а ощущение того, что священность храма также обманчива, как манящее спокойствие небес из моего сна, все возрастало. Скоро это место, ранее вызывавшее во мне лишь благоговение и восторг, стало мне отвратительно. Немногочисленные причетники (в своих темных длиннополых одеяниях похожие на привидений), снующие между тонущими в тенях арками собора, и слабо блестящие в полумраке кресты святых распятий напоминали больше гигантский склеп, нежели храм, и уже трудно было поверить, что это место, оставленное теплом, светом и самой жизнью, может посетить, что-то чистое.
Наверно поэтому появление под аркой главного портала собора мальчика лет 12 произвело на меня такое тягостное впечатление. Чувства бесконечной тоски и грусти непонятным образом смешались в моей мятущейся душе с ощущением некоторой радости, и я ни как не мог понять, что из этого истинно, а что ложно. Он направился прямо ко мне, а я не знал, что мне делать, как вести себя, словно во мне боролись два существа – вчерашний священник и нечто совсем иное, проснувшееся лишь этим утром и научившее меня видеть плохое там, где ранее я был склонен видеть лишь хорошее. Один из причетников, молодой Павел, выступил навстречу мальчику, подарив мне лишнюю минутку на то чтобы хоть немного разобраться в себе, но я встретил их все с той же растерянностью.
Оказалось, что жена, жившего здесь неподалеку, через реку, кожевника, прислала в собор одного из мужниных подмастерьев с тем, чтобы просить меня приехать и осмотреть ее захворавшего супруга. Ко мне довольно часто обращаются с подобными просьбами, и обычно я не упускаю случая помочь нуждающимся во мне людям, но сегодня, первым моим побуждением было отказаться. Не знаю почему. И возможно, откажись я тогда, не было бы всего остального, но…
– Вы лучший лекарь в Сити! – с восторгом глядя на меня, воскликнул мальчик. – Вы были Чумным врачом! Вы ведь поможете нам, правда?
…наивность этого вопроса, и осуждающий за промедление взгляд Павла, убедили меня согласиться выехать к больному.
Глава IV. Изгнание
Дневник.Продолжение записей от 13 февраля 1666 года.
Кожевник Скин жил на другом берегу реки Флит и, несмотря на явное намерение моего юного провожатого пройти весь путь пешком, я, принимая во внимание свою хромоту, настоял на том, чтобы найти извозчика. Благо на соборной площади они есть всегда, это не заняло много времени, однако сама поездка затянулась. Копыта извозчичьей лошади вязли в рыхлом снегу, и мы двигались очень медленно.
Скука почти всегда наводит тоску, а тоска навевает мрачные мысли. Всего этого я уже достаточно испытал сегодня в храме и, не желая возвращаться к этому вновь, я попытался завести беседу с сопровождавшим меня мальчиком. Он был светловолос, голубоглаз и, даже для своего возраста, немного низковат. К тому же он оказался крайне неразговорчивым: все, что мне удалось из него вытянуть так это то, что его зовут Том и он, скорее приемыш семейства Скин, нежели просто подмастерье. Как бы то ни было, поддержать разговор не получилось и мне оставалось только смотреть на пустынные, несмотря на непоздний час, улицы и темные дома, которые медленно оставлял позади себя наш экипаж, провожаемый угрюмыми взглядами их окон.
Погода так же была не самой приятной: мягкий туман окутывал крыши высоких домов, дворцов и церквей, бледной пеленой скрывая от глаз и без того не яркое в это время года солнце. Было довольно холодно, а в воздухе ощущалась сырость, и я порадовался тому, что, отправляясь в эту поездку, накинул поверх сутаны длинный подбитый мехом плащ.
Всматриваясь в очертания города, я почему-то ловил себя на мысли о том, что из-за тумана не было видно крестов на куполах храмов и часовен. Но мы миновали мост Флит, и я немного отвлекся от этой мысли, развлекая себя тем, что, как ребенок, силился угадать в какой именно из домов на этой улице мы едем. Это оказалось чересчур просто, потому как все дома здесь были одинаково слепы и лишь в одном из них горели огни – туда мы и направлялись. Через минуту извозчик остановил экипаж именно у этого дома – дома, возле которого нас уже ожидала полная, розовощекая женщина лет тридцати с красными заплаканными глазами, молоденькая горничная и светивший им старичок-слуга. В свете поднятого им над головой фонаря мне были хорошо видны скорбные лица всей троицы: они выглядели так, словно метр Скин уже скончался. Я, было, решил, что опоздал, но женщина, коей оказалась сама хозяйка дома – миссис Скин, – приблизилась ко мне, пригласила в дом, и, не затрачивая лишнего времени на церемонии да приветствия, сразу же повела к больному, попутно, сквозь душившие слезы, стараясь описать мне недуг, поразивший ее несчастного супруга.
Странно, но, ни слезы миссис Скин, ни ее немного дрожащий, но в целом приятный, мягкий и необычайно звонкий голос, ни скорбь всех окружающих, почему-то нисколько не трогали меня, не вызывали к ним участия. Отчего-то мне было неуютно и в этом, казалось бы, милом домике зажиточного ремесленника, убранном рукой, казалось бы, милой и приветливой хозяйки. Всё почему-то казалось показным и фальшивым настолько, что мне хотелось поскорее закончить с осмотром и покинуть этот дом – вернуться обратно во мрак и тишину сегодняшнего собора.
Но болезнь мистера Скина оказалась куда серьезнее, чем я себе представлял. Как только передо мной открыли двери в комнату больного, я позабыл обо всех своих ощущениях и намерениях и бросился к нему. На измятой постели, чуть не вываливаясь из кровати, извивался и корчился от нестерпимой боли мистер Скин. Крепкий и сильный мужчина изгибался с таким напряжением мышц, что было слышно, как у него хрустели кости. У несчастного не оставалось сил даже на крик – только хриплые стоны вырывались у него из груди.
Я был необычайно встревожен. Собираясь к мистеру Скину, я был уверен, что ничего страшного с ним не случилось, мальчишка Том так же ничего не рассказывал мне о болезни, и я взял с собой лишь небольшой футляр с самыми простыми и необходимыми инструментами: ничего что в тот момент могло бы мне пригодиться там не было, а на моих глазах, в страшных мучениях умирал человек, которому я ничем не мог помочь.
Страшная мысль, подогреваемая к тому же стенаниями супруги больного, в тот момент пришла ко мне в голову: облегчить участь страдальца, подарить ему быструю смерть. С ужаснувшим меня самого хладнокровием я взялся за скальпель – один из тех необходимых лекарю инструментов, который таки был в моем футляре – и с молчаливого согласия домочадцев Скина приблизился к нему самому. В ту минуту я считал, что это единственно правильное решение и все же на мгновенье заколебался. В остро отточенном лезвий орудия, которым я собирался лишить жизни пусть почти безнадежного, но еще живого человека, я увидел свое отражение, свои глаза – глаза полные такого огня несвойственных мне воли, властной самоуверенности и силы, что одного только беглого взгляда на них мне хватило для того, что бы изменить своему решению и бросить вызов чуть ли не самой смерти.
Необычайный прилив сил побудил меня развить такую кипучую деятельность, что я, пожалуй, не смогу припомнить подробности всего дальнейшего: я посылал Тома за нужными мне растворами и смесями, наказывая требовать их от аптекарей со всей возможной настойчивостью; велел слугам нести как можно больше воды; приказывал подмастерьям кожевника держать своего наставника, пока сам я поил его лекарствами и отирал язвы. Сила моего влияния в тот момент была такова, что все были послушны мне и подчинялись безоговорочно. Уже через час, больному (хочется верить нашими стараниями) стало легче, а еще через полчаса он погрузился в сон.
Жизнь мистера Скина была спасена и я, наконец, смог перевести дух и поразмыслить над причиной этой страшной болезни. Все что я видел, было очень похоже на симптомы сильного отравления. «Да, кожевнику в поисках хороших шкур и кож часто приходиться посещать дубильные мастерские, где используются различные соли, известь и другие, едкие и вредные вещества» – думал я. Но причиной этого отравления было нечто иное – чей-то злой умысел. Такое отравление могло быть вызвано только ядом. И судя по тому, как он распространился по всему телу несчастного, его поили этим ядом уже давно, маленькими дозами, позволяя отраве скапливаться в организме, медленно убивая его.
Решив, что кто-то из домочадцев несчастного может оказаться его жестоким и безжалостным палачом я очнулся от раздумий и обвел взглядом комнату, в которой уже не было ни кого кроме меня и мирно спящего страдальца: «Кто же мог решиться на подобную низость?» – спрашивал я самого себя, когда случилось нечто странное.
Кожевник Скин, казавшийся надолго уснувшим, вдруг неестественно медленно приподнялся в постели, и с той же медлительностью вздымая руку, указал на меня. Пораженный и даже немного ошарашенный таким странным и неожиданным поведением больного, я взялся за золотой крест на серебряной цепочке, браслетом овивающей мою руку, и перекрестился им. Жуткий крик раздался в этот миг за моей спиной, это миссис Скин, незаметно вошедшая в комнату, увидела исказившееся страшной гримасой лицо супруга. Казалось еще немного, и она лишится чувств: c безмолвно вытянутой вперед рукой и закатившимися зрачками кожевник выглядел действительно ужасающе. Ничего не понимая, я бросился укладывать его обратно в постель, но стоило мне прикоснуться к больному, как он стал биться в судорогах, и все началось сначала: истерические крики миссис Скин и ее просьбы прекратить мучения мужа мешали мне сосредоточиться.
Я снова взялся за скальпель; но не для того о чем меня так настойчиво и слезно просили. Не зная последствия ли это отравления или что-то еще, я решил прибегнуть к универсальному средству и пустить кожевнику кровь. Однако пока я готовился к кровопусканию, с мистером Скином, так же неожиданно, произошла обратная перемена – он снова спокойно спал. Устав удивляться, и к тому же на сей раз, со всей твердостью собираясь исполнить задуманное, я быстро подошел к спящему с крепко зажатым в руке скальпелем. Увидев мою решимость, и неверно расценив мои намерения, миссис Скин со страдальческим вздохом: «Благодарю вас! Надеюсь, так будет лучше, и да простит нас Бог, если мы не правы!», без чувств опустилась в кресло. Я же, прежде чем приступить к кровопусканию, стал нащупывать у больного пульс. И вновь мое прикосновение заставило его корчиться от боли. С непроизвольно вырвавшимся у меня возгласом «бесноватый!», я отдернул руку и, заметив на ней болтающуюся цепь с крестом, остановился пораженный внезапно озарившей меня догадкой: «Он действительно одержим!».
Желая проверить правильность такого предположения, я поймал все еще дергавшуюся в болезненных судорогах руку кожевника и безжалостно приложил к ней свой крест. Несчастный кричал и дергался так, будто его клеймили каленым железом, и в довершение этого сравнения отмечу, что когда я отнял крест, на месте где он соприкасался с кожей мистера Скина остался его явственный отпечаток. Не размышляя и не колеблясь более, я отворил вену больного (или теперь правильнее будет написать – бесноватого) и, видя, что дурная кровь не спешит выходить из этого измученного тела, тут же увеличил надрез. Тщетно! Кровь будто присохла к жилам. И тогда я догадался приложить к ранке крест: крик, запах паленой кожи и струйка горячей темной крови, вытекающая из надреза с каким-то отдаленно похожим на женский шепот свистом, указывали на то, что мера возымела свое действие. Постепенно звук похожий на шепот стал стихать, а кровь становилась все чище. Вместе с кровью менялось и поведение больного: к той минуте, когда миссис Скин пришла в себя, ее супруг вновь спал крепким и теперь уже действительно мирным сном, а я мог быть уверен, что моя работа, как врача и как священника, здесь закончена.
Меня провожали все: миссис Скин, Том, подмастерья, прислуга. Они изъявляли мне свою благодарность и признательность за «все, что я для них сделал», но, как и прежде, меня ничуть не трогали их слова и чувства; в них сквозила некая фальшь, или точнее натянутость. И мне снова вспомнился давешний сон: уж больно приторным был тон хозяйки, слишком показательна учтивость слуг, а выражаемые ими подобия светлых чувств были столь неестественны и прозрачны, что сквозь них явственно проглядывала некая нотка разочарования.
Всё это напоминало мне плохой и, к тому же, дурно реализованный спектакль: дом четы Скинов со всем его убранством – декорации; слезы из покрасневших глаз – театральный трюк; а все они – далеко не самых талантливых актеров, которые, все же, играют свою роль с понятным намерением внушить зрителю, что всё происходящее на сцене – реально. Я понимал, что это только игра, но еще одна театральная уловка, вроде той, которую используют на своих представлениях фокусники, желая доказать, что их фокус – настоящее волшебство, и вызывают в качестве помощника человека из числа зрителей, втянул меня в нее. Я все еще осознавал, что это спектакль и не верил ему, но, тем не менее, был вынужден принимать в нем участие – быть может незавидное, в связи с его вынужденностью, но еще более того неприятное, из-за той роли, которая, кажется, была мне в этом спектакле уготована. И при всем этом, мое положение в разыгрываемом здесь фарсе оказалось далеко не самым худшим: несчастный страдалец, больной кожевник Скин – вот еще один вынужденный (ибо сыграть такие муки невозможно) участник представления. Он был отравлен для выполнения своей роли, двинулся умом от нестерпимой боли (так в тот момент я объяснял себе его одержимость, не до конца веруя в то, что сам же видел) и все это ради неведомой цели жестокого организатора этого страшного спектакля. Цели, которая возможно навсегда останется для нас обоих тайной, как и личность того кто все это устроил.
Сочувствие несчастному больному, заставило меня обернуться, но я увидел лишь плотно закрытую дверь в комнату, только что мною покинутую, и лица провожавших меня «бесталанных актеров», похожие на грубо слепленные старинные маски, изображающие и печаль и радость одновременно. Все настоящие чувства остались в комнате больного, а здесь… мне делать было уже нечего. И уходя, я надеялся лишь на то, что после моего посещения бедного кожевника оставят в покое, и никто не отважится отравить его вновь.
Глава V. Падение
Дневник.Окончание записей от 13 февраля 1666 года.
Я чувствовал себя разбитым, усталым. Мне очень хотелось поскорее вернуться в свою маленькую тихую келью, лечь в постель и забыться сном, с надеждою на то, что в этот раз он принесет мне отдохновение, успокоение и быть может забвение. Но на узенькой улочке, где ютился дом Скинов, нечего было даже надеяться найти наемный экипаж и я, медленно ковыляя, отправился в собор пешком.
Было довольно поздно. Туман уже опустился с крыш домов к их подножью и сгустился до такой степени, что дальше трех шагов разглядеть что-либо было непросто. Дома и раньше отчего-то казались безлюдными, а теперь такими же стали и улицы. Только на мосту Флит несколько раз дорогу мне перебежали кошки, наверняка встревоженные, отдаленным собачьим воем, раздававшимся с той стороны реки. Оставалось лишь догадываться о его причине, ведь трудно представить, чтобы сквозь туманную мглу можно было увидеть луну.
Как бы то ни было, этот вой, временами перемежавшийся с лаем, заставил меня ускорить шаг. Я опасался разбойников. Поздний вечер, густой туман, пустынные улицы: все делало это время очень удобным для воров и убийц. И, кажется, я имел основания для тревоги: меня вновь начали терзать предчувствия, а за каждым столбом или тумбой мне чудились тени. Столько неприятных, грустных и подчас страшных событий произошло со мной за день, что даже сама мысль: «Этот день еще не закончился», вызывала странное ощущение того, будто должно случиться что-то еще – нечто такое, что стало бы венцом всей этой череды несчастий. С нетерпением и страхом я ожидал этого события, надеясь, что хоть на сегодня оно окажется последним.
Погруженный в такие мысли, я не заметил, как туман расступился вокруг меня, и я оказался во дворе собора. Из задумчивости меня вывели какие-то голоса: прямо посреди двора стояли и разговаривали двое – мужчина и женщина. Чем ближе я подходил к ним, тем отчетливее слышал, как они ругаются, то и дело, повышая друг на друга голос и постепенно переходя на крик. Мужчина лет пятидесяти, среднего роста, с жесткими чертами лица, одетый в богатый, но сильно помятый костюм, выглядел крепким, изрядно подвыпившим и… почему-то смутно знакомым. Будто я видел его во сне или прошлой жизни, память о которых хранится где-то в недрах сознания, изредка извлекаемая наружу в виде неясного ощущения чего-то виденного мельком и уже давно позабытого.
– Нет, дрянная женщина! Нет, ведьма! Он простит меня. Это ничтожество всегда прощает! – очень громко, грубо, не стесняясь в выражениях, кричал он на миловидную девушку лет двадцати пяти, рыжие локоны которой виднелись из-под глубокого капюшона ее короткого плаща, накинутого поверх скромного и недорогого черного платья с алым шитьем, перетянутого корсетом фиолетового цвета, выгодно подчеркивавшим ее стройную фигурку. Та в свою очередь в долгу не оставалась.
– Как бы ни так! Забудь, что знал о нем, огнем, горит теперь в нем дух мятежный! – отвечала она до странности красивым слогом и голосом. А вместе они поднимали такой шум, что я, помнится, был удивлен тому, как эти люди до сих пор не привлекли к себе внимания патруля городской стражи или привратника собора.
Я знал, что не должен вмешиваться. Такие ссоры случаются у всех, случаются часто, сплошь и рядом – поругаются, успокоятся да помирятся.
«Выскажут друг другу все, что думают, облегчат душу, глядишь, еще дружнее станут» – решил я, проходя мимо. Но не успел я отойти, как за моей спиной коротко вскрикнула женщина. Я обернулся и увидел, как мужчина поднял свою тяжелую ладонь над этой хрупкой, испуганно сжавшейся в ожидание удара, девушкой. Вот уж этого я никак не мог допустить. С решимостью подобной той, что подняла меня на борьбу с болезнью в комнате кожевника Скина, я встал между ними в надежде не допустить рукоприкладства. Но этот человек опустил поднятую для удара руку на мое плечо и со словами «Не вмешивайся, святоша!», сказанными нетрезвым, но, опять же, таким знакомым голосом, грубо толкнул меня на землю.
Когда я почувствовал его прикосновение, мне показалось, что мои глаза вновь наполняются сверхъестественным огнем, как в доме Скинов. Но если ранее этот пламень придал мне решимости на благое дело, то сейчас меня передернуло от чувства, которого я раньше никогда не испытывал, и более того, считал себя неспособным когда либо испытать его. Это чувство – чувство непреодолимой ярости, ярости столь сильной, что гнев, поднимаясь из глубин души, застилает глаза кровавой пеленой и ты, целиком и безотчетно, подобно одержимому, впадаешь в какое-то безумное неистовство, будто само зло овладевает тобой.
Как ни мимолетна была эта вспышка, ее все ж оказалось достаточно для того, чтобы падая, я успел изо всех сил выбросить вперед руку, на которой висел тяжелый золотой крест. Удар был страшный! Я не видел, куда именно угодило распятие, но этот здоровый и крепкий мужчина мгновенно обмяк. Без вскрика, без стона… совершенно беззвучно… Он еще не успел упасть, как я осознал весь ужас совершенного мною поступка. Не поднимаясь, как был, на четвереньках, я приблизился к нему и убедился в худшем – он умер! Мои глаза застыли от ужаса: «Что же я наделал?!». Но свершилось то, чего я ожидал.
«Вот он – венец всех несчастий!» – сокрушался я, поддерживая в своих руках, истекающую кровью, голову жертвы невольно совершенного мною преступления. Казалось, ничто не может быть ужаснее того, что уже случилось. Казалось! Но лишь до тех пор, как еще одно существо (ибо я сомневаюсь в том, что это была женщина) присутствовавшее при этом… засмеялось.
Я смотрел на нее не в силах вымолвить ни слова от охватившего меня отчаяния и примешавшегося к нему удивления, а она… смеялась, и это было страшно. Еще более страшно от того, что смех ее был искренне счастливым. Я смотрел на ее развивающиеся рыжие волосы, выбившиеся неизвестно откуда налетевшим порывом ветра из-под капюшона; на ее большие серые глаза, на женственность черт ее прекрасного лица и не мог поверить, что смерть одного человека и «падение» другого могли доставить этому ангелу такое удовольствие. Но я и по сию пору, как наяву, вижу перед собой искорки ее красивых смеющихся глаз и раскрытый в радостном хохоте рот, обнажающий обрамленные линиями прелестных розовых губ маленькие белоснежные зубки, и у меня не остается более сомнений – она действительно была рада.
Пораженный, я поднял руку для того чтобы перекреститься, но заметив мое движение эта «страшно-прекрасная» женщина вдруг перестала смеяться, выражения радости сменилось на ее лице недоумением и какой-то даже растерянностью, а в глазах, которые казалось, стремились заглянуть мне прямо в душу, появилась непонятная смесь страдания и надежды. Выпростав из-под плаща свою тонкую поражающую изяществом руку, она призывным жестом протянула ее в мою сторону, будто желая увлечь меня за собой или удержать, что-то от нее ускользающее.
Я, было, отвлекся, наблюдая эту перемену, но вдруг с удивлением заметил на ее руке, чуть повыше запястья, ожог в виде креста. Еще так недавно я оставил подобный след своим распятием несчастному Скину, чтобы можно было ошибиться. И я продолжил креститься. Целая гамма чувств отразилась тогда на ее лице: отчаяние, раздражение, ярость, сменяя друг друга, преображали этот прекрасный лик; гнев же окончательно исказил его. Пылая охватившей ее злобой, она бросилась на меня и я, так и не закончив сотворение крестного знамения, отвернулся, прикрывая себя рукой от дьявольского виденья. И она… исчезла. Растворилась, оставив вместо себя облачко густого черного дыма, зависшее в нескольких дюймах от меня и скоро так же рассеявшееся. Однако это не стало для меня облегчением, ведь стоило ей исчезнуть, как вокруг меня вновь сомкнулась плотная завеса белесого тумана, а откуда-то сверху крупными хлопьями повалил снег. Все это сливалось в сплошное белое месиво, создавая впечатление окружающей меня пустоты, обостряемое к тому же абсолютной, ничем не нарушаемой, тишиной. И в этой пустоте существовали теперь только я и бездыханное тело человека, чья жизнь была невольно мною прервана. Во всем мире я остался один на один со своей жертвой, один на один с грехом. И я должен был принять его, но не смог. Я должен был раскаяться, подвергнуться суду и позволить свершиться возмездию. Но если за раскаянием дело не стало, то публичному признанию я предпочел этот дневник, суду – совесть, а казни – жизнь.
Я встал, все еще не торопясь уходить, и, поднимаясь, нащупал на снегу какой-то предмет, инстинктивно сжав его в ладони. Почти с радостью, и уж точно с благодарностью, я следил за полетом крупных снежинок, которые медленно кружась и падая, скрывали под своим покровом, холодным и сырым, как сама могила, следы моего преступления. Без сомнения, однажды я отвечу за него, но то будет уже не перед людьми, а перед богом.
Я решился, и уже не собираюсь отступать от своего решения, каким бы трусливым и бесчестным оно ни было. Но я не успокоился. Можно утаить вину от других (что я к стыду своему и делаю), но не от самого себя. Поэтому, вернувшись в храм, мне первым делом хотелось помолиться. Но мой взгляд все время натыкался на распятия и я содрогался: таким же, крестом я только что убил человека. Суеверная мысль одолевала меня: «Священный символ отныне вызывает у меня отвращение и страх. Перед людьми я буду вынужден лгать и притворяться, а пред собой – всегда видеть призрак сокрытой мною тайны, возникающий в душе вечным напоминанием нечистой совести. Воистину я проклят!».
В отчаянии я сжал кулаки, чтобы не закричать от раздирающих меня горя, сомнений, безысходности… и вдруг почувствовал, что в руке моей, что-то есть. Действительно, я все еще держал подобранный во дворе предмет, коим оказался маленький кошелек без вензелей и других знаков. В нем не было ничего, кроме черной и белой жемчужин.
«Margaritas1» – в изнеможении прошептал я, и вконец раздавленный, обессиленный, поднялся в свою келью, оставил там письмо, крест и жемчуг, – предметы, которые теперь даже видом своим угнетают меня, – и удалился в тайную комнату, где дописываю последние строки этой несовсем обычной исповеди, с надеждой никогда больше к ней не возвращаться.
***
Человек в черной сутане отложил в сторону перо; медленно, словно вспоминая, не забыл ли чего, отодвинул от себя тетрадь, в которой только что поставил точку и, погасив огарок наполовину догоревшей сальной свечи, тяжело спустился в келью. Прихрамывая, добрел он до своей постели и уже через минуту забылся сном, посланным природой не за грехи, а за страдания его.
Глава VI. Смерть у храмовых врат
Ранним утром 14 февраля 1666 года сторож Собора святого Павла расчищал двор от выпавшего за ночь снега. Привыкший к выполнению такого рода обязанностей он небрежно и не торопясь орудовал лопатой, подготовляя для прихожан тропинку к храму. Вдруг он заметил что-то под сверкающим снежным покровом и наклонился, чтобы получше рассмотреть находку, от которой тут же в ужасе отпрянул. Лицо сторожа, до сих пор красное от мороза, заметно побледнело; он отступил еще на пару шагов, уронил лопату и, рассекая доходившие ему до колена сугробы, бросился бежать.
Четверть часа спустя он вернулся в сопровождении человека одетого в неброский черный костюм характерный для докторов и младших судейских чиновников. Этого человека сторож подвел к месту, которое сам только что так спешно покинул, и обратил его внимание на нечто сокрытое в снегу неподалеку от брошенной лопаты. Человек в черном присмотрелся, подошел ближе и склонился над чем-то чрезвычайно его заинтересовавшим, в то время как сторож, не решаясь сделать более и шагу в сторону страшной находки, в тревожном ожиданий замер немного поодаль. Он заметно волновался, и когда незнакомец, закончив осмотр, выпрямился и с задумчивой медлительностью двинулся к нему, сторож встретил его такой скорбной миной, словно должен был услышать приговор, в суровости которого уже не сомневается. Подняв потухший, почти безразличный взгляд, в котором казалось, застыл немой вопрос: «Ну что?», на человека в черном, он смиренно ждал убийственного: «Виновен!». Но тот ободряюще улыбнувшись, произнес несколько слов, от которых лицо сторожа, выражавшее лишь безнадежную покорность судьбе, вдруг осветилось небывалой радостью, скрывшей под своими лучами, даже промелькнувшее было облегчение. Сторож с чувством схватил руку этого человека и с минуту тряс ее в искреннем порыве благодарности, после чего, с той же поспешностью что и раньше, выбежал со двора собора. Его спутник, оставшись в одиночестве и не зная, что ему теперь делать: ждать или уйти; простоял некоторое время на месте, проявляя, однако, признаки легкого нетерпения. Потом посмотрел на возвышающийся перед ним собор и, как будто что-то припомнив, ушел.
***
Через полчаса в округе не осталось человека, который не знал бы, что во дворе Собора святого Павла был обнаружен труп убитого мужчины. Не в последнюю очередь узнали об этом Лондонские власти. Но когда Адам Дэве – полицейский констебль, в сопровождении двух солдат и сержанта городской стражи, прибыл к собору, там уже обосновалась немалая толпа зевак и любопытных. В центре внимания всех этих людей были естественно труп и человек его обнаруживший. И если первый не вызывал у равнодушного народа за время чумы привыкшего к виду мертвецов особого интереса, то последний был для него фигурой довольно примечательной. Заинтересовав столь многих и сразу, этот субъект почтенного возраста поначалу немного смешался, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы собравшихся, но скоро освоился, и стал рассказывать «как все было» добавляя подробности собственного сочинения и даже получая от этого некоторое удовольствие.
К нему-то и направился Дэве. Но когда он обратился к сторожу (а это был именно он) с вполне обычной просьбой ответить на несколько вопросов, тот, с оттенком нагловатости и явно набивая себе цену, сказал:
– Вы, сударь, малость припозднились. Уже битый час я только этим и занимаюсь, и не имею никакого желания начинать все сначала.
Однако стоило ему закончить фразу, как в толпе послышались смешки и перешептывания: в человеке больше похожем на среднего достатка буржуа или небогатого дворянина, чем на полицейского, многие узнали довольно известного в прошлом сыщика.
– И все-таки мне придется побеспокоить вас расспросами, – обычным для себя скучающим тоном сказал Адам, к которому подтянулись сержант и оба солдата, превратив еще только предположения в уверенность, что это действительно он.
– Конечно, конечно, ваше превосходительство, – окидывая быстрым тревожным взглядом мундиры городской стражи и смущенный осознанием своей ошибки, подобострастно затрещал сторож. – Спрашивайте! Всегда буду рад помочь вашему превосходительству.
Адам скривил губы в каком-то подобии улыбки.
– В первую очередь, я хотел бы знать…
– О-о! Естественно, что ж мы не люди, не понимаем?! – перебил его сторож, стараясь своим рвением, загладить свою же оплошность. – Вы только спрашивайте, ваше превосходительство, а я вам все как подобает, подробненько изложу.
– … как вы обнаружили тело?
– Очень просто, ваше превосходительство. Я со всем усердием, как обычно, расчищал двор от снега и вдруг почувствовал – лопата во что-то уперлась. Наклонился посмотреть, а там вот он, – добросовестно отвечал сторож, с непонятным призрением кивая в сторону окоченевшего трупа.
Адам Дэве заметил эту легкую неприязнь к погибшему в его словах и уже собирался задать ему следующий вопрос, когда тот снова перебил сыщика неожиданным признанием.
– Я даже поначалу решил, что это я его… ну… того… не заметил пьяницу под снегом да лопатой-то и убил, – пряча глаза, сбивчиво пробормотал честный старик, и, заметив исподлобья, как сурово вздымаются брови сыщика, тут же поспешил оправдать себя. – Но доктор (я ж первым делом за доктором побежал, ваше превосходительство) сказал, что это никак невозможно и этот вот, – тем же, жестом указывая на тело, говорил сторож, – здесь уж как несколько часов лежит. Вон синий какой!
– А где этот доктор? – спросил удивленный такой откровенностью Адам.
– Так он это… ушел уже, – простодушно ответил сторож, но, видя уже знакомое движение бровей полицейского, добавил: – Его здесь все знают и, если вашему превосходительству будет угодно, за ним можно тотчас же послать.
– Ненужно, – задумчиво проговорил Адам, но сопровождавший его сержант уже сделал знак одному из своих солдат и тот растворился в толпе. – Лучше скажите, почему вы, считая себя убийцей, не бросились бежать, не стали прятаться, а вместо этого тут же подняли шум.
– Хе-хе, – хитро ухмыльнулся сторож, – а куда ж мне деваться-то, ваше превосходительство? Все ж ведь знают, что это я во дворе при соборе уборкой занимаюсь. Так или иначе, меня бы спрашивать стали, а сбеги я так и без вопросов меня бы виноватым сделали, – логично рассуждал он. – У вас ведь как? Вам только повод дай. А нету, так вы сами придумаете, было б для кого. И потом я уже имел удовольствие сообщить вашему превосходительству, что сначала позвал доктора (кстати, своего хорошего знакомого), а уж когда он меня, благослови его боже, успокоил, я и поднял то, что вы изволили назвать шумом.
Дэве задумался над словами сторожа и, найдя их вполне естественными, не стал его больше задерживать, но тот, решив для себя не отходить далеко от констебля, пока не будет в полной мере оправдан, проследовал прямо за ним до места, где небольшая группа людей все еще окружала погибшего. Тем временем вернулся стражник, а за ним шел человек в черном, оказавшийся тем самым доктором, о котором говорил сторож. Он подтвердил все, что здесь до него говорилось, добавив только, что ушел, потому как торопился к одному из своих пациентов, и не спешил назад, зная о том, что в Соборе святого Павла есть врач куда более искусный, чем он сам.
– А значит, для установления времени и причины смерти несчастного мое присутствие не было обязательным, – заключил он.
Стражник же по военной привычке отрапортовал своему сержанту, что застал доктора выходившим из дома одного горожанина болезнью прикованного к постели, тем самым в свою очередь, подтвердив слова уже самого доктора. Этим бы все, наверное, и закончилось, если бы сторож, оказавшийся теперь вне всяких подозрений, не усмехнулся в ответ на слово «несчастный», произнесенное доктором в адрес погибшего.
– Несчастный?! – с выражением крайнего и теперь уже явного отвращения, пробормотал он. – Как бы ни так! Поделом ему. Мне даже жаль, что кого-то, быть может, казнят за доброе дело: вот кто будет действительно несчастен.
– О чем это вы? – спросил сыщик, не переставая удивляться этому человеку. – Вы, что были знакомы с погибшим?
Сторож понял, что сболтнул лишнего.
– Ну, не то чтобы знаком…
– Нет, вы знали его, – с нажимом сказал Дэве. – Знали и ненавидели…
– Его все ненавидели! – раздраженный тем, что его снова подозревают, вскричал сторож и, заметив, что привлек этим криком внимание толпы, широким жестом указал на собравшихся во дворе людей. – Можете сами в этом убедиться.
Толпа зашевелилась, почувствовав возможность самой поучаствовать в следствии, и людским потоком хлынула в сторону Адама Дэве и сторожа с похвальным намерением оказать содействие полицейскому констеблю, а вместо этого чуть было не задавив его. Чтобы волнение не переросло в нечто большее сержант во главе своей пары стражников спешно бросился успокаивать людей. Единственным действенным средством для этого было предложить им вопросы, которых они ожидали. И общая ненависть, как ни странно, утихомирила народ: сторож оказался прав – покойник был здесь широко известен и далеко не с лучшей стороны. Люди, перебивая друг друга, осыпали представителей городской стражи жалобами, словно позабыв, что их обидчика уже постигло наказание в виде насильственной смерти. Ничуть не смущаясь тем, что он – мертвый, – лежит рядом, его называли грязным пьяницей, сволочью и бабником, только стыдливо краснея на наивный вопрос «Почему?», задаваемый растерявшимися в этой буре сквернословия военными.
Наконец кто-то произнес:
– Даже не верится, что у такого паршивого человека, такой святой племянник!
Адам Дэве, в котором начал просыпаться интерес, поспешил ухватиться за эти слова.
– У погибшего есть племянник?
– Точно так, ваше превосходительство, – отвечал сторож, ни на шаг от него не отходивший. – Священник (кстати говоря, в этом самом соборе настоятельствует) и действительно святой человек, к тому же доктор, и, да простит меня мой друг, хоть он и сам того же мнения, – наиискуснейший.
Человек в черном благосклонным кивком подтвердил, что не обиделся и признает, как превосходство над собой лекаря из собора, так и истину слов сторожа. Но Адам Дэве, узнав все, что ему было нужно, больше не обращал на них внимания. Он уже протискивался сквозь народ к группе, стоявших обособленно от толпы, священников. Они выглядели весьма озабоченно и с беспокойством поглядывали вокруг, видимо осуждая такое непочтительное отношение народа к мертвому, душа которого в этот момент, должно быть, предстает перед самим Господом.
Поприветствовав достопочтимых служителей собора вежливым поклоном и получив в ответ такой же, но более церемонный и сдержанный, Дэве изъявил свое желание встретиться с настоятелем.
– Его преподобие архидьякон Люциус Флам не может выйти к вам, – отвечал, выступив вперед один из причетников. – Ему нездоровится.
– Вот как? А не будет ли с моей стороны навязчивостью поинтересоваться, в чем недуг господина архидьякона?
Причетник замялся, явно не зная, что сказать, однако изысканная вежливость, с которой был задан вопрос, требовала на него ответа.
– Позавчера во время своей вечерней прогулки его преподобие отец Люциус поскользнулся и упал с моста в реку, – проговорил священник и, чувствуя по воцарившемуся вокруг молчанию, что ему не верят, тем не менее, продолжал: – Каким-то чудом его преподобие тут же прибило к берегу, и когда несколько горожан принесли его в собор, он был весь в грязи, мокрый, без сознания, но живой. Мы омыли его, переодели и уложили в постель занимаемой им кельи. Всю ночь он бредил, шептал, что-то о падении, а на утро, кажется, решил, что все это ему… приснилось.
Причетник еще не закончил говорить, а Дэве уже пристально смотрел на него не в силах понять бестолково или же просто издевательски тот врет, ни минуты, при этом, не предполагая, что все это может оказаться правдой. Священник нерешительно оглянулся на товарищей, будто ожидая от них подтверждения своих слов, но встретив лишь смущенные взгляды, растерянно опустил голову. Всё присутствующее во дворе собора общество также дышало недоверием, когда среди общего замешательства раздался тихий, но донесшийся до всех и каждого, возглас:
– Разве у кого-то есть повод сомневаться в словах служителя церкви?!
Слова эти были сказаны с таким напором и твердостью, что люди стали невольно оборачиваться в сторону человека их произнесшего; а узнавая его, склонялись в почтительном поклоне. Это, облаченный в длинную черную сутану, подчеркивавшую его бледность, прихрамывая на левую ногу, медленно выходил из собора архидьякон Люциус Флам.
Скрываясь в тени портала, он слышал все сказанное Павлом и поначалу не понимал, что заставляет причетника лгать. Он боялся, что тот подозревает (или того хуже – знает) о его причастности к преступлению и почему-то скрывает это.
«Ведь он провожал меня, когда я собирался к Скинам, – думал Люциус, – и должно быть дожидался моего возвращения в своей келье. Даже если он выходил из собора, из-за тумана он не мог видеть, того что происходило в глубине двора. Но время, когда я вернулся, могло натолкнуть его на мысль о моей виновности в этом убийстве».
Тревожное чувство закралось тогда в сердце священника. Но двенадцатое февраля непонятным образом выпадало из памяти архидьякона, а сопоставляя свой сон с рассказом Павла, он все более убеждался в его правдивости, вместе с тем успокаиваясь относительно того, что могло быть известно Павлу об убийстве.
Теперь он мог опасаться только Адама Дэве. И выходя из тени собора, с взглядом, горящим подобно взору идущего на битву война, он выходил на словесный поединок с полицейским констеблем, который сам того не осознавая начал сражение весьма ощутимым ударом по противнику.
Дело в том, что пока Люциус собирался с мыслями, понимая, что в этом бою ему придется только обороняться, к Адаму с разных сторон одновременно подбежали оба рядовых солдата городской стражи. Один из них подтвердил слова Павла, умудрившись найти в толпе человека помогавшего отнести архидьякона в собор после его падения в реку, а другой, тихо прошептал на ухо полицейскому несколько ни кем не расслышанных слов. Впрочем, констебль лично позаботился тут же довести их до суда общественности.
– Однако я счастлив узнать, что плохое самочувствие не помешало его преподобию отправиться вчера вечером к человеку видимо более изнуренному болезнью, чем он сам, – сказал Дэве, и чуть повернувшись, предоставляя миссис Скин возможность выйти вперед, добавил: – По крайней мере, так говорит эта женщина.
Ее появление заставило архидьякона едва заметно вздрогнуть: она была еще одним человеком, который сопоставив время, мог прийти к выводу о его виновности в преступлении.
– Мне показалось, сударь, будто в ваших словах промелькнул скрытый упрек в мой адрес, – без тени волнения, но не спуская с миссис Скин настороженного взгляда, проговорил Люциус. – Вы ставите мне в вину желание помочь нуждавшемуся во мне больному, пусть даже сам я чувствовал себя в тот момент, мягко говоря, неважно?
Человек в черном сделал коллеге одобрительный жест, а в толпе раздался восхищенный шепот: благородное величие его слов произвело хорошее впечатление; и вопреки своим ожиданиям архидьякону удалось, обороняясь перейти в нападение. Встревоженный таким поворотом событий Дэве поспешил исправиться, не оставляя при этом надежды поймать священника на какой-нибудь мелкой оплошности:
– Ну что вы! Как можно?! Мне просто любопытно, насколько серьезной должна быть болезнь одного и насколько ничтожным недомогание другого, чтобы второй страшным туманным вечером отправился на помощь к первому и пробыл там ровно до полуночи, то есть почти до того самого времени, когда по мнению доктора и произошло убийство?
Доброго священника и врача внимательного к несчастьям простого народа здесь очень любили и уважали, а в этом вопросе, хоть и завуалированном изрядной долей вежливости, так явно сказалось подозрение, что шепот в толпе стал быстро преображаться в недовольный гул не приглушенных голосов. Но Люциус, зная, что для полицейского мнение обычных людей далеко не так важно, как точные показания свидетелей, в который раз посмотрел на миссис Скин. И когда его вопрошающий взор встретился с ее выжидающим взглядом, он понял, что единственный способ скрыть одну правду – утаить другую.
– Во-первых, сударь, – начал архидьякон самоуверенно резким тоном, – даже не смотря на то, что кожевник всего лишь лихорадил, я, тоже будучи не столь безнадежно болен как вы должно быть себе вообразили, был обязан своим посещением успокоить семью больного и его самого, а также уверить их в том, что болезнь эта не опасна.
– Сами понимаете, – вставил кто-то. – Такое время!.. любая хворь вызывает опасения. А вдруг, не приведи господь – чума!
– К тому же, – продолжал Люциус, легким кивком поблагодарив неизвестного за поддержку, – вы должно быть неверно информированы, ибо я вернулся в собор задолго до двенадцати. Во всяком случае, возвращаясь, я не слышал, чтобы, где бы то ни было, пробило полночь.
Сказав это, он устремил в сторону миссис Скин выразительный взгляд, как бы требуя взамен того, что он ни словом не обмолвился об отравлении, подобной же услуги. Та, незаметно наклонив голову, дала знать, что поняла и согласна.
– В самом деле, ваше превосходительство, – подхватила она, – я сказала только то, что вчера вечером преподобный отец из Собора святого Павла осматривал моего больного супруга и довольно поздно покинул нас; и только… – притворяясь неправильно понятой, говорила эта женщина. – Его преподобие ушел от нас пешком, и мы очень беспокоились, поэтому, сегодня я пришла в собор проведать отца Люциуса и еще раз выразить ему нашу признательность. Понятно: увидев здесь толпу и услыхав толки об убийстве, я испугалась за человека с такой чуткостью отнесшегося к нашему горю; тут спросила, здесь поинтересовалась, там слово сказала, ну оно и пошло – судачить стали, а ваш помощник уж тут как тут, навыдумывал себе невесть чего и сразу вот к вам потащил.
Разбитый по всем пунктам Адам Дэве, кусая губы, направил взор полный немого упрека на раскрасневшегося то ли от холода, то ли от стыда, то ли от ярости стражника. Люциус Флам наоборот, сумев привлечь на свою сторону двух самых опасных после Дэве (а может быть, включая Дэве) людей: одного – наивной верой в свою непогрешимость, другую – знанием ее тайны; был как никогда спокоен, и следующий вопрос полицейского уже не таил для него угрозы.
– Если ваше преподобие вчера были в состоянии совершить поездку на Флит-стрит и пешком вернуться обратно, почему же сегодня, мне сказали, что вы больны и не можете спуститься, чтобы просто ответить на несколько вопросов? Это притом, что вы таки спустились и даже изволите отвечать?
– Наверно потому что сегодня мне стало хуже, – отвечал архидьякон, своеобразным жестом обращая внимание констебля на свою хромоту и нездоровую бледность. – Возможно как раз таки после упомянутого вами пешего возвращения, ведь было сыро, да и путь неблизкий. Что же до моих братьев-священнослужителей… – продолжал он, – вы должны простить их: если они немного преувеличили, то только из-за порой излишнего беспокойства о моем здоровье.
Но Дэве неспроста задал такой вопрос. Отступая, он готовил себе пространство для последнего – решающего удара.
– Значит, вы действительно плохо себя чувствуете? – изображая удивление, переспросил Дэве, и как-то поникнув, сказал: – В таком случае мне будет еще более неудобно огорчать вас неприятным известием, которое я имею несчастье сообщить вам. И я заранее прошу у вас за это прощения.
Он сделал паузу, как бы не решаясь продолжить.
– Что такое? – насторожившись скорее притворством констебля, нежели его намерением сообщить нечто неприятное, спросил Люциус.
– Как ни прискорбно это говорить: сегодня ваше преподобие потеряли убитым родного человека.
Дэве сказал это, старательно делая вид, будто избегает смотреть в глаза несчастному, которому только что сообщил о смерти родственника, хотя на самом деле был готов заметить любую мелочь способную выдать его. Но, ни малейшее облачко не затуманило лица архидьякона, ни малейшая тень не омрачила его чело, и все чем пришлось довольствоваться Дэве при всей его наблюдательности – едва заметный налет грусти в голосе Люциуса холодно произнесшего:
– У меня больше нет родственников! И если вам, сударь, было угодно подшутить над моим горем, знайте – такие шутки отвратительны!.. и не делают чести тому, кто осмелился произнести их.
В толпе снова повисло молчание. Народ был уверен, что убитый ни кто иной как Алджернон Пичер – дядя его преподобия отца Люциуса, но в то же время хорошая репутация архидьякона и его твердая уверенность в своих словах не оставляли повода для сомнений в том что он сказал правду или, по крайней мере, искренне считал сказанное правдой. Так как одно, в данном случае, противоречило другому, возникло недоумение. И мнение людей привыкших верить больше глазам своим, чем ушам склонилось не в пользу Люциуса. Однако Адам Дэве имевший, казалось бы, поболее других оснований уличить архидьякона во лжи не мог этого сделать. Не мог только потому, что сам, будучи человеком достаточно умным, он никогда не рискнул бы заподозрить другого человека в такой глупости, как отрицая очевидное, упустить из рук уже почти одержанную победу. И хотя Дэве был доволен тем, что авторитет Люциуса в глазах народа заметно пошатнулся, он не испытывал радости: здесь не было его заслуги, здесь не было ошибки противника, здесь было… какое-то недоразумение.
Схватив архидьякона за руку, констебль быстрым шагом, увлекая за собой священника, двинулся сквозь расступавшуюся перед ними толпу к брошенному всеми трупу.
– Узнаёте? – коротко, но достаточно громко, чтобы все могли его слышать, спросил Дэве, указывая на посиневшее бездыханное тело.
Он вперил свой тяжелый, почти ощутимый, взгляд в лицо Люциуса, собираясь уловить все оттенки его реакции на это зрелище. Он надеялся увидеть смущение, чувство вины, что угодно лишь бы это дало ему возможность обвинить архидьякона в убийстве или хотя бы зацепиться за подозрение. Но и эти надежды пошли прахом: неподдельное удивление и боль отразились во всем облике священника; у него задрожали губы, а без того бледное лицо архидьякона пошло серыми пятнами. Сегодня, при свете дня, будто озарившем глубины его памяти, ночью сокрытые тьмой, он узнал барона Анкепа, который вчера показался ему лишь смутно знакомым.
Архидьякон отступил на несколько шагов, будучи не в силах оторвать взгляд от мертвого тела дяди; затем резко развернулся и, не говоря ни слова, скоро исчез в соборе, оставив растерянную толпу, ошарашено переглядываться с самым непонимающим видом. Никто не мог объяснить странного поведения отца Люциуса, но никто не бросился за ним вдогонку. Все видели ту гамму чувств архидьякона, которая проявилась на его лице, неприкрытая даже намеком на притворство, и говорила лишь о страдании. Не упустил этого и Адам Дэве: констебль выглядел больше всех растерянным. Он перестал что-либо понимать.
Скоро в арке главного портала собора вновь появилась фигура архидьякона. В руках он нес лист бумаги, который, молча, подал Адаму. Дэве прочитал письмо и, заметив, что сторож пытается проделать то же самое, выглядывая у него из-за спины, протянул письмо сержанту стражи, чтобы тот прочел его вслух – для всех. Это письмо оказалось уведомлением о смерти Алджернона Пичера, и было датировано… одиннадцатым февраля. Констебль, уже успевший ознакомиться с письмом, не слушал сержанта громким раскатистым голосом, хорошо слышимым даже в самых отдаленных закутках соборного двора, оглашавшего его содержание. Он был уничтожен. Это письмо объясняло те единственные слова архидьякона, на основании которых его еще можно было подозревать.
– Конечно… – вполголоса пробормотал Дэве, – теперь, если верить этому письму, выходит, что у преподобного отца Люциуса уже три дня как нет родственников.
К такому же выводу пришли и люди в толпе. Они не знали, как отнестись к тому, что о смерти человека убитого в ночь с тринадцатого на четырнадцатое февраля сообщалось в письме от одиннадцатого, но одно они знали точно: подозревать в этом преступлении архидьякона – немыслимо. Однако, несмотря на все неудачи, Дэве уже не просто подозревал архидьякона – он почему-то был уверен в его виновности, уверен в том, что убийца именно он и никто другой. Вот только что-то непостижимое было в этом человеке и это что-то отражало все направленные на него удары.
– Десятого числа он умер, – вслух начал рассуждать констебль, – одиннадцатого было отправлено письмо и, даже если учесть все возможные задержки на пути курьера, должно было быть доставлено вечером двенадцатого. – Он улыбнулся. – Скажите, ваше преподобие, а не было ли падение с моста попыткой самоубийства? Ведь тяжело, наверное, остаться последним в вымирающем роду?!
Толпа взорвалась бурей негодования. Это, уже не имело ни какого отношения к преступлению, а обвинить священника хотя бы в намерении лишить себя жизни, было в глазах верующих чуть ли ни кощунством.
– Что вы себе позволяете?! – доносилось со всех сторон до констебля, но он сознательно шел на это: теперь ему просто хотелось посмотреть, как архидьякон выкрутится.
– Вы, сударь, – начал Люциус, – упустили из виду один немаловажный момент: я прочел письмо только утром тринадцатого февраля.
– Так ли это? – не обращаясь ни к кому конкретно, громко вопросил Дэве, надеясь скорее повлиять своим голосом на беснующуюся толпу, чем получить ответ, который, однако, не заставил себя ждать.
– Ну да, – сказал причетник Павел. – Я сам передал письмо его преподобию и своими глазами видел, как отец Люциус отправился на прогулку, оставив письмо на столе нераспечатанным.
Видя тщетность всех своих усилии, будто разбивающихся о непреодолимую преграду, Дэве уже был готов поверить в некую высшую силу, отводящую от священника все угрозы. И все же он решился бросить в сторону архидьякона еще один пробный камешек.
– Письмо написано столь бестактно, жестко и невежливо…
– Что вам пришло в голову, уж не сам ли я его написал, – перебил Люциус. – Правильно я продолжил вашу мысль, констебль?
– Нет, ваше преподобие, но согласитесь: странно, что эта Мери Сертэйн – экономка такого знатного и богатого вельможи, как ваш дядя – так мало знакома с приличиями.
Сержант с двумя стражниками прилагали все больше усилий, чтобы сдержать толпу возмущенную новыми нападками на отца Люциуса, но Дэве также продолжал наращивать давление, надеясь, что взрыв со стороны архидьякона последует скорее.
– Мой дядя, сударь, выбирая для себя прислугу женского пола, обращал первоочередное внимание отнюдь не на профессиональные качества и не на образованность претенденток.
– Что я слышу, ваше преподобие?.. И это говорит священник?
– Не притворяйтесь, сударь! – уже на приделе выкрикнул архидьякон и в глазах его появился огонь. – Вы читали письмо и должно быть общались с людьми, а значит, вам должно быть прекрасно известно, что мой дядя едва ли заслуживал любви и уважения человека высоких нравственных качеств. Да что я говорю… любых нравственных качеств! И, да!.. Если вы это хотели услышать. Да! Я не любил этого человека. Но искренне сожалею, что его больше нет, так как, вы правильно изволили заметить, теперь я остался один в этом вымирающем, – опять ошибся, – вымершем, семействе.
Дэве улыбнулся.
«Наконец! Наконец, – думал он, – я заставил его сказать то, что он мог отрицать. Теперь, я вижу, что еще могу бороться».
– Я буду вынужден провести в ваших покоях обыск. – Твердо и решительно сказал он, и к великому своему удовольствию заметил промелькнувший на лице священника страх.
– И что вы хотите там найти? Наследство? – прокричал из толпы возмущенный голос.
«Вот! С лучшими намерениями, но они уже сами дают мне в руки оружие против своего преподобного Люциуса. Неужели закончились для тебя удача и небесная протекция?» – снова улыбнувшись, подумал Дэве.
Но в этот момент, покрывая шум и ропот толпы, во дворе Собора святого Павла раздался новый – высокомерный, привыкший повелевать и нетерпящий возражений голос:
– И вы посмеете без доказательств, основываясь на, смею сказать, беспочвенных подозрениях, обыскать келью священника – служителя храма господня?
Народ расступился, давая дорогу человеку, в самом тоне которого слышалась почти неограниченная власть. Высокий, лет тридцати пяти-сорока, роскошно и со вкусом одетый, он, опираясь на изысканную тросточку, гордо шагал по освобожденному для него проходу к Дэве, Люциусу и остальным принимающим самое оживленное участие в этом действе людям.
Не обращая внимания на то, сколь почтительными поклонами приветствовали прибывшего священническая братия и сам архидьякон, сержант, выступив вперед, преградил ему путь:






