Катарсис Гроссман Абрам
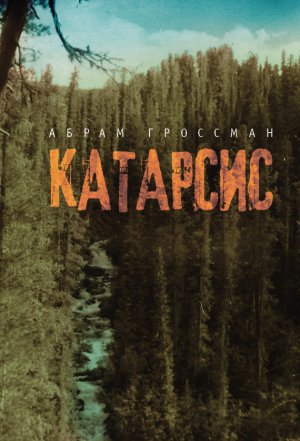
Мокин шел по деревне, построенной людьми, которых он оставил здесь умирать. Он знал, что никому не придет в голову нанести вред ему или его солдатам. Если что-то случилось бы с ними, все поселенцы без следствия были бы отправлены в лагеря на общие работы или приговорены к расстрелу. Солдаты кожей ощущали разлитую в воздухе ненависть и держали винтовки наготове.
Мокин похлопал кобылу по крутому заду:
– Не дрейфь, старуха, ничего не случится, они даже тебя покормят… Ты являешься государственной собственностью, – обратился он к лошади, зыркая глазами по сторонам – а повреждение государственного имущества наказывается сурово, до десяти лет каторжных работ в лагере. – Мокин перевел взгляд на поселенцев.
Как бы поняв сказанное, те понемногу отступили назад.
– Видишь, Бош, все получилось хорошо для вас, – Мокин улыбнулся, – даже все ваши бабы беременны!
– Это не ваш кредит, гражданин офицер, – обрезал разговор Бош.
Через пару недель после смерти мальчика село накрыл настоящий холод и вязкая, как машинное масло, шуга уже шелестела у шершавого берега и между обкатанными голышами.
Небольшая, возникшая ниоткуда, металлическая плоскодонка пробилась сквозь ледяное крошево, и два бородатых мужика ступили на берег. Их одежда состояла из потерявших цвет телогреек и прожженных, залатанных во многих местах штанов. На ногах у них были густо смазанные дегтем сапоги. С большими ножами у пояса, они походили на уголовников или бандитов, с которыми поселенцы не раз сталкивались на пересыльных пунктах. За ними выскочила сибирская лайка на сносях.
Поселенцы стояли в напряженном молчании, держа колья и лопаты наперевес.
Мужчины, оказавшиеся геологами, возвращавшимися с полевых работ на их главную базу в Красноярске, подошли ближе, приветливо улыбаясь. Они пробыли в деревне всего пару часов, согрелись горячим чаем, заваренным на сухом листе черной смородины. Это было единственное угощение, которое поселенцы могли предложить неожиданным гостям.
Гости оставили в подарок поселенцам почти новый топор, две металлических лопаты, стальной нож и попросили позаботиться об их собаке.
– Она приучена к лесу и будет охотиться на бурундуков и мышей. Да и детишкам с ней веселей, – один из гостей объяснил Вальтеру, что они не могут взять собаку с собой в город. – Для нее будет лучше остаться с вами, вы хорошие люди. Когда мы поедем обратно весной следующего года, мы ее заберем у вас.
– У нас нет никакого оружия для охоты, – один из поселенцев с завистью и надеждой смотрел на их двустволки.
– Мы не можем оставить вам даже одно, – извинился геолог, – они зарегистрированы.
– Недалеко от вас есть деревня Каменный Ручей, она примерно в двадцати километрах вверх по реке. Староверы живут там, – сообщили геологи. – Вы должны сходить к ним. Они добрые люди, как и вы. Небогатые, но могут помочь.
Когда последняя землянка была, наконец, построена, Вальтер Бош с небольшой группой поселенцев отправился в деревню Каменный Ручей. Вернувшись через несколько дней, они принесли с собой небольшой мешок соли, шесть коробок спичек, старые керосиновые лампы, банку керосина, немного зерна, картошки, вяленой оленины, медвежатины и рыбы, ржаных сухарей, заплесневелых, но все еще съедобных, старые гвозди, два рыболовных крючка, тупые, без ручек долото и отвертку (это было настоящее богатство), которым поделились с ними в русской деревне.
У поселенцев появилась надежда, и впервые за долгое время они устроили праздник.
А спустя несколько дней, когда толстый слой льда уже покрыл реку почти до середины, в поселении появились двое доселе невиданых людей.
Поднимая клубы снега и ловко маневрируя между деревьев и кустарников, незванные гости лихо въехали прямо в центр поселка. Это были местные охотники-тунгусы. Они остановились, опираясь на длинные шесты, поверху украшенными цветастыми ленточками, а внизу заканчивающимися небольшими лодочками, вырезанными из корневой части дерева, и их тут же окружили поселенцы.
– Здравствуйте, однако! – темные зрачки дружелюбно светились сквозь щелки глаз на плоских, расплывшихся в улыбках лицах. – По-русски они говорили очень плохо и вставляли слово «однако» в нужных и ненужных местах. Они источали безудержную радость встречи, крепко пожимали руки всем: и взрослым, и детям. Делали они это с легким поклоном, слова выговаривали тихо, а на Вальтера смотрели с нескрываемым восхищением, дивясь его высокому росту.
Мальчишки с восторгом рассматривали экзотических пришельцев, пытались потрогать их диковинную одежду, расшитую бусинами и костяными безделками.
Охотники были невысокого роста, одеты в меховые штаны и куртки. Трехклинные, обшитые мехом шапки, похожие на детский капор, плотно закрывали лоб, уши и затылок. Рукавицы были также меховыми. Ноги обуты в мягкие торбаса с меховыми же чулками. Даже недлинные широкие лыжи были подбиты шкурами с коротким и жестким мехом. Гости пыхтели длинными деревянными трубками, предлагая их в знак дружбы хозяевам – мужчинам и женщинам. Расстегнутые верхние куртки открывали свободные сорочки, вышитые разноцветными нитями, украшенные плетеными шнурками. Сагда и Дойту, так они представились, весело и заразительно смеялись, будто рассказали ужасно смешную историю.
Охотники спешили – зимний день короток, но согласились выпить горячего чаю.
Сагда рассказал Вальтеру о бревенчатых домиках, в которых останавливались местные охотники, когда травили соболя, норку и выдру. Он ловко выстругал маленькую дощечку и ножом нацарапал на ней карту.
– Здесь был старый ружье, однако, – ткнул ножом около точки и объяснил Вальтеру, как мог, где это ружье спрятано.
Дойту во время разговора осторожно, как будто они были сделаны из хрупкого стекла, положил на стол несколько крупных желтоватых кристаллов. Это оказались куски колотого сахара. Дети, загипнотизированные невиданным доселе лакомством, смотрели на чудо, не отрывая глаз. Дойту взял один кусок и аккуратно расколол ножом на две половинки, затем разделил еще на две, а потом еще и после этого с улыбкой подал каждому ребенку крошечный сладкий кусочек. Глазенки детей возбужденно загорелись, они схватили драгоценные подарки и выбежали из хижины. Оставшийся сахар Вальтер аккуратно сложил в жестяную коробку.
Оставив немного чая, соли и пару патронов, охотники тепло распрощались с поселенцами и с последним «однако» пропали в завалах снега.
Вальтер остановился на краю выстроенной деревни, почти у самого леса.
– Это место, – он указал на большой сарай на четырех толстых деревянных сваях. – Вы можете оставаться здесь, гражданин начальник. Человек принесет пищу и будет заботиться о вашей лошади.
– Не беспокойся о лошади. Мы позаботимся о ней сами, – Мокин резко оборвал Боша.
Вальтер не ожидал благодарности от этих людей. Он повернулся и пошел назад в деревню.
Амбар представлял собой просторный бревенчатый сруб с двускатной крышей, проемом без двери открывающимся на реку. Приятный свежий ветерок проникал под конек и выдувал всех насекомых. Внутри сарая царил полумрак и пахло свежескошенным сеном, лежащим в углу.
– Здорово! – Мокин рухнул на сено во весь рост, зарываясь лицом в плывущий аромат недавнего сенокоса, впитывая всем существом дурманящий запах полевых трав. Затем перевернулся на спину и, глядя в потолок, довольно потянулся: – Настоящий рай!..
– Эти фашисты не предложили нам остановиться в своих домах, – Панов не разделял энтузиазма начальника. Он снял сапоги, и сильный запах давно не мытых ног заполнил сарай.
– Эй, Панов! Ты что, омудел? Катись отсюда со своими вонючими портянками, – Дубин схватил сапог и швырнул со злостью в товарища.
– Заткнись, Дубина! – Панов огрызнулся, но отошел к двери и сел на пороге.
– Мы не можем спать в доме нашего врага. Это вам должно быть понятно, рядовые Панов и Дубин, – внимание Мокина привлекло движение под крышей сарая. Три черные головки с желтыми клювиками торчали из щелки.
– Ласточки, – с нежностью подумал Мокин.
– Это уж точно, что они наши враги! Но вы знаете, товарищ Мокин, я подумал, что, может быть, их женщины одиноки и нуждаются в любви и ласке настоящего советского солдата, – Дубин лежал на сене, закинув руки за голову, покусывая сочную травинку.
– Дубин, ты заметил, что все их бабы или с грудными детьми, или брюхатые. Они размножаются здесь, как тараканы. Они не одиноки, вот кобыла наша одинока, – незлобно посмеиваясь, Панов кивнул в сторону лошади.
– Может быть, в Каменном Ручье, на обратном пути, – миролюбиво закончил Дубин, улыбаясь своей радости.
Теплая ночь неожиданно и мягко опустилась на поселок, как будто кто-то набросил, обугленно-черное, протертое до дыр покрывало, через многочисленные прорехи которого голубовато сияли яркие звезды. Ровный и сильный свет пепельной Луны выхватывал из темноты прибрежные кусты и пространство перед амбаром, оставляя нетронутой тьму под сараем, в его углах и где-то там, высоко под крышей.
Было тихо и спокойно и только пара прибрежных коростелей перекликались между собой. Трое мужчин сидели в проеме сарая. Небольшой костер горел перед ними, отпугивая насекомых, которые становились все смелее в безветренный теплый вечер.
– Вот и наш ужин, – Мокин, показал на светлячка, который, увеличиваясь, двигался по прямой из деревни к сараю.
Два человека материализовались из темноты. Один нес керосиновую лампу, а другой небольшую корзину из ивовых прутьев. Они поставили корзину на камень у костра и молча, как лесные духи, растворились в темноте.
– Посмотрим, что там, – Дубин легко спрыгнул с платформы и направился к корзине, опередив Мокина и Панова, спрыгнувших следом.
– М-м-м, как пахнет! – Панов передал офицеру половину буханки домашнего хлеба. – Картошка и рыба, – он достал еще теплый картофель и три увесистых куска вяленой рыбы.
– Черемша!
Большой пучок свежей черемши передавался из рук в руки. Хрустящие, мясистые и сочные стебли мгновенно исчезли в жерновах зубов, истосковавшихся по витаминам.
– Смотри, постное масло. Гады, могли бы и побольше налить, – Панов закончил обследование корзины. – Да, у этих фашистов не растолстеешь…
– А что, у Рябова было лучше?
– Да все они, как жиды…
– Не бузи, Панов, лагерной баланды захотел? – Мокин направился в темноту. – Без меня не жрать. Я скоро вернусь.
– Куда это он пошел? – Панов с сожалением отодвинул плетенку.
– Откуда я должен знать, он мне не докладывает…
– Могу поспорить, что поискать бабенку, – хихикнул Панов, – давай рубать!
– Отлезь! – отрезал Дубин. – Он сказал ждать, значит, будем ждать.
Вальтер Бош стоял посередине улицы, ожидая Мокина, словно точно знал, что тот придет говорить с ним.
– Все идет не так уж плохо для тебя и твоих людей, Бош.
– Слава Богу, – ответ был коротким.
– Енде гуд – аллес гуд. Что было бы, если бы вас послали на рудники, а?
– Это то, что все говорят, – Бош аккуратно укладывал табак в сухой лист малины.
– Твой табак? – Мокин достал четвертушку бумаги из нагрудного кармана, не сомневаясь, что Вальтер поделится с ним. – На, возьми – предложил он бумагу немцу.
– Да, я растил его сам… – Бош осторожно принял подарок.
Спичка пропылала жарко и мгновенно, но Мокин заметил, что рука Боша дрожала, когда тот прикуривал ее от предложенного огня.
Он ухмыльнулся и отвернулся, глядя в сторону реки. Там, в вышине, сияли яркие и невероятно близкие звезды.
– А ночи здесь такие мирные… – Мокин глубоко вздохнул всей грудью. – У меня есть хорошие новости для тебя, Бош. Я возьму только вашего еврея. Ты останешься здесь, – он шумно затянулся дымом, выдерживая паузу, – если пришлешь мне свою жену, а в лагере я скажу, что ты был болен или совру что-нибудь другое.
Мокин услышал в темноте глубокой вздох, как будто крупное животное нырнуло в воду.
– Вы не можете сделать это, гражданин офицер. У нас уже было наше наказание за то, что мы не сделали. Вы не можете ободрать тот же кошка в два раза. Это не баржа. Это наш дом теперь.
– Это не наказание. Я просто думал немножко расслабиться. Я не собираюсь быть слишком грубым с ней, не волнуйся.
– Не делайте этого, гражданин офицер. Она беременна.
– О, поздравляю! – Мокин понял, что противник на коленях, новые усилия могут сломать его, а это испортило бы удовольствие, которое он уже получил.
– Расслабься, Бош. Это была шутка.
Долгая, тяжелая пауза повисла в воздухе.
Два светлячка светились в темноте, иногда высвечивая часть лица или руки.
– Я думаю, что мы должны отпраздновать рождение твоего будущего ребенка. Не так ли, Бош? – он толкнул Боша в плечо. Мокин испытывал необъяснимое наслаждение чувствовать превосходство над этим человеком – Было бы еще лучше показать это всей деревне…
Не ответив, Вальтер Бош развернулся и ушел. Он вернулся вскоре с банкой, наполовину заполненной жидкостью.
– Фишер есть хороший учитель, и нашим детям будет не хватать его. Разрешите ему остаться.
– Нет, Бош. Это приказ. Нам нужен бухгалтер там, в лагере, а не учитель здесь. И не сердись на меня, Бош, я делаю то, что должен делать. Я солдат и выполняю приказ, – Мокин бережно прижал банку с драгоценной жидкостью. – Ты мне вот что скажи, Бош, – Мокин дышал в ухо Боша, как будто боялся, что кто-то их услышит, – что именно старый еврей положил в могилу пацана, а?
Бош вздрогнул, словно его ударило током. – Как он узнал об этом? Кто мог донести: кто-то из живых или один из умерших?
– Что молчишь, Бош? Хочешь, чтобы я потащил тебя, как суку, на допрос?
– Я не знаю.
– Врешь, гад! Ты и твой еврей-шпиен сховали что-то. Что?
– Я не знаю. Вы можете открыть могилу…
– Ты что, считаешь меня идиотом? – продолжал он шипеть в ухо немца. – Да там ничего нет. Вы уже двадцать раз перепрятали эту банку. Что там было?
– Я не знаю… Он не шпион.
– А я знаю наверняка, что он немецкий шпиен …Я узнаю… Мы узнаем… У нас есть методы, – Мокин повернулся и направился к амбару.
– Он очень старый и больной. Позвольте ему умереть здесь. Мы будем заботиться о нем, – и после короткой паузы Вальтер закончил с дрожью в голосе: – Вы уже сделали с ним все, что вы хотели, гражданин Мокин. Это самое лучшее, что вы могли бы сделать для него сейчас.
Мокин остановился и обернулся: – Мне не нравится это, Бош! Почему-то я всегда чувствую ржавый гвоздь в заднице, когда ты говоришь со мной. Ты должен быть добрым ко мне. Мы почти родственники. Не так ли, своячок? – усмехнулся он.
Мокин вернулся в сарай с банкой мутноватой жидкости.
– Товарищ Мокин, вы – герой! Самогон или брага?
– Самогон…
– Как вы это сделали, товарищ Мокин?
– Есть способ. Он все еще боится меня, фашист, – торжество заслуженной победы звучало в голосе.
Самогон вскружил и немного одурманил молодые головы. Солдаты быстро заснули после еды, сладко почмокивая во сне, как два счастливых мальчика после долгого, наполненного событиями дня.
– Молокососы, – усехнувшись подумал Мокин, – с вас сдерут не одну шкуру, прежде чем вы узнаете людей, как знаю их я.
Горький и кислый табак першил горло. Мокин в полудреме прислушался к звукам ночи. Невдалеке от амбара слышалось неспешное, с копыта на копыто перетаптыванье лошади и то, как она хрумкает сочную луговую траву. Где-то внутри бревен, над его головой, жук ритмично подтачивал дерево, прорывая тоннель на свободу. Громкий звук льющейся воды вдруг нарушил тишину, и резкий, едкий запах лошадиной мочи защекотал Мокину ноздри. Звуки и запахи детства, знакомые и мирные… Они были из его другой жизни, из той, которую Мокин покинул много лет назад, уйдя в армию. Самодельное варево разбудило в нем сладкую грусть воспоминаний. Он не заметил, как заснул.
Рано утром Мокин и его солдаты стояли на краю деревни в тени подсолнухов на дороге, ведущей к Каменному Ручью и далее в ИТЛ. Новый день встретил их свежестью и многоголосьем птиц невидимых в кронах деревьев. Яркое безоблачное небо и обильная роса на траве обещали еще один изнуряюще жаркий день.
Мокин откровенно наслаждался красками и прохладой утра.
Все здесь ему нравилось и все раздражало. Самолюбие Мокина не могло смириться с поражением, нанесенным ему горсткой отчаянных людей, которых он оставил здесь пять лет назад, уверенный, что они не протянут и месяца. Красивая, чистая, основательно выстроенная деревня словно смеялась ему в лицо.
– С моей подачи начался этот станок… – Мокин со смешанным чувством следил за пчелами, роящимися над крупными ярко-желтыми, красными, рыжими, оранжевыми головами подсолнухов. – Вот ведь настырная немчура, даже ульи завели… – вкус давно забытой сладости защекотал небо и переполнил рот слюной. Он процедил собравшуюся влагу между зубами и тонкой струей лихо отстрелил ее на землю.
Несмотря на ранний час, почти все жители поселка собрались вокруг телеги и настороженных конвоиров, исподлобья наблюдающих за ними. Все поселенцы выглядели похожими – широколицые, светлоглазые и светловолосые. Но один старик выделялся из толпы своим благообразным видом: седобородый, с худым библейским лицом, длинными сивыми, почти пепельными волосами под вязаной ермолкой, с высоким лбом, изрезанным сетью морщин, словно кора дуба, скрывающая годовые кольца. Глаза у него были темные, почти черные, странно моложавые, хотя проницательный и мудрый взгляд говорил о том, что на долю этого человека выпало немало трудных дней. Дети старались оказаться поближе к нему, взять за руку или ухватиться за сюртук. Он ласково гладил светлые волосы ребятишек, тихо с улыбкой разговаривал с ними.
– Так где же немецкий шпион, товарищ Мокин?
– Вот он, – Мокин узнал его. – Этот еврей действительно имеет двойной набор кишок или особую причину, чтобы жить.
– Это и есть ваш знаменитый шпион, товарищ Мокин? – переспросил Дубин. – Он действительно выглядит убийцей. Вы только посмотрите на него, – в его словах сквозил неприкрытый сарказм.
Поселенцы окружили телегу. Старик глянул на солдат, кивнул, как бы приветствуя их, положил на телегу мешочек с пожитками и небольшую связку книг, перехваченную тесемкой.
– Пять лет назад он выглядел не лучше, чем сейчас, – буркнул Мокин.
Реб Фишер пристально смотрел на офицера, он тоже узнал его.
Это произошло недалеко от города Горького. Йозеф Фишер, раввин из Вильно, и его маленькая семья вместе с другими беженцами ждали паром, который должен был перевезти их в безопасное место на другой берег Волги. Однако, вместо ожидаемого парома, притарахтела большая моторная баржа, которая стала на прикол, не намереваясь двигаться куда-либо. Толстые канаты крепко удерживали ее у хлипкого причала, она смердела и вяло переваливалась с боку на бок, как прибитая к берегу туша давно издохшего и уже разлагающегося морского чудовища-гиганта.
Наступил вечер. Первая звезда высветилась на бледном небе, и Йозеф стал готовиться к «Маарив», ежедневной вечерней молитве у евреев. Он вынул из небольшой расшитой сумочки свои филактерии – два маленьких черных кожаных кубика с ремешками, талес и молитвенник. Его жена Ханна и сын Алекс, его маленькая гордость, устроились на небольшом шерстяном одеяле в нескольких метрах от него. Ханна спала, положив голову на согнутые руки, но и во сне охраняла покой и безопасность ребенка, который свернулся рядышком в клубок, как наигравшийся котенок. Линии их тел, плавные и мягкие, напоминали скульптуру, вырезанную рукой мастера из цельного куска темного мрамора. С любовью и грустью Йозеф смотрел на спящих жену и маленького сына.
Внезапно тяжелый утробный гул самолета донесся со стороны холмов, вклинился в спокойствие вечера. Йозеф увидел немецкий самолет прямо над ними, он шел так низко, что четко были видны черные кресты на крыльях и фюзеляже машины. Инстинктивно, прикрывая от смертельной опасности жену и сына, Йозеф набросил на них талес, но понял, что не в силах защитить эти два самых важных в его жизни существа. В отчаянии он простер руки поверх двух мирно покоящихся тел и прошептал:
– Шма, Израиль!
Самолет пролетел над людьми, в ужасе приникшими к земле, сделал один круг, затем второй и, заходя на третий, сбросил бомбу.
Бомба с проникающим под кожу воем упала в реку. Сотрясая землю, витой высокий столб воды и грязи метнулся к небу.
Ханна вскочила испуганная, не понимая со сна, где она и что происходит. Йозеф бросился к ним, заслонил собой жену и ребенка.
Самолет улетел так же неожиданно, как и появился.
Это было похоже на дурной сон – пришел и ушел.
Но страх не покидал людей, он волнами перекатывался по становищу, пока не стало понятно, что опасность миновала.
– Смотрите, сколько рыбы, – раздалось с берега.
Люди побежали к реке, они несмело ступали в воду, вы бирая всплывшую оглушенную рыбу. Застенчивые улыбки нежданно выпавшего счастья засветились на изможденных лицах б еженцев.
Ханна вопросительно посмотрела на мужа.
Йозеф мягко улыбнулся: – Да, Ханна, как говорил отец, Барух ха-Шем! Бог заботится о нас. Сегодня у нас будет на ужин рыба!..
Ханна подхватилась и побежала к реке.
Отгоревшее дымчатое солнце опустилось за холмы, но длинные темно-голубые тени еще скользили по земле. У множества маленьких костров, разбросанных по берегу, утомленные, но умиротворенные вечерним покоем беженцы негромко переговаривались между собой и со своими соседями. Не хотелось верить, что идет война, горят дома и поля, а люди убивают друг друга.
– Так мирно, Ханна…
– Да, Йосэлэ, так тихо.
Вдруг эта тишина, изредка прерываемая тихим смехом, отдельным словом или дребезжанием утвари, наполнилась гнетущим, тревожным беззвучием.
– Йосэлэ…
Ханна кивком головы указала в сторону. Подгоняемая вооруженными солдатами, через лагерь беженцев продвигалась большая группа людей: старики, женщины и дети. Даже в сгустившихся сумерках было видно, что они выбились из сил, и только шарканье ног свидетельствовало, что в этих несчастных оставалось еще немного жизни.
Один из охранников что-то крикнул, и вся колонна, как единый организм, рухнула на землю.
– Боже, кто эти бедные люди? – раввин встал и подошел ближе, чтобы лучше разглядеть их. На запыленных лицах с глубоко ввалившимися глазами отпечаталось выражение отчаяния и бесконечной усталости.
Йозеф услышал негромкий разговор двух пожилых мужчин. Он узнал язык, похожий на его родной мамелошен.
Стараясь, чтобы его не увидел охранник, Йозеф присел поблизости и шепотом обратился на идиш: – Вус гейст, ид? (Что происходит, еврей?)
– Мы не евреи. Мы российские немцы.
– Какие немцы? – недоуменно спросил раввин на идиш.
– Наши предки жили здесь со времен русской царицы Екатерины, – ответили те по-немецки, но Йозеф понял.
– Могу я спросить, a почему вы оказались здесь?
– Мы колонисты, – сказал негромко один из них, – всех наших мужчин взяли две недели назад. А теперь и нас. Мы идем шесть дней, – голос был еле слышным, – я хочу есть…
Йозеф внимательно посмотрел на человека.
– Эти люди нуждаются в пище, – сказал он Ханне. Она дала ему кусок вареной рыбы и пару картофелин.
Дрожащая костлявая рука мужчины едва успела выхватить еду, как раздался громкий окрик.
Йозеф оглянулся и увидел наполненные яростью глаза охранника и широко открытый рот, выплевывающий прямо в лицо Йозефа отрывочные ругательства: «немецкие… фашисты… нацисты… предатели…».
– Я не сделал ничего плохого. Я только дал этому бедному человеку поесть, – произнес Йозеф на идиш, пытаясь отойти к жене и сыну.
Но солдат грубо схватил его за шиворот. Йозеф споткнулся, потерял равновесие. Солдат поволок его к горящему костру, где Йозеф и увидел впервые этого офицера.
Офицер сидел на перевернутом вверх дном ведре перед огнем, твердо упираясь в землю широко расставленными ногами в покрытых пылью сапогах. Расстегнутая гимнастерка открывала блестящую от пота кирпично-красную шею. Офицер вытянул руки над пламенем костра. Теплый воздух поднимал к небу сверкающие искры, и они, как легкие бабочки-огневки, танцевали вкруг коротких пальцев его мускулистых волосатых рук. Двое охранников с ружьями, как грубо вырезанные деревянные статуи, стояли возле него. Йозефу показалось, что он попал в языческий храм жрецов-огнепоклонников, о которых читал в детстве.
Офицер поднял глаза от огня и равнодушно поглядел на Йозефа. Солдат что-то говорил, указывая на него пальцем. Офицер слушал, но без интереса. Было очевидно, что его мысли были заняты чем-то, что поглотило все его внимание, но вдруг он резко повернулся и взглянул на Йозефа.
Странная перекошенная улыбка, больше похожая на гримасу от зубной боли, скользнула по раскрасневшемуся лицу: – Документы, фашист! – офицер требовательно протянул руку.
Йозеф покрылся холодным потом. Он оглянулся и увидел жену. Широко открытыми глазами, прижав сына к груди, она с ужасом глядела на происходящее.
– Товарищ офицер, есть ошибка. Я из Вильно… Мои документы с моей женой, там, – Йозеф показал жестом в сторону Ципоры, – позвольте мне пойти, чтобы получить их. Я не немецкий, я еврей. Это ошибка… Я из Вильно. Я не с этими людьми, – он перешел на идиш.
– Вы видите, видите, – солдат снова замельтешил, начал взволновано жестикулировать, Йозеф мог понять только отдельные слова.
«Немецкий шпион» – это он понял хорошо.
Офицер что-то негромко сказал солдату. Тот подошел к Йозефу и, быстро обыскав его, толкнул в группу немцев, которые уже начали двигаться к барже.
– Шнеллер! Быстро! – заключенные были вынуждены бежать, подстегиваемые криками и толчками охранников.
Ханна кинулась вслед за мужем, но, сделав несколько шагов, повернула назад, схватила конверт с документами, талес, филактерии… и побежала к реке.
Йозеф не мог принять того, что с ним случилось. Ему хотелось верить, что это была просто плохая шутка, что сейчас все разрешится, и он вернется к своей семье.
В темноте он скорее почувствовал, чем увидел Ханну. Она ловко протиснулась между охранниками, и быстро сунула в руки Йозефа его молитвенные принадлежности.
– Что происходит, Йозеф, – пытаясь сдержать крик, прошептала она, – что будет с нами? – она протянула ему конверт с документами, но толпа отбросила ее назад.
– Йосэлэ! – Ханна закричала в полный голос, – это твои документы, – она храбро бросилась на стену солдат, разделявшую их. – Возьми их! Они увидят, что ты не нацист! – Ханна с силой оттолкнула преградившего ей путь солдата, чтобы вложить пакет в руки мужа, но охранник навалился на нее, пытаясь вырвать сверток.
– Оставь, не тронь ее! – Йозеф закричал и со всей своей малой силой ринулся через поток движущихся тел, чтобы помочь жене, но огромный кулак обрушился на его голову и следом второй, железной кувалдой ударил по лицу. Кулаки раскрылись и мощные пальцы, цепкие, как лапы насекомых, стали вырывать документы, которые необъяснимым образом оказались в руках Йозефа. Каким-то чудом ему удалось засунуть их в глубокий внутренний карман своего длинного пиджака.
Все происходило как в дурном сне. Йозефу казалось, что он сходит с ума. В сознании мелькали обрывки картин, проносящихся перед глазами: кто-то толкнул Ханну в спину, она рухнула на землю под ноги, подгоняемой криками и пинками обезумевшей толпы, чьи-то искаженные лица, руки, развевающиеся полы одежд. Больше Йозеф не видел Ханну. Неведомая сила закрутила его, втянула в центр сжатого пространства и, как зловещий смерч, потащила за собой вверх, поднимая все выше и выше, и вдруг, ослабев, отпустила. Он провалился в спасительное беспамятство, и бездонная тьма накрыла его.
Очнувшись, он не сразу мог вспомнить и понять, где находится. С закрытыми глазами ощупал себя, болел только сильно разбитый нос. Он медленно открыл глаза. Было темно, лишь месяц и звезды давали некоторый свет. Йозеф разглядел множество темных фигур вокруг него. Наконец он осознал, что находится на барже с немецкими крестьянами.
Он встал, с трудом держась за поручни. Перед глазами всплыло заплаканное лицо Ханны.
– Я только что держал моего сына в руках…
Отрывочные картины его короткой семейной жизни всплывали в памяти. Обессиленный, Йозеф опустился на деревянный пол баржи, понимая, что больше никогда не увидит дорогих его сердцу жену и сына.
Он лежал на палубе, пахнущей смолой и тухлой рыбой. Небольшой кусок скомканной бумаги белел перед ним. Йозеф поднял его. Это было недавнее фото их семьи, но часть фотографии с лицом Йозефа исчезла.
Потеря жены и сына вырвала Йозефа из окружающей действительности, замкнув в плотный, непроницаемый для внешнего мира кокон. Сознание словно заблокировало все, что произошло с ним, кроме одного – утраты Ханны и Алекса. Его тело перестало чувствовать боль.
Несколько дней, может быть, неделю, может, больше (он не помнил и не считал) баржа двигалась вниз по реке. Люди не получали практически никакой пищи, лишь изредка им давали плохо пропеченный, тяжелый, как глина, хлеб или вареную картофелину на человека, да еще воду из реки. Но отсутствие питания не беспокоило Йозефа – все внутри него обмерло, он не чувствовал ни голода, ни холода, ни дождя, вызывающего озноб. Он понятия не имел, куда они едут, какой сейчас год, день или месяц, но все еще по привычке молился дважды в день: вечером и утром.
Поначалу его молитвы вызывали некоторое любопытство у солдат, особенно у офицера. Он молча наблюдал, как Йозеф аккуратно накручивал черные кожаные ремешки вокруг пальцев и руки, прилеплял посередине лба небольшую, почти кубическую черную коробочку и покрывал голову грязно-белой, с синими полосами и бахромой по краям шалью.
Йозеф видел, что офицер проявляет некоторую заинтересованность, и однажды даже был готов поговорить с ним, чтобы показать свои документы, но в последний момент передумал и глубже спрятал бумаги в карман пиджака.
– У меня будет время, когда они мне понадобятся, – подумал он. Наивная вера еще жила в нем, что найдутся люди, которые поймут, как ужасно и несправедливо поступили с ним и его семьей.
Он держался за эту мысль, как за последнюю надежду.
Баржа, наконец, остановилась. Заключенных перегнали в товарные вагоны, тяжелые двери закрыли свет, и состав двинулся в неведомую даль. Смену дня и ночи можно было наблюдать только в одном маленьком окошке высоко под потолком или через трещины между досок в стенах и крыше. Йозеф приткнулся в самом дальнем и темном углу вагона, куда не проникали даже слабые проблески света, без еды и воды, собирая лишь капли дождя, текущие с крыши. Он оказался одним из немногих, кто мог самостоятельно выбраться из вагона, когда, товарняк добрался до очередного пересыльного пункта. Спотыкаясь о трупы, сцементированные человеческими экскрементами, дорожной грязью и соломенной трухой, он подполз к открытой двери. Обтрепавшийся его лапсердак из черного стал бурым, а связанная Ханной ермолка выглядела просто куском засаленной тряпки. Его длинные пепельно-серые волосы свалялись, неухоженная отросшая борода свисала неопрятными клочьями…
Когда глаза его немного привыкли к свету, Йозеф разглядел офицера и двоих охранников с собаками, стоящими перед открытой вагонной дверью. Офицер смотрел на Йозефа так, будто был невероятно счастлив увидеть его среди тех, кто пережил эту поездку со смертельным исходом.
Йозеф не узнал бы его, если бы не врезавшаяся в память перекошенная гримаса-улыбка.
– За этим гадом смотреть особенно, – офицер указал на Йозефа, – он мне нужен живым.
Пересыльные пункты, организованные по всей огромной стране, формировали группы спецпоселенцев и, как гигантские центрифуги, вышвыривали их во все концы громадной советской империи – за Урал, в Сибирь, в Казахстан, на Дальний Восток.
Пересыльный лагерь, в который попал Йозеф, напоминал вавилонское столпотворение бурлящей смесью языков и национальностей. Множество народа, сорванного с родных мест и выброшенного неизвестно куда со скудными пожитками, наспех собранными в мешки и котомки, завязанными в одеяла или кое-как уложенными в чемоданы, неприкаянно блуждало взад-вперед в ожидании прихода очередного поезда с беженцами, надеясь на возможную встречу с разлученными родными и близкими. Люди ждали этих встреч и в то же время страшились их, так как найдя друг друга, часто узнавали, что потеряли навсегда родителей, детей, родственников или друзей.
Йозеф Фишер, получивший номер Ф 30–68, старался ходить по лагерю как можно меньше. Он не хотел встретить кого-либо, кто мог бы сообщить, что его жена и сын убиты, умерли или отправлены в трудовой лагерь. Йозеф находил место в одном из дальних углов и усаживался, прижавшись спиной к стене. Это давало ему иллюзорное ощущение безопасности и защиты от холода и ветра, которых он почти не замечал. Он сидел неподвижно, не меняя позы, и со стороны могло показаться, что человек спит или умер, и только беззвучное шевеление губ говорило о том, что в нем теплится дыхание. Каждый день по гудку он оставлял свое место и, вместе с другими заключенными, становился в шеренгу перед группой охранников и офицеров и делал шаг вперед, когда слышал свой номер:
– Заключеный Ф 30–68!
Едва заметная грустная улыбка тогда касалась его губ.
После куска хлеба и тарелки супа из прокисшей гнилой капусты Йозеф возвращался на свое место и снова впадал в оцепенение. Все вокруг для него переставало существовать, за исключением лиц жены и сына, их голосов и вязкого тумана, висящего в сознании, как клочья мокрой ваты.
На очередной перекличке начальник караула выкрикнул номер Йозефа. Он сделал шаг вперед:
– Это я.
Один из караульных махнул рукой: – Пошли!
– Мое время пришло, – пронеслось в голове Йозефа, и он отрешенно последовал за охранником.
Тот привел его в административный корпус и остановил в коридоре, приказав встать лицом к стене. Йозеф долго изучал волнистые линии, вытоптанные множеством ног в досках под ногами, а потом и грязные пятна на стене – отпечатки рук. Он уже решил, что о нем забыли, когда дверь рядом открылась.
По приказу конвоира он вошел в полупустую комнату, на стене над покрытым красным сукном столом висел большой групповой портрет четырех усато-бородатых мужчин. Впервые Йозеф увидел их после появления советских солдат в Литве, и потом еще много раз они мелькали во время его передвижения по России. Это были коммунистические вожди «самого справедливого строя» (так ему объяснил знакомый часовщик Шимон), чьи изображения висели повсюду на стенах домов и каждой железнодорожной станции. Часто они были вместе или порознь, а иногда на портрете был один или стоящий, как памятник, с вытянутой вперед рукой, или же держа обе руки в карманах.
За столом сидели два офицера. Йозеф сразу же узнал одного из них. Это был «жрец», как он определил его для себя еще там, на берегу Волги. Другой, незнакомый Йозефу и, очевидно, выше рангом, держа в руках серую папку, говорил со жрецом резким повелительным тоном. Тот отвечал почтительно, даже привставал со стула. Йозеф не понимал, о чем они говорили, но, когда разобрал слово «документы», решился – он сделал быстрый шаг к столу и дрожащими руками достал из кармана небольшой лоскут. Охранник попытался задержать Йозефа, но старший по рангу офицер остановил его. Йозеф осторожно развернул материю и дрожащей рукой протянул то, что осталось от его документов, и положил это на стол.
Военные с удивлением уставились на Йозефа.
– Это мои документы, – старательно выговорил Йозеф по-русски. Он потратил много часов, чтобы правильно произнести эти три слова.
Старший офицер брезгливо, будто боялся подхватить заразу, пошевелил карандашом вылинявшие, склеенные грязью и потом страницы с расплывшимися фиолетовыми буквами и, не глядя на Йозефа, стал задавать вопросы.
В комнате находился еще один человек, которого Йозеф не сразу заметил. Это был молодой еврей болезненного вида, одетый в зимнее женское пальто с воротником из желтой лисицы, постоянно сморкавшийся в длинное грязное полотенце, которое в прошлой жизни, по-видимому, было талесом.
Глаза молодого еврея, воспаленные и красные, выдавали давнюю простуду, к тому же было видно, что он страдает косоглазием – один глаз выпукло смотрел в левый верхний угол комнаты на вождей, а другой, нормальный, – подобострастно на офицеров.
– Когда и где вы родились? – переводчик говорил на идиш с сильным галицийским акцентом.
Йозеф молчал.
– Ребе, я прошу вас, – сказал еврей и шумно, с присвистом высморкался.
– Извините, я не понял, что вы спрашиваете меня.
– Это не я… это он спросил вас – здоровый глаз метнулся в сторону офицеров.
– Почему он спрашивает? Все написано в бумагах, которые я дал ему.
– Вы не должны задавать здесь вопросов, ребе. В этом месте вы должны только отвечать, – переводчик бросил взгляд на висящий портрет, вероятно, ища сочувствия или поддержки у вождей.






