Дом искусств Ходасевич Владислав
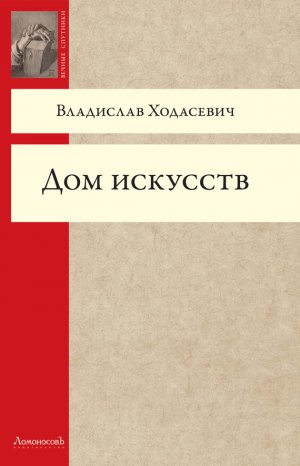
Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, бестолково раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин почему-то питал пристрастие – этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий – переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле – Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. «Куча мала!» – на полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Наппельбаум97, маленькая поэтесса, показала мне пальцем:
– А эта вот – наша новенькая студистка, моя подруга.
– А как фамилия?
– Нина Берберова98.
– Да которая же? Тут и не разберешь.
– А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога.
К гостиной примыкала столовая, зверски отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином – как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома Литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий – деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные – роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахара: сахар он оставлял себе.
Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть «Диска», куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил кн. С. А. Ухтомский99, один из хранителей Музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым; жил пушистый седой старик Липгардт100, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи «сертификатов» на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Липгардта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко? – будто бы сказал Липгардт. – Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Тициан!»
Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлечкой шмыгала маленькая старушка – М. А. Врубель, сестра художника. Соседкой ее была Е. П. Леткова-Султанова101, свояченица К. Е. Маковского102, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский103, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами (по большей части еловыми) он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, которою прикрывал стынувшую лысину. Над ним по стенам и по потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами – эта комната была некогда спальней г-жи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню, вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт: это ходил по кафельному полу поросенок – воспитанник Ефима.
Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского104 – единственного молодого обитателя этой части «Диска». Здесь была постоянная толчея. В редкий день не побывали здесь – Всеволод Иванов105, Михаил Зощенко, Константин Федин106, Николай Никитин107, безвременно погибший Лев Лунц108 и семнадцатилетний поклонник Т. А. Гофмана – начинающий беллетрист Вениамин Каверин. Тут была колыбель «Серапионовых братьев», только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть – на кровати хозяина, прочие – на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же, на трех стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой.
Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели «Диска» порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому.
Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго, но зато очутиться наконец в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над иссиня– черным морем с белыми гребнями носятся чайки, – блаженства этого не опишешь!
Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в самый тот день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов109, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Одоевцева110, на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, – и убежала, пообещав подарить мне кольдкрему. Кольдкрема этого, впрочем, я по сей день не дождался… О, люди!
Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью – узкая комната в одно окно, находящееся на уровне тесного, мрачного колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и звался «обезьянником». Первую комнату занимал Лев Лунц – вероятно, она-то отчасти и сгубила его здоровье. Его соседом был Грин111, автор авантюрных повестей, мрачный туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами «Диска», не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкою тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский112, в ту пору – скромный ученик Гумилева, ныне – усердный переводчик всевозможных джамбулов.
Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст113, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастием его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паек и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько «дантовским» профилем (высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок), носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем «пястов». На ногах – прикрученные веревками остатки какой-то обуви, столь, однако ж, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда слышно было за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своею печуркой, а впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимый морозом, голодом и тоской, до поздней ночи, а то и всю ночь он бродил по Дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябр, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении, совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские «нотабли». В нем было тепло, но оно было рядом с комнатою Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено «помещение» запирать, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он промчался по всему «Диску», по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому на угол Мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопаньем дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал:
– Окаянные! Что они со мной сделали! Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле – отняли, заперли! О, проклятые!
Та часть Дома искусств, где я жил, когда-то была занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: пошло, но импозантно и, уж во всяком случае, чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница А. В. Щекотихина114 (впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина115 и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла, – окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М. Л. Лозинского116, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним недающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим – и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паек, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял:
– Ну, а теперь будем ужинать!
Соседями нашими были: художник Милашевский117, обладавший красными гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем «пясты», и столь же гусарским успехом у прекрасного пола, поэтесса Надежда Павлович118, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила вкривь и вкось – одному Богу ведомо, из каких материалов, а также О. Д. Форш119, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин порой занимают сплетни: нашептавшись «о последнем» с Ивановым-Разумником120, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу121, от Эрберга – к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне – и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви»:
– Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по Блоку, а потом вышел на амвон да как грохнет:
- Я послал тебе черную розу в бокале
- Золотого, как небо, аи! —
Это с амвона-то! Вы подумайте! Ха-ха-ха! Ну и прелесть!
Достоинством нашего коридора было то, что в нем не было центрального отопления: в комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени, державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Правда, растапливать их сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было какое-то неслыханное количество. Регистраторы эти служили чудесной растопкой, так же как переплеты столь же бесчисленных копировальных книг. Папиросная же бумага, из которой эти книги состояли, шла на кручение папирос. Этой бумагой «Диск» снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же порой можно было выменять пакетик махорки у мальчишек и девчонок, торговавших на Невском. Один листок этой бумаги сохранился у меня по сей день.
С этими маленькими торговцами (предшественниками будущих беспризорников, которых я уже не застал и не видел) связано у меня одно воспоминание не столь идиллическое. Как я уже говорил, во дворе елисеевского дома некогда находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало «Диску», но им почти не пользовались по той причине, что оно было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра. Она день и ночь лежала в своей конуре под грудой тряпья, ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 года приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков122, начавший литературную деятельность еще лет восемнадцать тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка. Голодал начисто. Не без труда удалось мне устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части), раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать лишь тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаками в стену, крича:
– Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду да тебя задушу!..
Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так, из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельца, занятую Виктором Шкловским123. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила бар. В. И. Икскуль124, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой – по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая, холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч125. Мариэтта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня – марксизму», – говорила Мариэтта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Когда Гумилев был расстрелян, Мариэтта выжила его вдову из «Диска» и заняла гумилевские комнаты, населив их своими шумными родственниками.
Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое «общежитие», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же – как я уже говорил – проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга – подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах – некоторые видны были с самой Фонтанки, – и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.
За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
1939
Торговля
Перед так называемыми интеллигентными профессиями, особливо перед всякими художествами, торговля имеет то неоспоримое и высокое преимущество, что на сем скромном поприще люди и вещи называются настоящими своими именами, а деяния имеют естественные последствия. Честный человек называется честным человеком, а мошенник мошенником, и если ему даже удается ускользнуть от правосудия, то с ним, по крайности, избегают иметь дело. Вот почему все более тянет меня к коммерции и почему все более радужными красками расцвечиваются мои воспоминания о немногих случаях, когда доводилось мне заниматься торговлей.
Мне было лет шесть, мы жили на даче в Богородском, возле Сокольников. Там свел я дружбу с Алешей и Колей Щенковыми, детьми С. В. Щенкова, гласного Московской городской думы. Отличные были мальчики, настоящие краснокожие, национально мыслящие могикане. Им подарили лоток с весами и гирьками. На лоток положили мы лопухов, изображавших капусту, какой-то пушистой травки, олицетворявшей укроп, еще чего-то и превратились в разносчиков. Кухарки, няньки и матери должны были разыгрывать покупательниц. Часа через два мы им совершенно осточертели. Тогда я (именно я, на этом настаиваю!) придумал дело более прочное и занятное. В складчину образовали мы оборотный капитал примерно копеек в сорок. Купили на пятачок подсолнухов, плитку шоколада за пятачок, десяток папирос за шесть копеек, несколько карамелек и открыли торговлю в парке, на широкой аллее, ведущей к танцульке. Мы продавали каждую папиросу за три копейки, каждую карамельку за пятачок, одну треть шоколадной плитки за пятачок же – и так далее. День был воскресный. Гуляющая публика так и теснилась вокруг нас – приходилось то и дело бегать в лавочку за новым товаром. Словом, у нас было уже рублей семь денег к тому горестному моменту, когда стоустая молва о нашей фирме дошла до слуха родителей. Все кончилось грубою реквизицией товара, конфискацией капитала и трехголосым ревом. Видит Бог, мы ревели не оттого, что лишились денег. Не жадность нас окрыляла, но высокое спортивное чувство. Не мечта о богатстве, но сказочный рост самого предприятия – вот что восхищало нас, возбуждая любовь к труду, изобретательность, предприимчивость. Увы, современники нас не оценили…
Четверть века спустя, в 1918 году, довелось мне вновь стать за прилавок – в Московской книжной лавке писателей. Подробно о ней рассказывать не буду, потому, что на сей счет существует уже целая литература, страдающая, на мой взгляд, сильными преувеличениями в сторону «идейности». Судя по тому, что писалось о Книжной лавке, можно подумать, будто это было какое-то необыкновенно возвышенное предприятие, ставившее себе единственно культурные цели, – чуть ли не луч света в темном царстве военного коммунизма. Не отрицаю, что кое-какую культурную роль лавка сыграла, но, разумеется, ее сознание определялось бытием, а не наоборот, то есть, попросту говоря, возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде.
После этого торговал я еще два раза, но уже торговля моя носила характер эпизодический. В первый раз дело было так. В ноябре 1920 года, собираясь переселиться в Петербург, я обнаружил, что валенки у меня есть, а сапог нет, и что, следовательно, весной в Петербурге наступит кризис. Не надеясь на легкое разрешение его, постановил я обзавестись башмаками заблаговременно и с этою целью отправился к Луначарскому. Наркомпрос находился тогда в здании Лицея, у Крымского моста. В ту пору была война, и вся Москва покрыта была плакатами с надписью: «Не сдадимся, выдержим, победим». Такой плакат красовался и над дверью в кабинет Луначарского, отличаясь от прочих тем, что на нем слово «сдадимся» было написано через «з»: «не здадимся». Луначарский принял меня как нельзя более любезно и тотчас продиктовал машинистке записку куда следовало о том, что он просит оказать мне содействие в приобретении башмаков. В благодарность я вывел Луначарского из кабинета и обратил его внимание на плакат, который над дверью в кабинет министра народного просвещения имел вид уж очень компрометантный. Луначарский всполошился, созвал секретарш и приказал плакат переделать либо убрать. Мы простились.
На другой день я отправился на Мясницкую, в учреждение, ведавшее распределением обуви. Путешествовать туда с Девичьего Поля, где я жил, было нелегко. Доплелся я до места измученный вдребезги – и узнал, что на моей записке недостает какой-то печати или еще чего-то. Пришлось опять идти к Луначарскому, опять часа два дежурить в его приемной – и опять часа два любоваться на тот же плакат, который остался совершенно таким же, как был прежде, только висел теперь не над дверью, а рядом с ней. Луначарский велел написать мне новую записку, и я ушел, на сей раз уже ничего не сказав о плакате.
При втором посещении сапожного центра я там выстоял в двух очередях часа по три в каждой. Зато добился важного результата: узнал, что фактически обувь имеется только в «распределителе № 1», куда и необходимо получить ордер, ибо если я получу ордер на «любой распределитель», то буду безрезультатно ходить по городу до скончания века. Уж не помню, какими чудесами и происками, но получил я ордер именно в этот заветный «распределитель № 1». Одновременно со мной такой же ордер получил человек замечательного и неожиданного вида: это был старик огромного роста, лысый, без шапки, с высоченным посохом, с иконою на груди и – в веригах, которые на нем гремели при всяком движении. Таких классических странников немного случалось мне видеть и в прежние времена. Каким образом он уцелел и через кого получил свой ордер – не представляю себе.
Мы вместе вышли на улицу и вместе отправились в распределитель, который был не что иное, как бывший «Английский магазин» Шанкса на Кузнецком Мосту – самый фешенебельный из московских магазинов. Теперь в нем была ледяная пустыня. В витринах ничего не было. В какой-то дальней комнате мы нашли несколько обувных коробок и скучающего приказчика, который со старорежимной вежливостью преклонил пред нами колено. Я снял свои валенки; странник, скинув лапти, принялся разматывать онучи. Выбор был не велик: кроме лакированных полуботинок американской фирмы «Вера», ничего не оставалось. Размеров было лишь два – самый большой и самый маленький. Старик взял большой и ушел, стуча по паркету посохом и лакированными туфлями. Я взял маленькие. Они мне жали, но я про себя уже решил в Петербурге обменять их.
В последний год его жизни случалось Пушкину, выйдя из дому, повернуть налево, пройти по набережной Мойки до Полицейского моста и повернуть налево еще раз, по Невскому. Тут же, в угловом доме с колоннами, принадлежавшем Голландской церкви, находился книжный магазин Фердинанда Беллизара. Впоследствии принадлежал он фирме Мелье, под именем которой (перейдя уже, впрочем, к третьему владельцу, С. Н. Трофимову) просуществовал до 1918 года. В 1920 году дом был необитаем. У подъезда его день и ночь толклись папиросники – мальчишки и девчонки, наперебой кричавшие: «А вот, а вот харьковская махорка! А вот, а вот “Ира”! А вот, а вот старая толстая “Сафо”!» (Говорят, одна пожилая писательница, проходя мимо, была очень обижена, приняв последнее восклицание на свой счет.)
После налетчиков папиросники были самыми богатыми людьми того времени. В московском цирке ежевечерне заполняли они все ложи и первый ряд. Клоуны Бим и Бом126, выходя на арену, отвешивали им поклон: «Именитому московскому купечеству – наше нижайшее!» В Петербурге был у них ночной клуб на Михайловской площади – с ликерами и шампанским. Я жил у Полицейского моста – как раз по диагонали от магазина Мелье. С папиросниками у меня были отличные отношения. Я предложил им туфли, но покупателя не нашел. Мне дали, однако ж, дельный совет: поискать «шкета», то есть малолетнего сутенера. С этой категорией граждан папиросники были тесно связаны: почти все девочки-папиросницы занимались и проституцией. Я отправился на рынок, и действительно через каких-нибудь четверть часа туфли были мной проданы парню с неслыханно великолепным коком, выбивавшимся из-под каскетки, и в таких широченных «клешах», что издали можно было принять их за юбку.
В последний раз торговал я весной 1922 года.
Раз в неделю я брал холщовый мешок и отправлялся на Миллионную, в Дом Ученых, за писательским пайком. Получающие паек были разбиты на шесть групп – по числу присутственных дней. Мой день был среда. Паек выдавался в подвале, к которому шел длинный коридор; по коридору выстраивалась очередь, представлявшая собой как бы клуб. Здесь обсуждались академические и писательские дела, назначались свидания. К числу «средников» принадлежали, между прочим, Ю. Н. Тынянов127, Б. В. Томашевский128, Виктор Шкловский, а из поэтов – Гумилев и Владимир Пяст. Случалось, что какой-нибудь пайковой статьи (чаще всего – масла и сахару) не выдавали по нескольку недель, возмещая ее чем-нибудь другим (увы, подчас – просто лавровым листом и корицей). Однажды, сильно задолжав перед получателями пайков, Дом Ученых выдал нам сразу по полпуда селедок. Предстояла, следовательно, задача продать селедки и на вырученные деньги купить масла. Дня через два я отправился на Обводный канал. Рынок шумел. Я выбрал место, поставил на землю мешок, приоткрыв его, чтобы виден был мой товар, и стал ждать покупателей. Конечно, надо было бы кричать: «А вот, а вот свежие голландские сельди! А вот они, сельди где!» – или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал, что из этого у меня ничего не выйдет. Меж тем отсутствие рекламы, сего двигателя торговли, давало себя знать. Люди шли мимо, не останавливаясь. Глядя по сторонам довольно уныло, шагах в двадцати от себя я увидел высокую, стройную женщину, так же молча стоявшую перед таким же мешком. Это была Анна Андреевна Ахматова. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий – и я расторговался. Селедки мои оказались первоклассными. Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их брать из мешка. Потом руками, с которых стекала какая-то гнусная жидкость, пропитавшая и весь мешок мой, они отсчитывали деньги, которые я с отвращением клал в карман. Несмотря на высокое качество моих селедок, некоторые покупатели (особенно – женщины) капризничали. Еще со времен Книжной лавки писателей я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских больших магазинах: «Покупатель всегда прав». Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать, причем заметил, что только что забракованное одним приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение: покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг.
Распродав все и купив масло, я уже не нашел Ахматовой на прежнем месте и пошел домой. День был веселый, солнце уже пригревало, я очень устал, но душа радовалась. Впереди меня шла нарумяненная проститутка, в блестящих туфельках, с папиросой в зубах. На ходу она крепко, ритмически раскачивала тугими бедрами, причем правым как-то особенно поддавала с некоторой задержкой, так что в общем походка ее слагалась в ритмическую фигуру, образуемую анапестом правого бедра и ямбом левого. Идя за нею, невольно в лад сочинил я стихи – как бы от ее имени:
- Ходит пес
- Барбос,
- Его нос
- Курнос,
- Мне вчерась
- Матрос,
- Папирос
- Принес.
Так долго мы шли, пока на каком-то перекрестке не разошлись пути наши.
1937
Во Пскове
Сократив пассажирское движение на советских железных дорогах, в СССР отчасти воскресили стиль эпохи военного коммунизма и начала нэпа. Железнодорожный билет стал вновь драгоценной редкостью, а в вагонах опять создалась та самая обстановка, которую покойный поэт Константин Вагинов129 запечатлел в стихотворении, начинавшемся со стиха:
- У каждого во рту нога соседа.
Во время военного коммунизма население было прикреплено к земле. В каждом отдельном случае поездка по железной дороге должна была быть обоснована действительной надобностью. Легальных надобностей у советского гражданина было не много: торговля была запрещена, семейные отношения упразднены. Другими словами, ездить разрешалось только по казенным делам, то есть по командировкам. Чтобы получить билет, требовалось добыть командировку. Командировки и добывались – по протекции либо за деньги. Кто не добыл командировки, должен был ехать зайцем – под скамейкой, на крыше, на буфере, а то так и на осях под вагоном.
Кроме простых командировок, обрекавших человека на езду в «бесклассовом», то есть загаженном, вшивом и переполненном, вагоне, существовали командировки привилегированные: в вагоне международного общества.
В 1919 – 1920 годах заведовал я московским отделом издательства «Всемирная литература», которого центр находился в Петербурге. Поэтому я обладал правом выдавать командировки сотрудникам. Виза, поставленная Енукидзе130, превращала мою командировку в привилегированную. Немалое количество литераторов и профессоров проехало по ним не только в Петербург, но и в другие города. Переводчиков Кальдерона и Ламартина отправлял я в Орел или Харьков «по делам службы». В международном вагоне ехал я и сам в Петербург, причем имел немало случаев наблюдать высокопоставленных спутников. Никогда не забуду одного круглолицего, румяного парня, лет семнадцати. До революции он подавал чай и носил бумаги из этажа в этаж в частном банке. После революции занял «пост» в Наркомфине. На нем была умопомрачительная шуба на ильковом меху с бобровым воротником, новый костюм, от которого рябило в глазах, лаково-прюнелевые штиблеты, шелковые носки. Из новенького кожаного чемодана вынул он пунцовое атласное одеяло, стеганое, с пододеяльником, обшитым широкими кружевами, которые так и пенились. По углам были огромные банты из красных лент. Ложась спать, обрызгался он духами, и благоухал, и храпел, и его румяная морда презабавно выглядывала из кружев.
Переселившись в Петербург, я лишился власти и сделался простым смертным. Поэтому когда летом 1921 года вздумал я поехать на отдых в деревню, расположенную возле города Порхова, то пришлось мне раздобывать командировку для себя, для жены и для тринадцатилетнего моего пасынка. После двухнедельных мытарств я получил командировку и билеты, но о международном вагоне и о плацкарте мечтать уже, разумеется, не приходилось. Как бы то ни было, в жаркий августовский день явились мы на Варшавский вокзал. Ехать надо было до Пскова, а там пересесть на Порхов. Багаж у нас был громоздкий: одежда, постельное белье, подушки, одеяла, книги, а главное – груда товаров для меновой торговли с туземцами, ибо деньги не стоили ничего. На вокзал мы прибыли часа за два до поезда – неизвестно, как и когда будут сажать в вагоны. Сидели на вещах в зале третьего класса. Потом началась посадка – буря и натиск, вой, улюлюканье, поднятые кулаки, сундуки в воздухе, звон разбиваемых стекол. Потом все-таки очутились в вагоне – человек по шести на короткой скамье. Потом поезд тронулся – нельзя сказать, чтобы «замелькали станции»: мы тащились медленно, в одуряющей жаре, в жажде, в зловонии, полагаясь на Провидение и на шарики из нафталина и камфары, рассованные по всем карманам, зашитые в ладанки на груди – в защиту от вшей (впоследствии я узнал, что вши очень любят садиться на эти шарики).
В вагон мы попали, конечно, не первыми. Верхние места были уже заняты. Чьи-то ноги порой свешивались к носам нашим. Против нас на верхней скамье расположилась бойкая девка, которой доставляло большое удовольствие обнаруживать полное отсутствие исподней одежды. Пока не стемнело, я старался обращать внимание пасынка на иные картины природы – на те, что нам медленно развертывались за окном. Потом нас укачало, и началась сонная одурь, онемение рук и ног. Потом рассвело, и мы стали подъезжать ко Пскову.
Поезд наш опоздал на час. «Согласованный» с нами поезд на Порхов ушел за десять минут до нашего прибытия. Спрашиваем, когда идет следующий, и получаем ответ: послезавтра в это же время. Известие ошеломляющее – нам предстоит прожить двое суток во Пскове. Сдаем вещи на хранение и тут же узнаем, что наши билеты надо «прокомпостировать», то есть сделать на них отметку об остановке. Перед кассою очередь. Добравшись до окошечка, узнаю новость совсем уже потрясающую: билеты наши вообще на послезавтра недействительны и надо брать новые, которые по командировке петербургской не могут быть выданы – нужна командировка от псковского совдепа. Отправляюсь в совдеп, но железнодорожный отдел, оказывается, сегодня не работает: приходите завтра.
Отправляемся в город искать прибежища на двое суток. Не тут-то было: в гостинице для получения комнаты нужна бумага от жилищного отдела. Снова иду в совдеп. Там надо мною смеются: где же это видано, чтобы проезжающим отводились комнаты? Чтобы получить комнату, надо быть постоянным жителем города, иметь в нем службу. Начинаю расспрашивать жителей, не сдаются ли у кого комнаты. На меня смотрят с опаскою, потому что я подбиваю на преступление: сдавать комнаты без разрешения совдепа запрещено. За это людей сажают в тюрьму…
Прослонявшись часа полтора по улицам, вздумал я искать помощи у собратьев по перу. Разыскал редакцию местной газеты, но в сей ранний час ничего не нашел там, кроме гранок, мух, сора и сторожихи. Мы возвратились к вокзалу. Невдалеке от него, не то на вытоптанном лугу, не то на поросшей травою площади, уже раскинулся жалкий табор таких же застрявших пассажиров, как мы. Среди сундуков, баулов, мешков и всякой рвани мы легли на траву, стали ждать.
Часа в три я снова пошел в редакцию, где решил действовать страхом. Развернув перед секретарем целый веер всевозможных удостоверений с печатями и без печатей, я повел себя грозным начальством и потребовал, чтобы комната мне была найдена. Несчастный секретарь перетрусил и вызвал на совещание репортера. Они долго шептались, куда-то уходили, и издали я слышал хруст вращаемого телефонного звонка, – наконец, секретарь вернулся и объявил, что в жилищном отделе толку не добьется и уже лучше мне прожить эти два дня у репортера, который располагает в гостинице двумя комнатами. Я взял репортерский адрес и снова побрел к вокзалу, за своими спутниками.
Было уже часа четыре, стоял зной, и тогда начались поиски пищи и питья. В ларьке у вокзала продали нам бутылку клюквенного кваса – лиловой жидкости, до такой степени просахариненной, что от нее тотчас же свело рот, а жажда сделалась нестерпимой.
Еды достать было негде. Базары были пусты, а в казенные лавки и заходить не стоило: без карточек ничего бы не дали.
Так, без пристанища, изнемогая от жары, скитались мы часов до восьми вечера. Думаю, что за этот день я сделал по Пскову верст двадцать. В голове стоял такой туман, что города я не заметил. Помню только, что раза четыре переходил через реку по высокому мосту. Мы насилу держались на ногах и чувствовали, что еще немного – и с нами начнутся обмороки. Меж тем предстоял второй день голодовки, хождение в совдеп, добывание билетов, потом езда в поезде и на лошадях. Только послезавтра к вечеру предстояло добраться до Вельского Устья, и мы понимали, что сил на это не хватит. И вдруг нам сказали, что в городском саду есть буфет – очевидно, одна из первых ласточек нэпа.
Действительно, в тенистой аллее на террасе стояло несколько столиков, покрытых чистыми скатертями. Старик-лакей в поношенном смокинге и пожелтевшей манишке подал нам карточку. В ней значилось: суп, отбивные котлеты, чай. Кроме нас, в ресторане никого не было, да и вообще сад был пуст. Мы набросились на еду, но не в ней одной было наслаждение. Мы душой отдыхали, на час получив возможность не притворяться, не лгать, не изворачиваться. Было почти умилительно сознавать, что с лакеем нас связывают глубоко человеческие, издревле священные отношения купли и продажи. Мы просидели в ресторане до темноты – кроме нас, никто больше не заходил.
Потом мы отправились ночевать. «Апартамент» хроникера состоял из двух комнат. В задней жил он сам. Передняя, проходная, была предоставлена нам. В ней имелись: кровать с пружинным матрацем и грязным тюфяком и кушетка, обитая сальной, грязной материей. Пахло затхлостью. Не было ни стола, ни стула, ни умывальника. Не было ни электрической лампочки, ни свечи. При свете карманной зажигалки мы улеглись, не раздеваясь: кто на кровати, кто на полу, подстелив тюфяк, а кто на кушетке. Мы тотчас уснули – и в середине ночи проснулись. Клопы ползли по нас в невообразимом количестве. Наутро лица и руки у нас были красны от укусов, точно покрыты сыпью. Тогда же выяснилось, что в комнате пол покрыт пылью чуть не на сантиметр. Видимо, его не мели много месяцев. При ходьбе на нем отпечатывались следы.
В совдепе встретил меня толстый тип с седыми подусниками. Просмотрев мои бумаги, он объявил, что так как я должен выполнить командировку, то меня он отправляет в Порхов, но жене моей и пасынку там делать нечего.
– Куда же им деваться? – спрашиваю.
– Это меня не касается.
– Тогда выдайте нам обратные билеты в Петербург.
– Не могу, потому что вы обязаны ехать в Порхов, куда вы командированы.
– Ну, тогда хоть жене и мальчику дайте билеты до Петербурга.
– Не имею права.
– Значит, я должен ехать в Порхов, а они – оставаться в Пскове?
– Выходит, что так.
– До каких же пор?
– Ни до каких пор, а пущай тут остаются.
– Помилуйте, что же они тут будут делать?
Мне уже как-то зараз и смешно, и жутко, а тип отвечает невозмутимо:
– Ваша жена может поступить на службу.
– Но ведь получается, что вы меня с ней разводите? Что ж у вас тут: железнодорожный отдел или духовная консистория?
Тип сгребает мои бумаги, протягивает их мне и говорит:
– За неуместные шутки я и вам билета не выдам. Оставайтесь, как знаете.
Отправляюсь к председателю совдепа – жаловаться. Жду его часа полтора, объясняю, в чем дело. Он берет телефонную трубку и, не смущаясь моим присутствием, обзывает моего недруга дураком. Я снова иду в железнодорожный отдел и от милейшего, любезнейшего, предупредительнейшего типа с подусниками узнаю, что, оказывается, просто он пошутил. Командировки уже готовы, на вокзале выдадут мне билеты.
Еще целый день скитаний по городу, блаженный обед в городском саду, лежание на траве у вокзала. Но близится ночь, и мы решаем, что вторично ночевать с клопами нельзя. Отправляемся на вокзал, я даю взятку носильщику, и он, уже в темноте, ведет нас на запасные пути к порожнему составу. Мы забираемся в вагон. Носильщик предупреждает, что если нас накроет Орточека (жел. дор. отдел Чеки), то будут большие неприятности. Советует не зажигать огня и не разговаривать громко. Мы ложимся на скамьи, засыпаем – и просыпаемся от шагов в коридоре. Перед нами стоят два человека в кожаных куртках, с наганами. Один из них поднимает фонарь и подносит его к моему лицу.
Объяснение, затем последовавшее, могло кончиться плохо. Выручила случайность, довольно нелепая. Среди бесчисленных бумажек с печатями и подписями, которыми я запасся, отправляясь в путешествие, была одна, подписанная Максимом Горьким. В ней было сказано, что всякому начальству рекомендуется оказывать мне всяческое содействие, так как я весьма вообще замечательный человек. В Петербурге такие бумаги имели довольно большую силу. Во Пскове подпись Горького тоже мне помогла, но совсем неожиданным образом. Чекистов, как сказано, было двое.
Один – помоложе, худой, обозленный. Другой – постарше, веселый и смешливый парень. Увидав подпись Горького, они мне объявили, что бумага подложная, а я дурак, потому что Максим Горький – не человек, а поезд, а человек такой если и был когда, так давно уже помер. Несмотря на серьезность положения, я все-таки засмеялся. Тогда и смешливый чекист тоже стал хохотать. Сцена выходила самая фантастическая. Хохотали мы долго, глядя друг на друга, – и смех нас каким-то таинственным образом сблизил. Пошли шутки, и в конце концов дело обернулось так, что я, разумеется, враль, но занятный парень и не Бог весть какой преступник, и хотя никакого Горького нет – на этот счет двух мнений не может быть, – но почему бы меня не оставить в вагоне? На том мы и порешили, причем тот чекист, который позлее, сказал:
– Ну, вот что: мне все равно дежурить. Так уж я тут у вас посижу до смены, а то другие придут – вас арестуют.
Мы снова улеглись, а чекист сел на ступеньках вагона, закурил папиросу и сторожил мой сон до утра.
Утром в наш поезд вломилась толпа пассажиров. Наконец тронулись и без приключений доехали до Порхова. К вечеру мы добрались до Бельского Устья.
1935
Поездка в Порхов
Я читаю все «толстые» советские журналы, нередко вижу газеты и в общем могу сказать, что нынешний быт СССР мне знаком. Однако мне не совсем ясно, сохранилась ли еще там характернейшая особенность эпохи донэповской, а затем и нэповской: тот нелепый порядок, при котором решительно все люди, как правящие, так и управляемые, заняты были не своим делом, а если иногда и своим, то в столь бессмысленных условиях, что дело превращалось в толчение воды. Отсюда возникла вторая особенность эпохи – глубочайшая ложь и притворство, которыми она была пропитана, вечный «камуфляж», без которого нельзя было ступить шагу. Думаю, что и теперь там продолжается все то же самое, изменилась разве только окраска. Суждение мое основывается, впрочем, не на литературном материале, а на газетном. В литературе всеобщая чепуха и всеобщая ложь сказываются слабо, потому что это – самое уязвимое место советского порядка и о нем нельзя даже намекнуть. Беллетристы о нем помалкивают, как молчали и в те времена, когда я еще жил в Советской России. Возможно и то, что теперь смешную и грустную чепуху тамошнего уклада менее замечают: одни к ней привыкли, другие в ней выросли. В «мое» время люди от нее сильно страдали, утешаясь лишь тем, что она давала немало поводов для остроумия и злорадства. Недаром предмет чуть ли не всех советских анекдотов – обывательское притворство. Об одном из самых нелепых дней моей подсоветской жизни мне хочется рассказать.
Я прожил полтора года в писательском общежитии при петербургском Доме искусств, который сам по себе представлял классический образец камуфляжа, но о котором сейчас говорить не буду: это тема особая. В 1921 году один член правления, Бог весть какими путями, добился устройства летней колонии для измученных и отощавших литераторов: был он человек многосемейный, детям в особенности надо было прокормиться. Колония помещалась в Порховском уезде Псковской губ.; местный совдеп отвел под нее чье-то пустующее поместье с полуразрушенным барским домом. Жили там совершенными Робинзонами. В доме было комнат двенадцать – только в трех сохранились оконные стекла. Кроватей было всего три. Спали на полу, на сене. Одна почтенная писательница, в которую, говорят, был влюблен Тургенев, устроилась в выдвинутом ящике большого комода. Был диван, было несколько столов и стульев. Было несколько мягких кресел, с которых обивка была сорвана и пошла на туалеты местных прелестниц, так что семья одного мужика представляла собою как бы разбежавшуюся голубую гостиную, а семья другого – гостиную розовую. Из какого-то склада выдали нам посуду, – но мне не поверят, если я скажу, какие именно сосуды были присланы в качестве суповых мисок и кувшинов для молока. Хотя сосуды были прямо из магазина – они вызывали такие скучные ассоциации, что ими никто не пользовался. Советских денег деревенское население не принимало. Будучи об этом заранее осведомлены, колонисты привезли с собой предметы для товарообмена: скатерти, из которых шились портки и рубахи, салфетки, которыми бабы повязывали головы, а также одеколон, румяна и пудру. За скатерть можно было получить двухмесячный абонемент на молоко, за кусок мыла – курицу и десяток яиц, за бутылку одеколона – мешок муки. В ход пошли и одежды: покойный поэт Пяст, друг Блока, при мне выменял свои знаменитые на весь Петербург клетчатые штаны на два пуда муки. В общем, мы стали недурными торговцами. На бывшей стеклянной веранде, превращенной в универсальный магазин, по целым дням толклись мужики и бабы. Питались мы очень недурно. Кто-то выменял граммофон на барана.
Казалось бы: дали людям подышать воздухом и поесть – и хорошо. Но не тут-то было: продавать румяна деревенским девкам надобно не иначе как под прикрытием из высоких лозунгов и культурных «заданий». Билеты на проезд до Порхова выдавались не иначе как по командировкам. Нужно было проделать фантастическое количество формальностей в таком же количестве петербургских и порховских учреждений, чтобы эти командировки получить, и в этом было немало трагикоммического. Факт тот, что в Вельском Устье (так называлось имение) очутился я в качестве спеца, командированного на предмет чтения лекций по поэтике в литературной студии при отделе народного образования (Наробразе) Порховского совета. Что происходило в студии, никому не было известно. Читать в ней лекции я не собирался – хотя бы уже потому, что колония наша находилась в пятнадцати верстах от города, а способов передвижения почти не было. Однако одну лекцию, «показательную», надобно было прочесть для того, чтобы Наробраз засвидетельствовал, что моя командировка исполнена: без такого свидетельства, с печатями и подписями, не мог бы я получить обратный билет до Петербурга. Словом, лекцию мою назначили на какой-то день в конце августа, в семь часов вечера. Дату я выбрал с таким расчетом, чтобы попасть в Порхов в базарный день: мне нужно было возобновить запас махорки. Как водится, колонисты мне надавали поручений – тоже махорочного порядка или в этом роде. Чтобы поспеть на базар, надо было выехать утром. После некоторых хлопот раздобыл я себе беду. О беде позволю себе сделать специальное отступление.
– Беда! – восклицает псковский мужик, желая поведать о постигшем его несчастье. Когда же идет речь о классическом псковском экипаже, он явственно произносит: бида. Отсюда я заключаю, что эти два слова надо бы и писать по-разному:
в первом случае – через «е»: беда, а во втором – бида. Однако буду писать его всегда через «е» – из уважения к словарю Даля, который не делает различия между несчастием и экипажем. Быть может, тут дело и впрямь идет лишь о двух значениях, даже о двух применениях одного и того же слова: ибо езда на беде есть истинная беда.
За два месяца, прожитых в Порховском уезде, не видел я никакого другого экипажа, кроме беды. На беде пскович возит и навоз, и сено, и хлеб, и дрова, из бед составляются свадебные поезда, на беде везут и покойника к месту его последнего упокоения. Происхождением своим беда, несомненно, обязана бездорожью. Ее преимущество заключается в том, что у нее всего два колеса. По развороченным колеям и колдобинам Порховского уезда ныряет она не в пример свободнее, чем ныряла бы на ее месте обыкновенная телега о четырех колесах. Лошади от того много легче, а седоку все равно. Однако беда имеет и свои недостатки – немалые.
Представляет она собою узкий полок или настил, положенный прямо над осью, между двумя колесами. Своеобразие же ее, имеющее важные технические и эстетические последствия, заключается в устройстве оглобель. Для каждой из них выбирается целое деревцо или даже дерево, у которого нижний сук, самый толстый, отходит от ствола под прямым углом. Кроме того, этот сук в верхней части своей должен иметь загиб в сторону. Верхняя часть дерева (выше сука) отрубается прочь, а нижняя постепенно отесывается, так что ствол утончается в противоестественном направлении – сверху вниз, а не снизу вверх, как у живого дерева. Вместе с загнутым суком получается нечто вроде печатной буквы Г, у которой конец верхней горизонтальной палочки не загнулся бы вниз, как вы видите здесь, а отделился бы от бумаги и торчал бы в глаза читателю. Обе такие оглобли прибиваются по сторонам полка в одной плоскости с ним. Нижняя отесанная часть дерева уходит вперед, к лошадиной шее, а верхняя пригоняется так, чтобы ее загиб, бывший сук, пришелся наравне с задним краем полка и поднимался бы под прямым углом вверх. При этом оглобли выбираются или размещаются так, чтобы вторые загибы, короткие и отточенные, как бычачьи рога, были отвернуты в разные стороны, один налево, а другой направо. От этого задний конец беды получает форму лиры, а весь экипаж – несомненное своеобразие и некое дикое изящество.
Лира устроена не с эстетической, а с практической целью. Дело в том, что колеса – вещь дорогая. Чем меньше они, тем дешевле. Колеса беды не больше задних колес обыкновенной телеги. Вследствие этого ось приходится ближе от земли, гораздо ближе, чем передний конец оглобли. Таким образом, оглобли у беды спускаются вниз чуть ли не под тем же углом, как у саней, а так как они находятся с полком в одной плоскости, то и весь полок оказывается расположен не параллельно земле, а весьма покато: его задний край лежит значительно ниже переднего. Вот тут-то и начинается спасительная роль рогов: кладь в них упирается и потому не сползает с беды прочь. Но это преимущество касается только клади. Ездоку же, если он едет порожним, приходится сидеть на беде по-турецки, поджав ноги и непрестанно сползая назад. На то и уходит время его, что он ерзает по полку: то съезжая назад по неумолимым законам природы, то стараясь взобраться повыше, чтобы затем начать сползать сызнова. При этом он должен стараться ни рукой, ни ногой не попасть в колеса, которые вращаются у него справа и слева недалеко от локтей. Конечно, можно было бы намотать веревку между рогами и устроить нечто вроде спинки, но, прислонясь к ней, седок окажется настолько ниже лошадиного крупа, что дорога окажется от него совершенно закрыта и он не сможет править. Правда, в розвальнях ездок тоже находится очень низко, но в розвальнях он ездит либо стоймя, либо устраивает себе нечто вроде облучка. На беде все это невозможно, потому что ее трясет и раскачивает не так, как розвальни. Словом, езда на беде – беда.
Чтобы застать базар, я выехал часов в десять утра по советскому времени, то есть в шесть часов – по-настоящему.
Солнце вставало розовое, было еще прохладно. Дорога от Вельского Устья до Порхова довольно живописна. Часть пути надо ехать по низкому берегу реки, поросшему кустарником. За кустами виднеется медленная, синяя вода, а за нею – высокий берег, по которому спускаются вниз темно-синие ели. Отходя от реки, дорога пересекает холмистые поля, разграфленные черными, желтыми и зелеными квадратами. Путешествие было бы приятно, если бы ехать не на беде и если бы в беду не был запряжен средних лет мерин, розовогубый, белый, покрытый какими-то бестолковыми черными крапинами. Теперь, конечно, его уже нет на свете, и я постараюсь не говорить о нем дурно. Несомненно, он родился с отличнейшими задатками, но они были испорчены плохим воспитанием. Упрямство и приверженность к ложным традициям составляли главное его свойство. Сколько ни понукал я его идти по колее – он делал по-своему, то есть шел между колеями, в которых беда то и дело проваливалась по ступицу. От этого меня валило со стороны на сторону, но это было еще не главное несчастье. Главное состояло в том, что с горы мой конь мчался глупейшим галопом, а в гору тащился как черепаха. Изменить его аллюры не было никакой возможности. Когда мы летели вниз, это было еще туда-сюда, потому что передняя часть беды опускалась, а задняя подымалась и вся она принимала горизонтальное положение. Но когда мы ползли наверх, передний конец поднимался еще более, чем обычно, а задний еще более опускался. Ноги мои оказывались чуть ли не выше головы, я безнадежно сползал назад и, стараясь вскарабкаться вновь повыше, являл собою как бы Сизифа и его камень в одном лице, или, иначе сказать, был сам себе Сизиф и сам себе камень. Версты за три до Порхова надо было переезжать вброд небольшую речку, шириной всего саженей в десять, но приближение к ней наполнило душу мою тревогой. И не напрасно. С глинистого крутого берега слетели мы вихрем, лихо повернули влево и со всего размаху плюхнулись в воду. Беда вертела колесами, как пароход, и вода захлестнула всю заднюю половину ее: только каким-то чудом успел я к этому мигу переползти вперед и благодаря этому сам не очутился в воде. Посередине речки мы вдруг остановились, стали махать хвостом и пить вопреки всем правилам гигиены. Потом выползли на противоположный берег и прежним манером поехали к Порхову. Наконец вдали показался город. Я, остановив коня, свернул папиросу, закурил и принял независимый вид. В город мы въехали чинно, шагом, стараясь, чтобы прохожие не догадались о досадах и недоразумениях, возникших между нами за три часа пути.
Приближаясь к базарной площади, я был смущен подозрительной тишиной. Подъехав, увидел я ряд заколоченных ларьков и узнал, что с этой недели расписание торговых дней изменено государственной властью. Базар будет завтра. Это известие спутало все мои расчеты и планы. Прежде всего, выходило, что я должен ради своих покупок остаться в городе до завтра. Но где ночевать? Во-вторых, где и чем питаться? О порховском базаре я был наслышан самым лестным для него образом: рассказывали, что на нем не только продают молоко, масло и хлеб, но пекут лепешки и даже жарят котлеты – свиные и бараньи. Теперь оказывалось, что все это я могу получить только завтра, а есть мне хотелось уже – и очень. К тому же езда на беде меня измучила. Надо было немедленно подкрепляться. Я стал спрашивать у прохожих, нельзя ли добыть какой-нибудь пищи. Одни смотрели на меня с изумлением, другие сочувственно, третьи насмешливо, но никакого совета не дал никто. Вдруг я увидел женщину, возникшую у ларька: она что-то там приколачивала, неловко колотя по гвоздю камнем.
Я подъехал к ней. Это была старая, горбатая, горбоносая еврейка. Оглядевшись по сторонам, она шепотом велела отъехать в сторону и заметить ворота, в которые она войдет. Через четверть часа я должен подойти к калитке, но не стучать – она будет открыта. Все эти предосторожности делались для того, чтобы никто не узнал и не донес, что старуха торгует на дому. Выждав время, я проник в таинственное убежище, как Дон Жуан в дом Командора. Кстати, и моя Донна Анна оказалась вдовой. Пока я пил молоко и пожирал ломти свежего черного хлеба, она рассказала мне свою биографию. Ее муж умер лет десять тому назад, сын, вдовец, служит на железной дороге; она ведет хозяйство, присматривает за внуками (мальчик лет десяти и девочка лет шести тут же вертелись), и «немножко» торгует на базаре, потому что «ведь надо кушать». Она говорила нараспев, с ноющими, бесконечно скорбными интонациями, точно все время прося прощения, и выговаривала слова с ужасающим еврейским произношением. По-видимому, некогда в доме был достаток. Комната, где мы сидели, была просторна и опрятна. Дубовая безвкусная мебель составляла ее убранство. Вдоль одной стены тянулась длинная полка, на которой стояло около пятидесяти толстых старинных книг одинакового формата в переплетах из свиной кожи. Книги принадлежали покойному мужу моей хозяйки – сын ее по-еврейски уже не читает. Рассказав о себе, пожелала она узнать и обо мне – есть ли у меня «шлюзьба», а главное – есть ли «зена» и «зети». Она не хотела взять с меня деньги, говоря:
– Если не на базаре, то вы зе узе мой гость!
Наконец я все-таки ей всучил какие-то бумажки, которые она сунула в карман пестрой юбки, не считая и улыбаясь не то смущенно, не то презрительно. Я провел у нее больше часу. Пора было идти в Наробраз – визировать командировку и узнать, где находится помещение, в котором я буду читать лекцию. От усталости и езды меня разморило. На улице начинался зной. Мне не хотелось уходить от простой, умной и доброй женщины. Я предчувствовал, что теперь предстоит провести несколько часов с идиотами.
Я отвязал лошадь от фонаря, взгромоздился опять на беду и загремел по улицам Порхова. Город оказался довольно приятен. Разноцветные крыши и обилие садиков придавали ему вид почти нарядный. Я колесил по нему долго, ибо никто мне не мог указать, где находится отдел народного образования. Население явно не знало даже о том, что он вообще существует. «О, слепота неблагодарного человечества, привыкшего неглижировать теми, кои в тишине и безвестности пекутся о его счастии!» Так или в этом роде воскликнул бы на моем месте философически настроенный путешественник XVIII столетия. Отыскав наконец Наробраз, помещавшийся в запущенном строении казенного типа, я застал его в ту самую минуту, когда коллегия заседала. Я не обинуясь заявил о скромной цели своего прихода – о желании получить отметку о выполнении командировки и узнать, где назначена моя лекция. Все это мне обещали сделать, но не сейчас. Сейчас пригласили меня принять участие в обсуждении дел. Отказаться было опасно. Меня «кооптировали» в состав коллегии и усадили рядом с председательницей. Я стал осматриваться.
Комната была небольшая, с узенькими простенками и тремя оконцами. Их двойные рамы не вынимались, должно быть, уже несколько лет. Между немытыми стеклами лежала потемневшая вата, усеянная мушиными трупами. Мухами были облеплены и стаканчики, на дне которых виднелись остатки серной кислоты. Комната была оклеена грязными розовыми обоями с трещинами и вздутиями. Впрочем, обои в некоторых местах исчезали под бесчисленным множеством печатных и рукописных афиш, объявлений и записок. Крашеный желто– красный пол был вымыт сравнительно недавно, зато с потолка свисали клочья белой бумаги, которой некогда был он оклеен. Председательница сидела на диване, обитом зеленым репсом. Наружность председательницы меня озадачила. Я привык в этих случаях к тощим брюнеткам зубоврачебного типа, а тут передо мной находилась дебелая блондинка, лет сорока, в белой шелковой блузке с большим вырезом, в котором виднелась глубокая складка между грудями, подпертыми корсетом. Туда же, в складку, сбегала массивная золотая цепочка, на которой висели золотые часики. Непривычная внешность председательницы объяснялась тем, что, как я потом узнал, эта особа была местная землевладелица, в свое время начитавшаяся брошюр.
Она сохранила повадки помещицы и кокетки. Крепко румянилась, сладострастно вертела глазами и приманчиво облизывала толстые свои губы розовым язычком. Председательствовала она с видимым удовольствием – точно в июльский полдень кушала холодную простоквашу. Голос у нее был певучий и сладкий, но сильный. Единственным видимым признаком радикальной интеллигентности было у нее пенсне, трепетавшее на небольшом, чуть вздернутом носике. Вероятно, в молодости она была смазлива.
Прочие члены коллегии имели вид менее веселый. Их было четверо: три коммуниста и беспартийный спец. Старший из коммунистов явно принадлежал к числу бывших интеллигентов. Может быть, это был даже какой-нибудь политкаторжанин. Держался он сумрачно и почти ничего не говорил, сося трубку и время от времени поскребывая грязной рукой то темя, то бороду. Растительностью Бог его не обидел – он весь был покрыт всклокоченной черной шерстью. От него пахло затхолью. Пенсне у него было на черной широкой ленте. Другой коммунист был молодой педагог, недавно переведенный в Порхов из Петербурга, высокий белокурый человек, лет 25. На нем была синяя косоворотка, стянутая широким ремнем, и пенсне в роговой оправе. У третьего коммуниста был флюс. Щеку его раздуло – он повязался бабьим белым платком с розовыми горошинами. Завязывая платок на затылке, он нечаянно прихватил клок волос, который торчал хохолком из узла. Нос у него был защипкой, и, должно быть, пенсне на нем плохо держалось даже в нормальное время, а теперь, подпираемое раздутой щекой и ватой, сидело вовсе наискосок. Однако читатель ошибется, если подумает, что в этом парне было что-нибудь комическое. Его зеленое, очень злое лицо выражало крайнюю подозрительность и крайнее напряжение мысли. По-видимому, это был какой-нибудь слесарь или водопроводчик, остервенелый от классового сознания и насквозь пропитанный политграмотой. На поясе у него висел револьвер – нужно думать, он был чекистом. В заседании он не проронил ни слова, но внимательно слушал и зорко поглядывал на всех говоривших. Явно было, что он чувствует себя стоящим на страже революции. Зато говорил много и оживленно беспартийный спец, молодой еврей, исключительно курчавый и с исключительно длинным носом. Иногда он вскакивал, и тогда оказывалось, что он меньше ростом, когда стоит, чем когда сидит: так длинно было у него туловище и так коротки ноги, снабженные, впрочем, огромнейшими ступнями в огромнейших желтых туфлях. Говоря, он все время наматывал длинный тонкий шнурок своего пенсне на тонкий и длинный, как у горбуна, палец. В сущности, разговор велся все время между ним, председательницей и педагогом. Речь шла о реформе театра, оратор же был по профессии театральный парикмахер.
Вырабатывались принципы театральной реформы: не для Порхова (неизвестно даже, имелся ли в Порхове театр), – а для всей советской республики и шире – для всего мира. «Если делать, так уж делать! – восклицал парикмахер. – Мы не вправе себя ограничивать узкими национальными рамками!» Однако что именно надо делать и почему – в Порхове, мне так и не удалось понять за все два часа, которые просидел я в заседании. Наперебой произносились слова, выдернутые то из специальных книг о театре, то из советских газетных передовиц и агиток. Такая бессовестная каша варилась в головах ораторов, что я не мог понять даже того, идет ли речь о преобразовании театра по существу, или еще только намечается план работ и «порядок дня». Чувствовалось, что вопрос «прорабатывается» уже не в первом заседании и что предстоит еще ряд дальнейших. Сперва мне было забавно – участники прений представлялись мне «квинтетом»: расширенным пленумом крыловского квартета. Потом мне сделалось очень скучно. Вдруг, разглядывая от скуки членов коллегии, я сообразил, что они все – в пенсне. В ту пору и я носил пенсне, и от этого стало мне нестерпимо совестно: в некотором смысле квинтет превращался в секстет – при моем участии. Чтобы его как-нибудь разрушить, я встал и подошел к окну. Оно выходило на чьи-то задворки. Там, в ленивой духоте знойного дня, грелась на солнце большая свинья и ходили куры. Комната находилась во втором этаже, и справа, поверх досчатого забора, была видна улица. Мой мерин стоял, понуря голову и отмахиваясь хвостом от мух. Кругом была полдневная тишина российского захолустья, а тут пятеро идиотов надсаживались, решая проблемы европейского театра. Я вдруг обернулся к ним и объявил, что пора кончать. Кажется, они сами обрадовались моему предложению. Заседание закрылось, мне наставили подписей и штемпелей на командировку. Было около пяти часов по советскому времени. Учитель помог мне поставить лошадь в какой-то сарай. Мы ее отпрягли, я ей дал сена, предусмотрительно захваченного из дому, и расстался с нею до завтрашнего утра.
Надо было подумать о предстоящем ночлеге. Оказалось, что в городе нет ни гостиницы, ни постоялого двора, ни даже какого-нибудь общежития. Ночевка на улице мне не улыбалась. Я решил попросить приюта у моей еврейки, и мы к ней отправились – коммунисту это было по дороге. Однако сколько мы ни стучали в ворота, нам никто не открыл. Явиться сюда вечером, не условившись заранее, казалось мне рискованно, и я приуныл. Тогда коммунист предложил мне переночевать у него. Я с радостью согласился.
Он дал мне свой адрес, и мы порешили на том, что я приду к нему после лекции – часов в десять.
Он отправился домой, а я пошел слоняться по городу. Вскоре я очутился на главной площади, посреди которой, если мне память не изменяет, росло несколько деревьев. На фоне их высился монумент, которому подобного я еще не видывал, хотя видел памятник Гейне в Москве, в Нарышкинском сквере, и памятник Володарскому131 в Петербурге. Он был исполнен в кубистическом и футуристическом духе – пожалуй, не без влияния знаменитого татлинского памятника революции132. Основанием ему служил белый куб вышиной примерно по грудь взрослому человеку. На этом кубе высился другой, поставленный как-то наискосок и поменьше величиной. На самом верху, опять же асимметрически, торчала маленькая четырехгранная пирамида с усеченной вершиной. Все, в общем, было похоже на пасху, которую уронили, сломали и составили вновь, но плохо. Сооружение было вышиной сажени в полторы, то есть не «выше пирамид». Подойдя ближе, я обнаружил, что и материал его не «прочнее меди». Попросту говоря, состоял он из деревянного каркаса, на который был натянут холст, выкрашенный клеевой краской. С одной стороны холст уже был оторван и позволял заглянуть внутрь. Мне вспомнился стих Державина:
- На стогн поставлен, на позор.
- Кумир безумну чернь прельщает;
- Но чей в него проникнет взор —
- Кроме пустот не ощущает.
Впрочем, мой взор и мое обоняние ощущали в памятнике еще нечто, «кроме пустот»; но что именно – да пребудет тайной сего монумента. Никакой надписи не было на его «цоколе», но обходя вокруг памятника, подобно тому, как бедный Евгений обходил вокруг Медного Всадника, я обнаружил, кому он воздвигнут. В верхней его пирамидке была устроена маленькая ниша – точно кто ложкой отколупнул кусок пасхи. В нише стояла деревянная рамочка с фотографией Карла Маркса, уже полинялой и размокшей от дождей. Внизу, у подножия, валялся засохший букет полевых цветов, перевязанный куском красного кумача…
Не помню, как скоротал я время до лекции. Я пришел на нее измученный и голодный. «Литературная студия» оказалась десятью или двенадцатью юношами и девушками, явно буржуазного происхождения. Попросту были это гимназисты и гимназистки. В иное время составили бы они кружок для самообразования, каких бывало много. Теперь опасность навлечь на себя подозрение и другие причины камуфляжного свойства заставили их отдаться под покровительство Наробраза. Мне прочли несколько стихотворений, среди которых были совсем недурные. Расспрашивали меня об Ахматовой, Гумилеве, который был убит через несколько дней, об Осипе Мандельштаме. Потом я прочитал им несколько своих стихотворений – тем лекция и закончилась. Одна барышня, хорошенькая и милая, предложила мне погулять. Мы вышли на берег реки, потом осматривали какие-то старые стены; но я уже мало что понимал от голода и усталости. Потом мы расстались, и я отправился к своему коммунисту.
Он оказался человеком семейным. Двое или трое детей шумели в комнате, которая виднелась из передней. Через нее провели меня на стеклянную веранду. Там не было никакой мебели, только на полу лежали в ряд три плоских матраца. Два из них были покрыты невероятно грязными простынями. Хозяин объявил, что это – постели его и его жены, а я буду спать на третьем матраце, для которого, к сожалению, простыни не нашлось. Не было и подушки. Вскоре явилась хозяйка дома – женщина лет 25 в полосатом капоте. С собой принесла она рваное стеганое одеяло, которым и накрылась. На сон грядущий супруги отпили прямо из бутылки какой-то жидкости – не то холодного чаю, не то квасу. Мне не предложили. Потом муж ее снял пенсне и штиблеты, отстегнул пояс и тоже лег. Из этого понял я, что настала ночь. Было десять часов по советскому времени – шесть часов по-настоящему. Никаких занавесок на веранде не было. Вся она была залита солнцем. Я лег на грязный матрац, положив под голову свернутое пальто, но пальто шерстило, и я положил на него носовой платок, послуживший мне наволочкой. Уснуть я, конечно, не мог – от жесткого ложа, от солнца, от мух, которые мне кусали лицо и руки, а главное – от усталости и голода. Проворочавшись с боку на бок часов до двух, когда наконец стемнело, я все же впал в забытье, но поминутно просыпался. Очнулся я на рассвете, совершенно разбитый. Дети уже кричали. Я спросил хозяев, давно ли они живут в этой квартире. Оказалось – уже третий год. За два года не удосужились они обзавестись ни бельем, ни кроватями, ни даже парой стаканов. И это не от бедности, ибо коммунист мог легко все раздобыть, но от своеобразного социалистического аскетизма, который сродни обыкновенному свинству, от страха перед «нездоровым буржуазным обрастанием» и от необходимости решать культурные проблемы в мировом масштабе. Меня все это, впрочем, не удивило: я видел в Москве коммунистов и повыше рангом, чем порховский мой хозяин, – они жили совершенно на тот же лад.
Мне не предложили даже умыться, да и хозяева сами не умывались. Простившись, я вышел на улицу и направился к своему коню. Увы – распрячь его я вчера сумел, но как быть теперь? Не буду утомлять читателя рассказом о поисках специалиста по запряганию лошадей в беду. Я и сам не помню подробностей, помню только, что во всем городе я не мог найти никого, кто из жалости ко мне или за деньги пожелал бы заняться этим делом. Мучился я, вероятно, часа два – и никого не нашел. Обращался в учреждения – везде получил отказ. У меня уже начинали рождаться планы совершенно нелепые – в то время, однако, были они уж не так нелепы. Например, я всерьез подумывал, не послать ли телеграмму в Москву Луначарскому, чтобы он по телеграфу предписал местному совдепу откомандировать кого-нибудь на предмет запрягания моей лошади. Быть может, я так и сделал бы, но боялся, что процедура займет целые сутки. Я почти лишился чувств от усталости и досады. Прошу заметить, что уже почти сутки я ничего не только не ел, но и не пил. Наконец поймал я на улице рыжего мужика, который, кобенясь, согласился выручить меня за катушку ниток – цена непомерная по тому времени, но торговаться не приходилось. Он запряг лошадь, и мы отправились на базар, где я должен был с ним рассчитаться. Дорогою мы беседовали. В этот голодный год урожай в Псковской и Петербургской губерниях случился в несколько раз выше обыкновенного, и они стали чуть не «житницами России». Мой спутник был этим до чрезвычайности горд.
– А вот на Волге-то народ мрет с голоду. Слышал? – спросил я.
Рыжий весь просиял широчайшей улыбкой.
– Как не слыхать! – сказал он нараспев. – Намедни к нам приезжал большевик, рассказывал. Говорит – привезем мы к вам на зиму ребят с Волги, а вы их разберите по избам. Двести ребят на уезд.
– Ну что ж вы?
– А что мы? Мы говорим – нам ребят не надо, а коли привезете, мы их всех перережем, кому который достанется.
На базаре я купил хлеба и выпил стакан молока. Закупив, что было нужно, тронулся я в обратный путь, снова сползая с беды и карабкаясь по ней вверх и жалея, что я не барон Мюнхгаузен, который сам себя вытащил из болота за волосы. Приехав в Вельское Устье, я вымылся, лег в постель и проспал до вечера. Вечером зашел дьякон. Мы сидели на балюстраде балкона и молчали. Мимо прошла Муся О., невеста одного из Серапионовых братьев. Дьякон был к ней неравнодушен.
– Ах, Марья Сергеевна! – сказал он. – Что за девушка! Что за невеста! Красоты неописуемой и не ест ничего!
И вздохнул: жилось ему тоже трудно.
1935
Виктор Гофман
В тесном кафе на бульваре Сен-Мишель гремят ложки и блюдца, мечется гарсон, на пыльных диванах примостились парочки. Рыжеватая женщина перекинула ногу в розовом чулке через колено щуплого молодого человека. Не обращая внимания, он продолжает с приятелем партию в триктрак. Две серокрылые вечерние бабочки вьются у электрической лампы.
«Хожу в здешнюю публичную библиотеку… Как странно потом попасть на наш бульвар, где живу я и где маленькие люди веселятся и любят». Это писал двадцать пять лет тому назад поэт Виктор Гофман об этом самом бульваре. В этом же доме № 43 он жил и умер. Бывал, вероятно, и в этом кафе.
Гофмана я знал очень юным. Мы учились в одной гимназии. Когда познакомились, ему было 17, мне – 15. Он был в седьмом классе, а я в шестом. Сблизили нас стихи.
Вот он сидит на краю парты. Откинутая назад голова втянута в плечи. Резко очерчено острое колено. У Гофмана худощавые руки и словно девическая ступня с высоким подъемом, плавно изогнутая. Весь он легкий. Курчавые тонкие волосы, прищуренные глаза с длинными ресницами и всегда немного дрожащее пенсне в роговой оправе. Тихим голосом, слегка в нос, он читает стихи. Читает уже нараспев, как все новые поэты.
1902 – 1903 годы. Я смотрю на Гофмана снизу вверх. Мало того, что он старше меня и его стихи много лучше. Он уже печатается в журналах, знаком с Бальмонтом, бывает у Брюсова. Брюсов взял у него три стихотворения для «Северных цветов». В «Грифе» тоже стихи Гофмана. О таких вещах я еще даже и не мечтаю…
Гофман был в обращении мягок, слегка капризен. Было в нем много женственного. Он вырос с девочками, играя в куклы. О кукле же написал двенадцати лет свои первые стихи: «Больное дитя». Отпечаток этого детства сохранился на нем до конца.
Злой рок столкнул его с Брюсовым. Очень впечатлительный и доверчивый по природе, семнадцатилетний Гофман тотчас подпал под влияние неистового и безжалостного учителя, от которого перенял его несложную, но едкую философию «мигов».
Это слово, так часто встречающееся в поэзии Брюсова, надобно пояснить. По Брюсову, жизнь состояла из «мигов», то есть из непрерывного калейдоскопа событий. Дело поэта – «брать» эти миги и «губить» их, то есть переживать с предельною остротой, чтобы затем, исчерпав их лирический заряд, переходить к следующим. Чем больше мигов пережито и чем острее – тем лучше.
Эти переживания (самое слово в ту именно пору сложилось и получило право гражданства) не подлежали никакой критике моральной, или философской, или религиозной. Все они считались равноценными. Все дело сводилось к тому, чтобы накопить их как можно больше – все равно каких. Нетрудно понять, что такое накопление, нисколько не обогащая духовно, выматывало нервы. Жизнь превращалась в непрестанное самоодурманивание, в непрекращающуюся лирическую авантюру. В сущности, это и было если не сердцевиною декадентства, то главною его составною частью.
Хуже всего было то, что постоянное возбуждение становилось привычкою и потребностью. От него развилось нечто вроде вечного эмоционального голода, который от переживаемых «мигов» не только не получал утоления, но разжигался пуще. Этого мало. По избранному пути рекомендовалось идти «до конца», не щадя себя. И шли, смутно сознавая, что идут к гибели. Сильные и менее правдивые выдерживали – к числу их принадлежал сам Брюсов. Слабые и самые «верные» погибали. Гофман был только одною из таких жертв. Ему все мерещился какой-то особенно хороший миг – такой, которым была бы искуплена и оправдана вся изнурительная его жизнь. Этот воображаемый, так никогда и не наступивший миг называл он счастьем и тосковал по нем:
- Хочется счастья, как же без счастья?
- Надо же счастья хоть раз!
Перед Брюсовым Гофман благоговел, как мы все когда-то благоговели. Брюсов, несмотря на то что был на одиннадцать лет старше, дарил его дружбой, которая, разумеется, была для Гофмана драгоценна. Дома их стояли почти рядом на Цветном бульваре, против цирка Саламонского. Брюсов, признанный мэтр и вождь, нередко заходил к Гофману, держался с ним на равной ноге, писал ему дружеские стихотворные послания, в которых (честь величайшая по тому времени!) ставил его в один ряд с собой и с Бальмонтом. Наконец, как я уже говорил, Брюсов печатал стихи Гофмана в альманахе «Скорпиона».
И вдруг все разом оборвалось. Гофман провинился. Вина была маленькая, ребяческая. Гофман имел неосторожность перед кем-то прихвастнуть, будто пользуется благосклонностью одной особы, за которой ухаживал (или, кажется, даже еще только собирался ухаживать) сам Брюсов. Имел Гофман основания хвастаться или не имел – все равно. Делать это, конечно, не следовало. Но что поднялось! Наказание оказалось во много раз сильнее вины. На девятнадцатилетнего мальчика обрушились все громы и молнии власть имущих – с Брюсовым во главе. Брюсов отдал приказ изгнать Гофмана из всех модернистских журналов и издательств. Двери «Грифа» и «Скорпиона» отныне для Гофмана были заперты. На ту беду, вскоре вышла первая книга его стихов – «Книга вступлений», с которою было связано столько боли, страха, надежд и юношеских мечтаний. Брюсов о ней написал в «Весах» уничтожающую рецензию: разнес то самое, что громко хвалил накануне.
Между тем как раз в это время умер отец Гофмана, дела семьи пошатнулись, и студенту Гофману пришлось обратиться к литературе как к источнику заработка. Но модернистские издания для его стихов и литературных статей были закрыты, а в прочих на него смотрели как на декадента. Следовательно, стучаться туда было бесполезно: литературные лагери тогда были резко разделены. Гофману ничего не оставалось, как приняться за газетную работу. В газетах он стал помещать статьи на темы публицистические, отвечавшие моменту (дело было в 1905 – 1906 годах). Он писал о «Всеобщем голосовании с точки зрения философии», о «Двухстепенных выборах» и т. д. Работа давалась ему с трудом и не интересовала его самого. Однако он кое-как перебивался.
С тех пор как стряслась с ним беда, прошло уже почти два года. Пора было его простить, но Брюсов был крайне злопамятен. Однажды прослышал он, что Гофман, провожая ночью на извозчике одну барышню, Елену Ивановну Б., вздумал ее поцеловать, но потерпел поражение. Брюсов немедленно написал и разослал знакомым следующие стихи:
- О нет, не думай ты, что было мне обидно,
- Когда с извозчика меня столкнула ты.
- Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
- И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.
- В объятиях моих для женщин много чести.
- Хотя капризен я, оне идут ко мне.
- Но ты, о гордая, мне приказала: «слезьте»…
- Ну что же, и в мечтах утешусь я вполне.
- Ведь я – дитя мечты, я младший альбатросик133.
- Принять желания за истину сумев,
- Я лаю на слонов среди отважных мосек
- И славлю свой успех у женщин и у дев.
- Ответные слова пусть очень были жестки,
- Но ведь известно всем, что я всегда поэт —
- И буду я твердить на каждом перекрестке,
- Что от любви твоей мне и проходу нет.
- Итак, не думай ты, что было мне обидно,
- Когда с извозчика меня столкнула ты.
- Нисколько! Я стоял с улыбкой серповидной
- И плечи, как жандарм, подняв средь темноты.
Наконец, кончив университет, Гофман решил перебраться в Петербург. Там он прожил два года, издал вторую (и последнюю) свою книгу стихов – «Искус», писал в газетах: в «Речи» и в «Слове». Потом, ради заработка, принимал участие в редактировании «Нового журнала для всех». Но и работа была не та, к которой влекло Гофмана, и круг сотрудников «Нового журнала для всех» был невысокого, в общем, качества, и – главное – не мог Гофман расстаться со своими лирическими авантюрами. Постепенно у него стала разыгрываться неврастения – неизбежное следствие «мигов».
Уже лет через пять после смерти Гофмана, во время войны, издатель Пашуканис134 выпустил двухтомное собрание сочинений Гофмана. Брюсов не постеснялся написать для этого издания вступительную статью, а мне была поручена биография. Во время этой работы у меня в руках была большая пачка писем Гофмана к сестре и к одной поэтессе. Они дают, что называется, яркую клиническую картину неврастении, с характерными сменами настроения, с постоянными обещаниями «преобразовать свою жизнь», с описаниями странных и сумасбродных поступков, с боязнью одиночества, с рассказами о бессонных ночах. Стихи он совсем перестал писать. Пытался работать над прозой – она в таких обстоятельствах не могла быть удачна. Проза Гофмана очень слаба, несравненно слабее его стихов, в которых, несмотря на многие недостатки, была какая-то особая, гофмановская прелесть – знак недоразвитого, но подлинного дарования.
Несколько раз он пытался куда-нибудь уезжать, надеясь вернуться обновленным. Весной 1910 года он приезжал в Москву – тогда я видел его в последний раз. Он имел вид измученный. Потом он жил в Павловске на даче, но и там мучился. Зима 1910 – 1911 годов далась ему очень трудно. Письма той поры – сплошной стон. Весной 1911 года он решил ехать за границу: все искал «перемены впечатлений», то есть новых, еще не изведанных раздражений, которые как раз были для него ядом.
Ему нужен был санаторий – он поехал в Париж. В то лето в Париже было много русских писателей: Алексей Толстой, Георгий Чулков, Минский135, Ахматова, Тугендхольд136 и другие. Гофман сперва избегал встреч и много работал, но потом, напротив, стал искать людей и работу забросил. 14 июля он танцевал на улице, возле «Ротонды», с одной нашей общей знакомой и, по ее словам, был спокоен, ровен. После 14 июля люди, как водится, стали из Парижа разъезжаться. Толстой и Чулков отправились на океан, Ахматова уехала в Петербург. Гофман остался один, погрузился в жизнь бульвара Сен-Мишель. В то лето неистовая жара стояла над Западной Европой. Тогдашние парижские газеты полны описаниями смертных случаев от жары. Что произошло с Гофманом – довольно трудно понять. 11 августа Я. А. Тугендхольд получил от него записку с просьбой зайти. Гофман писал: «Из того револьвера, о котором я вам говорил, я прострелил себе палец. Главная опасность заключается не в ране, а во французских врачах-шарлатанах. Не могу найти ни одного порядочного».
Сохранилась его записная книжка, испещренная адресами врачей и лечебниц. Наконец он попал к русской женщине-врачу. Рана была пустячная и почти уже зажила, но у Гофмана появился жар. Решив, что это брюшной тиф, Гофман объявил, что поедет в Москву к матери. Одна русская дама предложила ему перебраться к ней, в свободную комнату. В воскресенье, 13 августа, утром, она должна была к нему зайти. В половине одиннадцатого она пришла, не достучалась и вышла на время. Когда же вернулась, то ей сообщили, что в 11 часов гарсон, зайдя в комнату для уборки, нашел Гофмана на полу мертвым.
За несколько дней до этого одна из жилиц отеля сошла с ума и ее увезла полиция. Хозяин отеля впоследствии рассказывал, что в день своей смерти, в 9 часов утра, Гофман вызвал его звонком и сказал:
– Зовите полицию, я сошел с ума.
Хозяин стал его успокаивать. Гофман его наконец отпустил:
– Хорошо, можете идти. Я напишу письма и немного пройдусь; надо прибрать комнату, ко мне должна прийти барышня.
Хозяин ушел, а Гофман застрелился, оставив письма к сестре и матери. В одном из них он писал: «Надо попытаться ухитриться застрелиться». Когда я впоследствии передал эти слова Брюсову, тот сказал: «Какая неуклюжая фраза. Но интересно».
В «Пти Паризьен» от 14 августа 1911 года мельчайшим шрифтом напечатано: «Вчера в десять с половиной часов утра русский студент Виктор Гофман, 27 лет, живший в отеле, 43, бул. Сен-Мишель, покончил с собой выстрелом из револьвера в висок».
Студентом тогда назывался каждый русский, читавший книги и живший в Латинском квартале.
Страх перед сумасшествием стал мучить Гофмана гораздо раньше этого лета. Давно уже он пугался перемен в своем почерке, пропуска слов в письмах и т. д. Вероятно, какую-то роль сыграли парижские впечатления тех дней, сумасшедшая женщина, простреленный палец… Но это все – внешнее, это поводы, а не причины. Причина – страшный надрыв русского декадентства, унесшего немало жертв. Гофман был только одной из первых.
О смерти Гофмана я узнал в поезде, когда, едучи из Венеции в Москву, на вокзале в Ченстохове купил «Речь». И Гофман вспомнился так отчетливо – в гимназической куртке, а потом – в неправдоподобном «испанском» костюме, в седом парике, с накрашенным шрамом на лбу. Гофман полулежит в кресле, я стою перед ним на коленях. Он протягивает руку над моей головой и говорит протяжно, в нос:
- Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли.
- Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.
Это мы в гимназическом спектакле разыгрываем «Камоэнса».
Лет десять тому назад я был на могиле Гофмана, на кладбище Банье. На могиле стоит тяжелый памятник, с урной, с крестом и краткою надписью. Тут же разросся огромный куст – весь в колючках. Под ним я нашел полинялый букетик искусственных фиалок.
1925
Сологуб
Время бежит. Скоро уже десять лет, как умер Федор Сологуб, – это случилось в декабре 1927 года. Теперь его деятельности можно бы подвести итоги более объективные, нежели в ту пору, когда память о нем еще была свежа и когда его эпоха еще не столь далеко отступила в прошлое. Некогда я писал, что со временем «о Сологубе напишут большую, хорошую книгу». Теперь я думаю, что, пожалуй, книгу-то писать и не станут – разве что это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто (если будут тогда литературные снобы). Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место – приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но пониже Фета. Прозу его читать не будут – ее уже и сейчас не читают, и время этого не отменит. Романы, которые он писал в сотрудничестве со своей женой Анастасией Чеботаревской («Заклинательница змей», «Слаще яда»), совершенно невыносимы. Вещи вполне оригинальные, как «Творимая легенда», – немногим лучше. На поверку выходит плох и знаменитый «Мелкий бес», которым когда-то мы зачитывались и который останется разве что лишь в качестве документа о быте, и то, конечно, столь шаржированного, что строгий историк вряд ли станет им пользоваться. По-видимому, лучшее из написанного Сологубом в прозе – два-три небольших рассказа, вроде «Стригаль и компания».
И все-таки если не произведения Сологуба, то самая его личность должна занять видное место в литературной панораме символистской поры. Опять же – не потому, что общие или литературные идеи Сологуба занимали центральное или определяющее положение в самом символизме (этого не было), но потому, что в литературной жизни, в обществах, кружках и редакциях он непременно хотел играть и играл весьма заметную роль. Он был вполне искренен в любви к одиночеству и в отвращении к миру. Но и в мире, им отвергаемом, хотел занимать важное место. Наконец, нельзя отрицать, что, как человек, он был очень своеобразен, и это сказывалось во всех его поступках и повадках. Люди символизма вообще отличались таким ярким «оперением», какого русская литературная среда перед тем не видала по крайней мере лет пятьдесят – с тех пор, как исчезли последние представители ее золотого века. Блок, Брюсов, Белый выделялись из толпы с первого взгляда. Таковы же и ныне здравствующие их соратники. Таков был и Сологуб. Представители иных тогдашних групп и течений были куда безличнее, серее.
Принято было говорить о нем, что он злой. Думаю, что это не совсем так. Его несчастьем было то, что несовершенство людей, их грубость, их пошлость, их малость нестерпимо кололи ему глаза. Он злобился на людей именно за то, что своими пороками они словно бы мешали ему любить их. И за это он мстил им, нечаянно, а может быть, и нарочно платя им той же монетою: грубостью, пошлостью. Неверно, что в нем самом сидел Передонов137, как многие говорили; но верно, что, досадуя на Передоновых, он нередко поступал с ними по-передоновски.
Излюбленный его прием заключался в том, чтобы поставить человека в неловкое, глупое, а то и тягостное положение. В 1911 году я приехал к нему в Петербург по поручению одного московского издательства. Он пригласил меня завтракать. За столом, в присутствии его жены, с которой я только что познакомился, он стал задавать мне столь непристойные вопросы и произносить такие слова, что я решительно не знал, как быть и куда смотреть. Вести разговор в его тоне было немыслимо, оборвать его резко было бы донкихотством и мальчишеством (он был меня много старше). Я старался переменить тему (вернее – темы, ибо от одной непристойности Сологуб тотчас переходил к другой), но он гнул свою линию и откровенно наслаждался моим смущением.
По-видимому, он до крайности был обидчив, как часто бывает с людьми, прошедшими нелегкий жизненный путь и изведавшими немало унижений. Он тратил немало времени и душевных сил на непрестанное, мелочное оберегание своего достоинства, на которое никому и в голову не приходило посягать. С еще большею скрупулезностью оберегал он достоинство своей жены, которую в общем недолюбливали. Казалось бы, этому противоречит тот случай, о котором я только что рассказал. Но я вполне допускаю, что если бы я не смутился, а позволил себе в присутствии Анастасии Николаевны быть столь же развязным, как он сам, то Сологуб счел бы долгом своим за нее обидеться. За справедливостью он не гнался.
Обидчиков (действительных и воображаемых) своих и своей жены он преследовал деятельно и неумолимо. Не стану в подробностях излагать знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами138: о ней уже было писано. Отмечу лишь, что и после того, как она закончилась официальным примирением, Сологуб все-таки буквально выжил из Петербурга двух– трех видных литераторов, которых считал виновниками происшедших событий. Для этого он пустил в ход целый сложный механизм интриг и происков, столь же отчетливо окрашенных в передоновские тона, как и вся история, из-за которой сыр-бор загорелся.
Однако кроме настоящей обидчивости сидела еще в нем искусственная, наигранная. Ему доставляло удовольствие ставить людей по отношению к нему в положение обидчиков – единственно для того, чтобы видеть, как они смущаются и оправдываются. И чем больше было смущение, чем нелепее было обвинение, тем живее радовался Сологуб. Вот совершенно нелепая сцена, которую разыграл он со мною же в начале 1921 года, когда он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля, где перед тем прожил, кажется, года два. Я пришел в редакцию «Всемирной литературы» и там его встретил. Он сидел у камина в кресле. Между нами произошел буквально такой разговор:
Я. Здравствуйте, Федор Кузьмич.
Сологуб. Ага, теперь «здравствуйте», а то небось (!) уже радовались, что старик околел где-нибудь на большой дороге.
Я. (Совершенно остолбенев.) Помилуйте, почему же я должен был это вообразить и с чего бы я стал радоваться?
Сологуб. То есть вы хотите сказать, что я на вас взвел напраслину.
Я. Дело не в напраслине, а в том, что вы, очевидно плохо осведомлены…
Сологуб. Ах, вот как! Значит, я уже по-вашему, из ума выжил?
Не помню, как я от него отвертелся, но через несколько дней он первый пришел ко мне, читал новые стихи и был так мил, как умел быть, когда хотел.
Другая история, в которую он пытался меня вовлечь, была сложнее и могла кончиться хуже. Расскажу о ней в подробностях – некоторые из них, пожалуй, стоит сберечь «для потомства». Аким Львович Волынский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный – недаром в конце концов его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайною неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы. В спорах, которые любил страстно, он всегда петушился – вплоть до того мгновения, когда, растерявшись, внезапно сдавал все свои позиции.
В 1921 – 1922 годах мы с ним вместе жили в петербургском Доме искусств. Однажды, глядя в окно, я увидел, что он откуда-то возвращается, на ходу читая газету. У меня к нему было дело, и через полчаса я к нему отправился. Общежитие наше помещалось в доме известного богача Елисеева. Волынскому отвели какой-то будуар с золоченой мебелью, бессовестно размалеванный амурами и зефирами, которые так и порхали по стенам комнаты, среди громоздящихся облаков, лир и гирлянд. На потолке кувыркались музы и грации – у Тьеполо сделался бы при виде их нервный припадок. Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных галошах. В руках он держал все ту же газету. Он меня еле слушал – мысли его были не здесь. Наконец он сказал:
– Дорогой, простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось.
«Свершилась» просто небольшая статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян в еженедельной газетке «Жизнь искусства»: первая хвалебная статья за много лет. Он ходил с газетой по всему Дому искусств, всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия…
Мы переживали эпоху пайков. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. В марте 1921 года Горький привез из Москвы еще восемьдесят. Надо было составить список писателей-кандидатов. Образовали комиссию, в которую вошли Н. М. Волковысский139, Б. И. Харитон140, Е. П. Султанова-Леткова, А. Н. Тихонов141, Волынский, Гумилев и я. Заседали долго, часов до пяти. Все устали, а еще предстояло самое трудное. Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам. Сделать это было необходимо в тот же вечер. Меж тем как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. Настроение в городе было тревожное, и собраться вновь вечером надежды не было. Решили поручить дело тем, кто может друг с другом встретиться, не выходя из дому, то есть обитателям Дома искусств: Султановой, Волынскому, Гумилеву и мне. Кроме того, мне поручили о чем-то переговорить с Горьким.
После заседания (оно происходило на Бассейной в Доме Литераторов) мы с Гумилевым вышли вместе: я направился к Горькому на Кронверкский, Гумилев – куда-то на Васильевский остров. Чтобы сократить путь, мы пошли наперерез по льду Невы. На улицах и на Неве была уже зловещая пустота. Таяло, снег был липкий, на льду кое-где появились лужи. Солнце садилось влево от нас, и оттуда же, из дымно-красного тумана, уже доносились первые пушечные выстрелы. Прощаясь, Гумилев мне сказал, что если задержится на Васильевском до темноты, то останется там ночевать – и чтобы мы заседали без него.
К десяти часам вечера, как было условлено, мы с Волынским пришли в комнату Султановой. Гумилева не было. Мы принялись за трудное и щекотливое дело – расставлять писателей, так сказать, по росту. Однако особенных разногласий не было. Работа шла быстро. Наконец дошла очередь до Сологуба, который перед тем пайка не имел, ибо, как выше сказано, только что возвратился в Петербург. Волынский внезапно пришел в совершенную ярость. Вытаращив глаза, втягивая щеки, и без того впалые, стуча сухим кулачком по столу, он стал требовать, чтобы Сологуба поместили в самый конец списка, потому что это «ничтожество, жалкий кретин, сифилитический талант». Одному Богу ведомо, что должно было значить это последнее определение, но Волынский его выкрикивал без устали. Видимо, оно ему нравилось. Наконец, после долгих споров (немножко совестно вспомнить, что они происходили под равномерный гул кронштадтской пальбы), мы с Султановой отстояли Сологуба, закончили список и разошлись.
Надо заметить, что в начале заседания мы дали друг другу слово сохранить в тайне все, что будет говорено об отдельных лицах. Такое же слово мы взяли с одной барышни, которая случайно присутствовала, ибо пришла в гости к Султановой – и осталась ночевать. Не тут-то было. Прошло месяца полтора. Сологуб давно уже получал свой паек. В один непрекрасный день я пришел домой и застал у себя Сологуба. Он меня ждал. Сидел в кресле, каменный, неподвижный, злой. Я сразу почуял неладное, а он сразу, деревянным голосом, задал мне вопрос:
– Дозвольте спросить, на каком основании намеревались вы лишить меня с женой пропитания и позволяли себе оскорбительные на мой счет выражения в заседании, имевшим место тогда-то и там-то?
– Федор Кузьмич, я ничего неблагоприятного о вас не говорил.
– А если вы не говорили, то кто?
– Я не могу дать вам никаких сведений на сей счет.
– Но не отрицаете, что слова были кем-то сказаны?
– Не отрицаю и не подтверждаю, потому что не имею права рассказывать ничего.
– В таком случае я буду считать, что сифилитиком именовали меня вы, и почту долгом привлечь вас к суду, как персонального оскорбителя и клеветника.
Это уже было сказано с усмешечкой, по которой я понял, что Сологубу отлично известно, кто был в действительности его «персональным оскорбителем». Пришел же он ко мне, чтобы «добыть языка»: надеялся, что, поразив меня, своего же заступника, нелепым обвинением, он заставит меня проговориться – а затем, уже на основании моих слов, притянет к суду Волынского.
Препирались мы долго – подробностей не помню. Он наконец ушел, ничего не добившись. Но вот что примечательно: уходил он уже в другом настроении: тихий, ласковый. По-видимому, ему нужно было только насытить злобу. Не удалось посчитаться с Волынским – он удовольствовался и тем, что заставил меня пережить несколько неприятных минут.
Это было наше предпоследнее свидание. После того я видел его лишь раз, уже осенью, после смерти его жены, у П. Е. Щеголева142. От кого он узнал, что говорил про него Волынский, осталось мне неизвестно. Султанова вне подозрений. Может быть, где-нибудь проговорилась барышня, а всего вероятнее – разболтал сам Волынский.
1937
Гумилев и «Цех поэтов»
Кажется, в 1911 году (не ручаюсь за точность) возникло в Петербурге поэтическое объединение, получившее прозвище «Цех поэтов». Было оно в литературном смысле беспартийно. Просто собирались, читали стихи, судили о стихах несколько более специально, нежели это было возможно делать в печати. Посетителями этого первоначального «Цеха» были: Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский143, Н. Клюев144, Гумилев, Алексей Толстой, тогда еще не перешедший окончательно на прозу. Были и совсем молодые, начинающие поэты: О. Мандельштам, Нарбут145, Георгий Иванов и жена Гумилева – Анна Ахматова.
Постепенно внутри «Цеха» стала обособляться группа, в которой главенствовали Сергей Городецкий и Гумилев. Она старалась образовать новое «направление», долженствующее прийти на смену отживающему свой век символизму. Оно назвало себя акмеизмом или адамизмом. Его главным лозунгом была борьба с мистицизмом и «туманностью» символизма. В «Цехе» наметился раскол. Поэты, не склонные к акмеизму, отпали, и «Цех» сделался, в сущности, кружком акмеистов, которые провозгласили Гумилева и Городецкого своими вождями и мастерами. Кроме этих двоих, ядро акмеизма и «Цеха» составили: Анна Ахматова, Мандельштам, Нарбут, Кузьмина-Караваева146.
Победить символизм новой группе не удалось. Ее идеи оказались недостаточно сильны и отчетливы, чтобы действительно создать новое литературное направление. Это не помешало, однако ж, некоторым членам «Цеха» вырасти в крупных или хотя бы заметных поэтов. Такова, прежде всего, Анна Ахматова, затем – О. Мандельштам. Сам Гумилев окреп и сложился именно в эпоху акмеизма. Зато для Сергея Городецкого акмеизм ознаменовал начало конца. После провозглашения новой школы он выпустил три книги: сперва «Иву», просто нудную и бездарную, потом монархический «Четырнадцатый год», а затем, уже при большевиках, коммунистический «Молот и серп». Нарбут, кажется, вовсе перестал писать стихи, Кузьмина-Караваева перешла на прозу.
В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился. В сущности, он держался на личной дружбе участников. Война и политика нарушили эту связь. К концу 1920 года, когда перебрался я из Москвы в Петербург, об акмеизме давно уже не было речи. Ахматова о нем словно забыла. Мандельштам тоже. Нарбута, Кузьминой-Караваевой и Городецкого не было в Петербурге.
Я был болен до начала 1921 года и почти никого не видел. Однажды, еще не вполне оправившись от болезни, спустился я в столовую Дома искусств и встретил там Гумилева. Он сказал мне:
– Я решил воскресить «Цех поэтов».
– Ну что же, в добрый час.
– Сегодня у нас уже второе собрание.
И Гумилев, в слегка торжественных выражениях, тут же меня кооптировал в члены «Цеха».
– Я это делаю на правах самодержавного синдика, – сказал он.
Мне оставалось благодарить. При этом, однако же, я поставил Гумилеву на вид, что могу вступить в объединение только в том случае, если оно действительно «цеховое», то есть в литературном отношении беспартийное и отнюдь не клонится к воскрешению акмеизма. Словом – если возобновляется первый «Цех», а не второй. Гумилев заверил меня, что это именно так.
Собрание должно было состояться через час. Перед тем как идти туда, я зашел к О. Мандельштаму, жившему со мной в одном коридоре, и спросил его, почему он мне до сих пор ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:
– Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались вступить. Все придумали гумилята (так назывались в Петербурге начинающие или незначительные поэты, вращавшиеся в орбите Гумилева) – а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики.
И Мандельштам стал надо мною смеяться, что я «попался».
– Да сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? – спросил я, признаться, не без досады.
Мандельштам сделал очень серьезное лицо:
– Я пью чай с конфетами.
В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, застал я еще пять человек. Читались и обсуждались новые стихи. Разговор был сух и холодноват, но велся в очень доброжелательном тоне. Гумилев в этом отношении подавал пример. Председательствовал он с очевидным удовольствием, но держался безукоризненно.
От всего собрания осталось у меня двойное чувство. Хорошо, конечно, что поэты собираются и читают стихи, но от чисто формального подхода к стихам мне было не по себе. К тому же и самый формализм «Цеха» был слишком поверхностен, ненаучен. Не видя, таким образом, в «Цехе» ничего полезного, я не мог, однако же, видеть в нем и вреда. Решил держаться пассивно.






