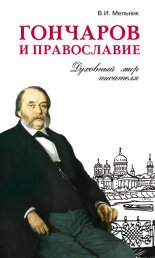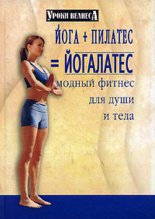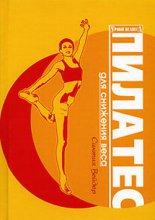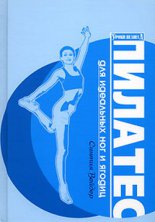Синдром Паганини и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом коде Кин Сэм

O-P-E-R-A
R-O-T-A-S[22]
Насчитывая примерно две тысячи лет от роду, данная надпись на порядок младше, чем по-настоящему древние палиндромы в ДНК, которая создала целых два вида палиндромов. Во-первых, это фразы традиционного («А роза упала на лапу Азора») типа: например, Г-А-Т-Т-А-Ц-А-Т-Т-А-Г. Однако поскольку АТ и ЦГ – это парные основания, ДНК образовывает и другие, менее явные палиндромы, которые спереди читаются по одной нити, а сзади – по другой. Сравните нить Ц-Т-А-Г-Ц-Т-А-Г, затем представьте основания, которые должны появиться на другой нити: Ц-А-Т-Ц-Г-А-Т-Ц. Это совершенные палиндромы.
Безобидный на вид, этот второй тип палиндрома может нагнать страху на любого микроба. Давным-давно многие микробы выделяли специальные белки (под названием «ферменты рестрикции»), которые могли резать ДНК подобно кусачкам. И по какой-то причине эти ферменты могут разрезать ДНК только в ее симметричных, палиндромных участках. Подобные надрезы служат и полезным целям: к примеру, выбрасывают из спирали основания, пораженные радиацией, или снимают напряжение в сильно запутанной ДНК. Однако непослушные микробы в основном использовали эти белки, чтобы воевать друг с другом и перерабатывать чужой генетический материал. В результате микробы методом проб и ошибок научились избегать даже неочевидных палиндромов.
Впрочем, высшие существа, к которым относимся мы сами, тоже не то чтобы толерантны к палиндромам. Снова рассмотрим Ц-Т-А-Г-Ц-Т-А-Г и Г-А-Т-Ц-Г-А-Т-Ц. Отметим, что начало каждого из палиндромных сегментов может образовывать пары оснований со своей второй половиной: первая буква с последней (Ц…Г), вторая с предпоследней (А…Т) и т. д. Но для того, чтобы сформировать эти внутренние связи, одна сторона нити ДНК должна абстрагироваться от другой и выгнуться вверх, образовав выступ. Такая структура (так называемая шпилька) благодаря симметричному строению может образовывать ДНК-палиндром любой длины. Как и следовало ожидать, «шпильки» могут разрушать ДНК так же, как и узлы: разрушая клеточные механизмы.
Палиндромы могут возникнуть в ДНК двумя способами. Самые короткие ДНК-палиндромы, которые становятся причиной появления «шпилек», возникают случайно, когда А, Ц, Г и Т организуются симметрично. Более длинные палиндромы также перетряхивают наши хромосомы, и многие из них – особенно те, которые наносят серьезный ущерб маленькой Y-хромосоме – возможно, возникают в результате специфического двухступенчатого процесса. По различным причинам хромосомы иногда случайным образом дублируют отрезки ДНК, а потом вставляют вторую копию куда-нибудь вниз по линии. Также хромосомы могут (иногда после разрыва сразу двух нитей) разворачивать отрезок ДНК на 180 градусов и прикреплять их задом наперед. Действуя в тандеме, дупликация и инверсия создают палиндром.
Большинство хромосом, однако, препятствуют появлению длинных палиндромов или по крайней мере стараются не допускать инверсий, которые они создают. Инверсия может разрушить или «отключить» гены, оставив хромосому неэффективной. Также инверсии могут резко уменьшить шансы хромосомы на кроссинговер – а это огромная потеря. Кроссинговер (когда одинаковые хромосомы пересекаются и обмениваются сегментами) позволяет хромосоме поменять свой генетический материал, приобрести лучшие версии, или версии, которые лучше работают вместе и делают хромосому более жизнеспособной. Не менее важно то, что хромосомы пользуются преимуществами кроссинговера, чтобы выполнить проверку контроля качества: они могут выстроиться в две шеренги, «глаза в глаза» и заменить мутировавшие гены немутировавшими. Однако хромосома может пересекаться только с хромосомой, которая выглядит точно так же. Если же партнер выглядит подозрительно не похоже, хромосома опасается получить болезнетворную ДНК и отказывается от обмена. Инверсии на этом фоне выглядят чертовски подозрительно, поэтому в подобных обстоятельствах хромосомы с палиндромами просто игнорируются.
У Y-хромосомы нетерпимость к палиндромам проявилась с самого начала. Давным-давно, еще до того, как млекопитающие отделились от рептилий, Х и Y были парными хромосомами и пересекались часто. Затем, 300 миллионов лет назад, один из генов хромосомы Y мутировал и превратился в «главный выключатель», заставляющий яички развиваться. До этого, вероятно, пол животного зависел от температуры, при которой самка высиживает яйца – схожая не имеющая отношения к генетике система определяет пол черепах и крокодилов. Благодаря этому изменению Y стала «мужской» хромосомой и, пройдя через разнообразные процессы, сконцентрировала другие мужские гены, преимущественно связанные с производством сперматозоидов. Как следствие, Х и Y стали выглядеть по-разному и, соответственно, уклоняться от кроссинговера. Хромосома Y не захотела рисковать своими генами, которые могла переписать злобная Х-хромосома, в то время как Х не хочет приобретать грубые гены хромосомы-мужлана, которые могут повредить женским ХХ-организмам.
После того как кроссинговер замедлился, Y-хромосома стала более терпимой к инверсиям, как коротким, так и длинным. Фактически она в своей истории претерпела четыре крупные инверсии, реально глобальные перестройки ДНК. Каждая из них создала много замечательных палиндромов – один из них сразу на три миллиона символов, но каждая вместе с тем приводила к тому, что кроссинговер с Х-хромосомой становился все тяжелее. В этом бы не было особого значения, если не учитывать, что кроссинговер позволяет хромосомам заменять злокачественные мутации. Х-хромосомы могут делать это в женских организмах с парой ХХ, но когда Y-хромосома потеряла своего партнера, злокачественные мутации начали накапливаться. И с появлением каждой новой мутации у клеток не было иного выбора, кроме как избавляться от Y-хромосомы и удалять мутировавшую ДНК. Результаты оказались неутешительны. Y-хромосома, когда-то имевшая внушительные размеры, потеряла почти все свои гены: из 1400 осталось чуть больше 20. При таком раскладе биологи поспешили записать «игреков» в доходяги. Похоже, что этим хромосомам суждено продолжать накапливать неблагополучные мутации и становиться короче и короче, пока эволюция не покончит с Y-хромосомами – и, возможно, в придачу и с мужчинами – совсем.
Палиндромы, однако, могут помиловать Y-хромосому. Шпильки в цепи ДНК – это плохо, но если Y-хромосома загнется в гигантскую шпильку, это может привести к тому, что два ее палиндрома – с тем же набором генов, но идущим в противоположном порядке – вступят в контакт. Это позволит Y-хромосоме проверяться на наличие мутаций и заменять проблемные участки. Это все равно что написать: «А роза упала на лапу Азора» на листе бумаги, сложить бумагу чтобы буквы двух половин совпали, а потом буква за буквой исправлять все расхождения. Нечто подобное около 600 раз повторяется при рождении каждого мальчика. «Складывание» также позволяет «игрекам» компенсировать недостаток половой хромосомы-партнера и «рекомбинировать» с самими собой, заменяя гены на протяженности одного участка генами из другой точки.
Это палиндромное исправление совершенно гениально. Даже можно сказать, слишком гениально. Система, которую Y-хромосома использует для того, чтобы сравнивать палиндромы, к сожалению, не «знает», какой из палиндромов мутировал, а какой – нет; она только может определить, что они не совпадают. Поэтому нередко Y-хромосома заменяет хороший ген плохим. Авторекомбинация также (внимание!) приводит к тому, что ДНК между палиндромами случайным образом удаляется. Такие ошибки редко приводят к смерти человека, но могут сделать его семя бесплодным. В общем, Y-хромосома может исчезнуть, если не сможет корректировать мутации наподобие этой; но то, что нужно для такой корректировки – палиндромы, может, так сказать, кастрировать хромосому.
И лингвистические, и математические свойства ДНК способствуют ее конечной цели: управлению данными. Клетки накапливают информацию и обмениваются ею друг с другом с помощью ДНК и РНК, и ученые уже привыкли говорить о программировании и обработке информации нуклеиновыми кислотами, будто бы генетика является отраслью криптографии или информатики.
И действительно, современная криптография в какой-то мере происходит из генетики. В 1915 году молодой генетик по имени Уильям Фридман окончил Корнелльский университет и присоединился к эксцентричному научному обществу, базировавшемуся в одной из деревень Иллинойса. Это общество могло похвастаться голландской ветряной мельницей, ручным медведем по имени Гамлет и маяком – последнее особенно забавно ввиду того, что дело происходило в доброй тысяче километров от побережья. Первым делом босс Фридмана поручил ему исследовать, как лунный свет влияет на гены пшеницы. Но благодаря полученным в университете знаниям по статистике молодой ученый вскоре оказался вовлечен в другой сумасбродный проект своего начальства[23]. Целью проекта было доказать то, что Фрэнсис Бэкон не только написал пьесы Шекспира, но и оставил на страницах Первого фолио[24] подсказки, свидетельствующие о своем авторстве. Подсказки включали в себя изменение формы отдельных букв.
Фридман воодушевился этим заданием – он полюбил работать с шифрами с тех самых пор, как в детве прочел «Золотого жука» Эдгара По – и доказал, что предполагавшиеся отсылки на Бэкона – это полная чушь. Он писал, что по тем же схемам дешифровки можно «доказать» что угодно: например, что «Юлия Цезаря» написал Теодор Рузвельт. Тем не менее Фридман заинтересовался генетикой как биологическим инструментом расшифровки кодов и после успешных попыток реальной дешифровки стал криптографом, работающим на правительство США. Основываясь на статистических знаниях, накопленных из генетики, Фридман вскоре сумел прочитать секретные телеграммы, которые в 1923 году спровоцировали так называемый скандал «Крышка заварника», связанный с получением взяток представителям власти. В начале 1940-х годов он приступил к расшифровке японских дипломатических кодов, включая десяток скандально известных депеш, отправленных из Японии в японское посольство в Вашингтоне и перехваченных 6 декабря 1941 года: в этих депешах говорилось о том, что война неминуема.
Фридман бросил генетику, потому что в первой четверти ХХ века (по крайней мере на фермах) генетикам приходилось слишком много времени просто сидеть вокруг и ждать, пока глупые звери начнут размножаться: это было больше похоже на животноводство, чем на научный анализ данных. Если бы Фридман родился поколением-двумя позже, он бы смог взглянуть на те же вещи совершенно иначе. К 1950-м годам биологи уже регулярно ссылаются на пары оснований А-Ц-Г-Т как на биологические «биты» и на генетику в целом как на код, который нужно взломать. Генетика окончательно превратилась в анализ данных и продолжала развиваться в этом направлении – в том числе благодаря работе более молодого последователя Уильяма Фридмена – инженера Клода Шеннона. Его работы охватывают как криптографию, так и генетику.
Ученые регулярно цитируют магистерскую диссертацию Шеннона, написанную 21-летним студентом Массачусетского технологического института в 1937 году: эта работа признается самой важной магистерской диссертацией в истории. В ней Шеннон изложил метод комбинирования электронных схем и элементарной логики для проведения математических операций. С помощью этого метода молодой ученый мог проектировать схемы для выполнения сложных вычислений, на которых основываются все цифровые цепи. Десять лет спустя Шеннон написал статью об использовании цифровых цепей для кодирования сообщений и более эффективной их передачи. Едва ли будет преувеличением сказать, что благодаря этим двум открытиям были с нуля созданы современные цифровые коммуникации.
Совершая судьбоносные открытия, Шеннон находил время и для других занятий. В своем офисе он любил жонглировать, ездить на одноколесном велосипеде, а порой делать и то и другое одновременно. Дома он постоянно возился со всяким хламом в подвале. Среди его прижизненных изобретений – фрисби с ракетным двигателем, палочки пого с моторчиком, машины для сборки кубика Рубика, механическая мышь по имени Тесей, выбирающаяся из лабиринтов, программа THROBAC, проводящая вычисления в римских цифрах, и «переносной компьютер» размером с пачку сигарет, предназначенный для того, чтобы срывать банк на рулетке[25].
Шеннон проявил интерес к генетике и в своей докторской диссертации, которую защитил в 1940 году. В то время биологи дорабатывали такой вопрос, как связь между генами и естественным отбором, но многих из них отпугнул большой объем статистики. Хотя позже Шеннон признавался, что в то время почти не разбирался в генетике, он погрузился в эту проблему. Он постарался сделать для генетики то, что уже сделал для электронных схем: свести все сложности к простым алгебраическим расчетам, в результате чего для любых вводных данных (генов в популяции) можно легко и быстро рассчитать результаты (какие гены будут успешно развиваться, а какие – исчезнут). Шеннон посвятил этой статье несколько месяцев, а потом, после защиты докторской, был окончательно соблазнен электроникой и больше никогда не возвращался к генетике. Впрочем, это неважно. Его новая работа послужила основой для информационной теории: настолько универсальной области знаний, что она и без непосредственного участия Шеннона начала активно применяться в генетике.
В соответствии с теорией информации Шеннон определяет, как передавать сообщения с наименьшим количеством ошибок – цель, которую реализовали биологи, аналогична разработке лучшего генетического года, минимизирующего количество ошибок в строении клетки. Кроме того, биологи приняли работы Шеннона об эффективности и избыточности различных языков. Как однажды подсчитал Шеннон, английский язык как минимум на 50 % является избыточным (бульварный роман Реймонда Чандлера, который он исследовал, и вовсе оказался избыточным на 75 %). Биологи также изучали эффективность, так как, согласно естественному отбору, эффективные организмы являются и более здоровыми. Соответственно, менее избыточная ДНК, по их выводам, приведет к тому, что клетка будет накапливать больше информации и быстрее ее обрабатывать, что является серьезным преимуществом. Однако членам клуба галстуков РНК известно, что ДНК в этом отношении более чем неоптимальна. Целых шесть триплетов А-Ц-Г-Т для одной-единственной аминокислоты – чрезвычайная избыточность! Если бы клетки экономили и использовали меньшее число триплетов для аминокислоты, они бы могли собирать больше аминокислот, чем канонические 20, что открыло бы новые горизонты молекулярной эволюции. Ученые в действительности доказали, что должным образом подготовленные клетки в лабораторных условиях могут использовать до 50 аминокислот.
Однако если у избыточности есть недостатки, то, как указывал Шеннон, должны быть и достоинства. Некоторая избыточность языка гарантирует, что мы сможем поддержать беседу, даже если некоторые слоги или целые слова будут утрачены. Блшнств лдй бз прблм мжт прчт прдлжн с прпснн бкв. Другими словами, если слишком большая избыточность отнимает время и энергию, небольшая – препятствует появлению ошибок. Применительно к ДНК избыточность тоже имеет смысл: это делает менее вероятным появление неверных аминокислот в результате мутаций. Более того, биологи подсчитали, что даже если мутация внедрит в организм неправильную аминокислоту, мать-природа подтасует так, что в любом случае шансы на то, чтобы новая аминокислота имела те же физические и химические характеристики и, следовательно, сложилась надлежащим образом, увеличатся. Это можно назвать аминокислотой-синонимом, так как клетки могут сохранить смысл «предложения».
Избыточность может иметь место и за пределами генов. Некодирующая ДНК – длинная последовательность ДНК между генами – содержит некоторые слишком избыточные отрезки символов, которые выглядят так, как будто кто-то не глядя провел пальцами по клавиатуре природы. Хотя эти и прочие участки кажутся мусором, ученым неизвестно, действительно ли такие последовательности не представляют никакой ценности. Один ученый задумался: «Геном – это низкопробный роман, в котором можно вырвать сто страниц, и ничего не изменится, или же он больше похож на произведение Хемингуэя, где вся сюжетная линия может потеряться из-за утраты одной страницы?» Однако в ходе исследований мусорной ДНК, в которых применялись теоремы Шеннона, обнаружилось, что их избыточность во многом похожа на избыточность в языке – это может значить, что некодирующая ДНК имеет еще не открытые лингвистические возможности.
Все это поразило бы Шеннона и Фридмана. Но, пожалуй, самое примечательное здесь то, что помимо прочих разумных функций ДНК также подсказала нам идеи, которые помогли изобрести мощнейшие на сегодня инструменты обработки информации. В 1920-х годах выдающийся математик Давид Гильберт пытался определить, существуют ли какие-либо механические процессы или алгоритмы, позволяющие доказывать теоремы автоматически, почти без размышлений. Гильберт при этом представлял людей, включающихся в этот процесс с карандашом и бумагой в руках. Однако в 1936 году математик (и любитель мастерить фигурки из бумаги) Алан Тьюринг набросал эскиз машины, способной выполнять такую работу. Машина Тьюринга выглядела очень просто: всего лишь длинная магнитофонная лента и устройство, проматывающее и маркирующее ленту, – но теоретически могла рассчитать ответ на каждую имеющую решение задачу, независимо от ее сложности, разбивая задачу на мелкие логичные ходы. Машина Тьюринга вдохновила многих мыслителей, в том числе и Клода Шеннона. Вскоре инженеры начали конструировать работающие модели – мы называем их компьютерами – с длинными магнитными лентами и записывающими головками, во многом похожие на модели Тьюринга.
Биологи, впрочем, знают, что машины Тьюринга практически ничем не напоминают механизмы, которые используются клетками для копирования, маркировки и чтения длинных цепочек ДНК и РНК. Эти тьюринговские биомашины работают в каждой живой клетке, ежесекундно решают любые, самые сложные задачи. Фактически ДНК работает лучше, чем машины Тьюринга: механизмы компьютера нуждаются в программном обеспечении; ДНК же – это и «хард», и «софт» одновременно, они и накапливают информацию, и выполняют команды. Они даже содержат инструкции копировать себя как можно чаще.
И это еще не все. Даже если бы ДНК была способна лишь на то, о чем мы уже узнали – раз за разом создавать свои точные копии, вытягивать в нити РНК и белки, выдерживать повреждения от ядерных взрывов, кодировать слова и фразы, даже высвистывать популярные мелодии, – уже это позволило бы ей считаться чудесной молекулой, одной из лучших. Но помимо всех этих достоинств ДНК отличается способностью строить предметы в миллиарды раз больше себя самой – и запускать их в путешествие по всему земному шару. ДНК даже может сохранять «путевые дневники», в которых указано, что каждое из ее созданий видело и делало в своей жизни, и сейчас, наконец, несколько особо удачливых существ, изучивших основы того, как работает ДНК, могут читать эти истории.
Часть II. Наше зоологическое прошлое
Сотворение существ, которые ползают, резвятся и убивают
Глава 5. Реабилитация ДНК
Почему жизнь развивалась так медленно, а затем резко ускорилась?
Почти сразу после прочтения одной статьи сестра Мириам Майкл Стимсон поняла, что работа ее жизни, стоившая десяти лет упорного труда, потерпела фиаско. В течение 1940-х годов эта монахиня-доминиканка, постоянно носившая черно-белую рясу с капюшоном, упорно и продуктивно делала карьеру ученого-исследователя. В стенах небольших религиозных колледжей в Мичигане и Огайо она проводила опыты с заживляющими раны гормонами и даже помогла в создании известного крема от геморроя (Preparation H), прежде чем найти свое призвание в изучении оснований ДНК.
В этой области она прогрессировала очень быстро и вскоре опубликовала открытие, доказав, что основания ДНК по сути своей очень изменчивы и способны ежесекундно менять форму. Идея была очень проста, но вместе с тем имела серьезные последствия для понимания работы ДНК. Однако в 1951 году двое коллег, отрицательно относившихся к теории сестры Мириам, опровергли ее труд в совместной работе, назвав выводы ложными и «незначительными». Это было крайне унизительно. Как и всякая женщина-ученый того времени, сестра Мириам и без того несла тяжкое бремя: ей часто приходилось выслушивать снисходительные слова коллег-мужчин, которые были неизбежны, даже если речь шла о ее собственных разработках. Публичное унижение, подобное этой статье, разрушило добытую с большим трудом репутацию сестры Мириам так же легко и необратимо, как раскручиваются нити ДНК.
Это, конечно, не могло послужить большим утешением, но в течение нескольких последующих лет стало очевидным, что неудача сестры Мириам стала важным шагом для совершения главного биологического открытия ХХ века – двойной спирали ДНК Уотсона и Крика. Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик были необычными биологами для своего времени, так как чрезвычайно редко проводили опыты самостоятельно, попросту синтезируя труды других специалистов. Даже сверхтеоретик Дарвин держал целый питомник и заслужил репутацию эксперта во всех вопросах, связанных с усоногими раками, включая их сексуальные отношения. Склонность к «собирательству» порой доставляла Уотсону и Крику проблемы – самый известный подобный случай связан с Розалиндой Франклин, которая открыла важный способ подсвечивать двойную спираль рентгеновскими лучами. Однако Уотсон и Крик построили свой фундаментальный труд на десятках работ других, менее известных ученых, в том числе и сестры Мириам. Правда, ее работа не была самым важным трудом в этой области. В самом деле, ее ошибки сохранили многое из ранних, неправильных представлений о ДНК. Впрочем, как и в случае с Томасом Хантом Морганом, для нее много значило предъявление доказательств того, что кто-то столкнулся с ее ошибками. И, в отличие от многих других ученых, потерпевших крах, сестра Мириам оказалась достаточно смиренной – или достаточно сообразительной – чтобы вернуться в лабораторию и в итоге внести свою лепту в открытие двойной спирали.
В середине ХХ века биологи самыми разными способами пытались решить все ту же задачу – как же выглядит ДНК? – которую решал и Фридрих Мишер, ученый, первым открывший эту необычную смесь сахаров, фосфатов и кольцевых оснований. Наиболее досадным было то, что никто не мог определить, как длинные нити ДНК могут цепляться и сливаться друг с другом. Сейчас нам известно, что цепочки ДНК соединяются автоматически: А совмещается с Т, а Г с Ц, но в 1950-х годах этого еще никто не знал. Все думали, что символы объединяются в пары случайным образом. Поэтому ученым приходилось размещать каждую нескладную последовательность символов внутри своих моделей ДНК: порой приходилось соединять друг с другом и нескладные А с Г, и изящные Ц и Т. Ученые быстро поняли, что вне зависимости от того, как поворачивать или сжимать эти неправильные пары оснований, они будут образовывать вмятины и выпуклости, а не спирали ожидаемой обтекаемой формы. Уотсон и Крик даже попытались послать к черту этот биомолекулярный тетрис и потратили несколько месяцев, возясь с моделью ДНК, вывернутой наизнанку (и имеющей три цепочки)[26], в которой основания были размещены лишь бы как – просто чтобы поскорее сложить картинку.
Сестре Мириам удалось решить важнейшую часть задачи по определению структуры ДНК: определить точную форму оснований. То, что монахиня работает в технической области, кажется необычным и в наши дни, однако Мириам впоследствии вспоминала, что именно монахини составляли большую часть женщин-ученых, с которыми ей довелось встречаться на конференциях и съездах. Женщины в то время, как правило, отказывались от карьеры после замужества, в то время как незамужние работающие женщины (вроде Розалинды Франклин) вызывали подозрение, а то и становились мишенью для насмешек, а платили им порой так мало, что это не позволяло сводить концы с концами. При этом католические монахини, незамужние, но имеющие безупречную репутацию жительниц спокойных обителей, имели финансовую поддержку и были достаточно независимы для того, чтобы заниматься наукой.
Впрочем, нельзя сказать, что жизнь монахини была лишена проблем, как профессиональных, так и личных. Так же как Мендель – урожденный Иоанн, но Грегор в монашестве – Мириам Стимсон и ее товарки-новички приняли новые имена после прибытия в один из монастырей штата Мичиган в 1934 году. Мириам выбрала имя Мэри, но во время церемонии крещения архиепископ с ассистентом пропустили начало списка, поэтому большинство женщин были благословлены не под теми именами, которые выбрали. Никто не посмел возразить, и, поскольку для последней в списке Мириам не осталось имени, сообразительный архиепископ дал ей первое имя, которое пришло ему в голову: мужское имя Майкл. Монашество подразумевает брак с Христом, и поскольку Бог (или архиепископ) соединяет новобрачных раз и навсегда, монахини так и остались жить с неправильными именами.
Требования послушания стали еще более обременительными, когда сестра Мириам начала работать. Это очень осложнило ее научную карьеру. Вместо полноценной лаборатории она сумела выпросить у начальства лишь маленькую каморку, переделанную из ванной, и проводила опыты там. Причем и на это у нее было совсем немного времени: ей приходилось работать «коридорной сестрой», отвечающей за студенческое общежитие, а кроме того, брать полную педагогическую нагрузку. Также она была обязана даже в лаборатории носить рясу с громадным капотом вроде капюшона кобры: это ничуть не способствовало проведению сложных экспериментов. Она даже не могла водить машину, потому что капот закрывал ей обзор по сторонам. Тем не менее Мириам была по-настоящему умна – друзья прозвали ее «М2», намекая на Менделя – и, как и у Менделя, ее монашеский орден поддерживал и вдохновлял ее любовь к науке. Правда, они делали это в том числе и для того, чтобы США получили шанс побить безбожных азиатских коммунистов, однако и для того, чтобы понять, как Бог творит живых существ и позаботиться обо всех его творениях. Действительно, Мириам и ее коллеги привлекались к производству лекарств (отсюда и работа над Preparation H). Изучение ДНК было естественным продолжением этих трудов, и Мириам Стимсон, казалось, добилась успеха в конце 1940-х годов, определив форму оснований ДНК с помощью изучения их составных частей.
Сестра Мириам Майкл Стимсон, первопроходец в исследовании ДНК, носила рясу с большим капюшоном даже в лаборатории (из архивов Университета Сиена Хайтс)
Аденин, тимин, цитозин и гуанин состоят в основном из атомов углерода, азота и кислорода, однако содержат и водород, что все усложняет. Атомы водорода находятся на периферии молекул, они самые легкие и наиболее подверженные воздействию других атомов, поэтому могут занимать разные позиции, придавая основаниям различную форму. Эти различия не играют большой роли – молекула остается практически одной и той же, однако позиция атома водорода имеет значение для соединения нитей двойной спирали ДНК.
Атом водорода содержит один электрон, который вращается вокруг одного протона. Но водород обычно отделяет эту свою отрицательную частицу от внутренней, кольцевой поверхности основания ДНК. Поэтому он сохраняет способность образовывать новые связи. Нити ДНК соединяются, сопоставляя позитивно заряженные части оснований одной нити с отрицательно заряженными частями оснований – другой нити. Негативные отрезки обычно концентрируются на кислороде и азоте, которые придерживают электроны. Эти водородные связи не так прочны, как обычные химические связи, но это, наоборот, отлично, так как клетки при необходимости могут легко освободить свою ДНК.
Водородные связи были широко распространены в природе, но их появление в ДНК специалисты начала 1950-х годов считали невозможным. Водородная связь требует идеального выравнивания положительно и отрицательно заряженных участков – примерно такого, какое наблюдается между А и Т, Г и Ц. Но снова никто не знал, что в пары объединяются определенные символы, – а в других комбинациях положительные и отрицательные заряды не выстраивались так безупречно. Исследования Сестры М2 и других специалистов впоследствии запутали эту картину. В рамках своей работы Мириам Стимсон помещала основания ДНК в растворы различной кислотности (чем выше кислотность, тем больше ионов водорода содержится в растворе). Мириам было известно, что растворенные основания и водород как-то взаимодействуют: когда она осветила раствор ультрафиолетом, основания пропускали свет по-разному, что указывает на изменение формы. Однако она, рискнув, предположила, что изменения обусловлены смещением атомов водорода и что это естественным образом происходит по всей длине ДНК. Если бы это оказалось правдой, исследователи ДНК вынуждены были бы рассматривать водородные связи не только для несовпадающих оснований, но и для многочисленных форм каждого из таких оснований. Позже Уотсон и Крик с раздражением вспоминали, что даже учебники того времени показывали расположение атомов водорода в основаниях ДНК как бог на душу положит, в зависимости от предрассудков и капризов автора. Это делало построение моделей практически невозможным.
Как только сестра Мириам опубликовала статьи со своей теорией «изменчивой» ДНК в конце 1940-х годов, она почувствовала, что ее статус в научном мире значительно возрос. Впрочем, кто высоко взлетает, тот низко падает. В 1951 году два лондонских ученых доказали, что кислотные и нейтральные растворы никуда не перемещают атомы водорода из ДНК-оснований. Вместо этого растворы или прикрепляли новые атомы водорода в нечетных местах, или избавлялись от уязвимых атомов. Другими словами, эксперименты Мириам позволяли получить искусственные, не природные основания. Ее работа оказалась бесполезной для получения каких-либо знаний, связанных с ДНК, и тайна формы ДНК-оснований осталась неразгаданной.
Несмотря на ошибочность выводов сестры Мириам, некоторые технологии экспериментов, которые она представила в своих исследованиях, оказались чертовски полезными. В 1949 году исследователь ДНК биолог Эрвин Чаргафф адаптировал метод ультрафиолетового анализа, открытый Мириам. Используя эту технику, Чаргафф определил, что ДНК содержит одинаковое количество А и Т, а также Ц и Г. Он так и не смог в полной мере воспользоваться этой идеей, но разболтал об этом чуть ли не каждому встречному коллеге. Сначала он планировал передать это открытие Лайнусу Полингу – главному сопернику Уотсона и Крика, но находившийся в круизе Полинг был раздражен тем, что отпуск может прерваться, и пропустил слова Чаргаффа мимо ушей. Более дальновидные Уотсон и Крик обратили внимание на Чаргаффа (хоть он и считал их молодыми глупцами) и благодаря его озарению наконец определили, что А соединяется с Т, а Ц с Г. Это была последняя из необходимых им подсказок, и, немного доработав идеи сестры Мириам, они открыли двойную спираль.
Но что насчет водородных связей? Открытию Уотсона и Крика пятьдесят лет пели осанну, но на самом деле их модель была основана на неаргументированном и даже весьма шатком предположении. Основания в этой модели плотно упакованы внутри двойной спирали – и соединены, вероятно, водородными связями – только если каждое основание имеет определенную специфическую форму, причем в единственном варианте. Однако после разгрома работы Мириам Стимсон никто не знал, что формирует основания ДНК в живых организмах.
Решив помочь коллегам на этот раз, сестра Мириам вернулась в лабораторию. После кислотно-ультрафиолетового фиаско она исследовала ДНК, используя свет с другого конца спектра – инфракрасное излучение. Стандартный способ исследовать вещество с помощью инфракрасных лучей включает в себя погружение в жидкость, но основания ДНК не всегда могут перемешиваться должным образом. Поэтому Мириам разработала способ смешивать ДНК с белым порошком – бромидом калия. Чтобы делать достаточно тонкие образцы, пригодные для изучения, команде Мириам пришлось позаимствовать оборудование у соседней корпорации «Крайслер». С помощью этого оборудования порошок формировался в «пилюли» диаметром примерно с таблетку аспирина, затем отправлялся в цех, где пилюли штамповали промышленным прессом: полученные диски имели толщину всего в один миллиметр. Вид заходящих в грязный заводской цех группы монахинь в рясах весьма забавлял работяг, но Мириам вспоминала, что рабочие подшучивали над ними с джентльменской учтивостью. В конце концов при поддержке военно-воздушных сил лаборатория обзавелась собственным прессом, так что Мириам теперь сама могла штамповать диски (студенты вспоминали, что их преподавательница держала пресс в нижнем положении так долго, что за это время можно было произнести две молитвы Богородице). Поскольку тонкие слои бромида калия невидимы для инфракрасных лучей, проходящее через таблетку излучение затрагивало лишь А, Ц, Г и Т. И в течение следующего десятилетия исследования с применением инфракрасных лучей и дисков (в совокупности с прочей работой) доказало правоту Уотсона и Крика: основания ДНК имеют лишь одну естественную форму, единственную, которая продуцирует водородную связь. С этой и только с этой точки зрения ученые могут сказать, что постигли структуру ДНК.
Конечно, понимание этой структуры – не конечная цель: впереди было еще много исследований. Но несмотря на это, М2 продолжала заниматься незаурядной работой: в 1953 году читала лекции в Сорбонне (став первой женщиной на такой работе после Марии Склодовской-Кюри) и пока была жива – Мириам Стинсон скончалась в 2002 году в возрасте 89 лет – ее научные амбиции постепенно иссякали. В либеральные шестидесятые она перестала носить рясу с клобуком (и научилась водить), но, не считая этого небольшого отступления от правил, она посвятила свою жизнь монашескому ордену и перестала делать опыты. Ее работы позволили другим ученым-первооткрывателям, среди которых были и две женщины, разгадать, как ДНК на самом деле участвует в построении красивой и сложной жизни[27].
История науки изобилует дублирующими друг друга открытиями. Естественный отбор, кислород, Нептун, пятна на солнце – каждое из этих открытий одновременно делали два, три, четыре специалиста. Историки продолжают спорить, почему так получается. Возможно, каждый случай – это невероятное совпадение, или один из первооткрывателей заимствует идеи другого. Вероятно, открытия были невозможны, пока обстоятельства не сложатся должным образом, и неизбежны – когда это произошло. Но вне зависимости от того, в какую из причин верите вы, научная синхронность остается фактом. Несколько команд почти дошли до идеи двойной спирали, а в 1963 году две группы ученых открыли другой важнейший аспект ДНК. Одна из этих групп использовала микроскопы, чтобы запечатлеть митохондрии: элементы в форме фасолины, производящие энергию внутри клетки. Вторая группа измельчала митохондрии и просеивала их через мембрану. Обе группы пришли к открытию, что митохондрии обладают собственным ДНК. Пытаясь обелить свою репутацию среди коллег в конце XIX века, Фридрих Мишер определил ядро как единственно возможный дом для ДНК, однако затем история в очередной раз его опровергла.
Некоторым открытиям способствуют исторические события: наука нуждается в бунтарях – типах, которые привыкли плыть против течения и могут рассмотреть благоприятные обстоятельства, на которые большинство из нас не обратит никакого внимания. Порой нам даже нужны особо неприятные бунтари – так как если бы они не высказывали провокационных мыслей, их теории не привлекли бы нашего внимания. Так обстояли дела и с Линн Маргулис. Большинство специалистов из середины 1960-х годов весьма примитивным образом объясняли происхождение митохондриальной ДНК (мтДНК): якобы клетки «одалживают» часть ДНК и никогда не получают ее назад. Но Маргулис на протяжении 20 лет, начиная с защиты докторской диссертации в 1965 году, продвигала свою идею о том, что митохондриальная ДНК ни в коей мере не является курьезом. Она увидела в этом доказательство более глобальной проблемы, доказательство того, что в жизни есть больше путей смешивания и развития, чем биологи-консерваторы могут себе представить.
Эндосимбиотическая теория Маргулис выглядела примерно так. Все мы произошли от первых бактерий на Земле, и все живущие организмы до сих пор сохраняют определенные гены (в среднем около сотни) как часть этого наследия. Первые бактерии вскоре начали разделяться на группы. Одни из них превратились в гигантские капли, другие, наоборот, съежились до совсем уж крохотных размеров – и разница в размерах определила их возможности. Большие бактерии стали глотать и переваривать остальные, в то время как те отравляли и убивали тех, кто был большим и неосторожным. По любой из этих двух причин, доказывала Маргулис, большая бактерия в один прекрасный день когда-то проглотила маленькую, и произошло нечто странное: не произошло ничего. Или маленькая бактерия смогла избежать переваривания, или ее хозяин сдержал свои внутренние процессы. Противостояние продолжилось, и хотя каждая из них продолжала бороться, никому не удавалось покончить с соперником. И через много поколений эта первоначально беспринципная жестокая схватка перетекла в кооперативное сотрудничество. Маленький микроб постепенно научился хорошо синтезировать высококачественное топливо из кислорода, а большая клетка постепенно утратила свои способности накапливать силу и вместо этого стала специализироваться на обеспечении своих элементов питательными веществами и пристанищем. Словом, все по Адаму Смиту: разделение труда принесло пользу каждой из сторон, и вскоре ни одна из них уже не могла отказаться от партнера и при этом выжить. Микроскопические проглоченные бактерии мы сейчас называем митохондриями.
Теория в целом недурна – но и только. К сожалению, когда Маргулис проповедовала ее, она не нашла понимания среди коллег-ученых. Ее первую статью по эндосимбиозу отвергло пятнадцать журналов, и хуже того – многие биологи в открытую нападали на ее гипотезу. И с каждым новым выступлением ее оппоненты выдвигали все больше доказательств и были более нетерпимы, придавая особое значение независимому поведению митохондрий, подчеркивая, что они плавают внутри клетки, размножаются по собственному расписанию, имеют собственные мембраны, напоминающие клеточную стенку. И их «мусорная» ДНК – якобы неизбежный случай: клетки редко позволяют ДНК уходить из ядра на периферию, и если такое случается, то ДНК, как правило, не выживает. Кроме того, мы наследуем митохондриальную ДНК иначе, чем хромосомную, – только от матерей, так как мама передает своим детям все свои митохондрии. Маргулис пришла к выводу, что митохондриальная ДНК может происходить только из ранее независимых клеток.
Ее оппоненты возражали (и правильно делали), что митохондрии не работают поодиночке: для нормального функционирования им необходимы хромосомные гены, поэтому их вряд ли можно считать независимыми. Маргулис парировала, что три миллиарда лет назад многие гены, необходимые для независимой жизни, вполне могли исчезнуть, как Чеширский Кот, от которого осталась одна лишь улыбка – митохондриальный геном. Оппоненты этому не поверили – в первую очередь из-за недостатка доказательств, но в отличие, например, от Мишера, который практически не имел оснований для своей защиты, Маргулис и не думала сдаваться. Она продвигала свою теорию в лекциях и письменных трудах и восхищалась, наблюдая удивление аудитории. Однажды она начала беседу с вопроса: «Есть ли здесь профессионалы-биологи? К примеру, молекулярные биологи?» Затем посчитала поднятые руки и засмеялась: «Отлично. Вы сейчас будете негодовать».
И биологи негодовали при упоминании эндосимбиоза, и перебранки продолжались и продолжались, пока новые технологии сканирования в 1980-х годах не доказали, что митохондрии хранят свою ДНК не в длинных продолговатых хромосомах, как животные и растения, а в кольцах – как бактерии. Тридцать семь плотно упакованных в обруч генов участвовали в производстве белков (таких же, как у бактерий), и последовательность А-Ц-Г-Т выглядела удивительно похожей на аналогичную последовательность у бактерий. Работая над этим доказательством, ученые даже идентифицировали живущих родственников митохондрии, среди которых оказалась тифозная бактерия. Аналогичная работа установила, что хлоропласты – зеленоватые пятнышки, управляющие фотосинтезом внутри растительных клеток, также содержат петли ДНК. Как и в случае с митохондриями, Маргулис предположила, что хлоропласты зародились, когда большие бактерии заглотили фотосинтезирующую тину, а потом образовалось нечто вроде стокгольмского синдрома. Двух независимых случаев эндосимбиоза было уже слишком много, чтобы оппоненты отделались своими прошлыми объяснениями. Маргулис торжествовала: она оказалась права.
В дополнение к расшифровке митохондрий теория Маргулис помогла разгадать страшную тайну о жизни на Земле: почему после многообещающего начала эволюция была близка к исчезновению? Без толчка со стороны митохондрий примитивная жизнь могла бы так никогда и не развиться до высших форм, не говоря уже о появлении разумных людей.
Чтобы увидеть, насколько существенным было эволюционное торможение, стоит осознать, насколько легко Вселенная производит жизнь. Первые органические молекулы на Земле, возможно, появились спонтанно, у вулканических жерл на дне океана. Тепловая энергия может переплавить простые молекулы, богатые углеродом, в сложные аминокислоты и даже пузырьки, которые используются в качестве примитивных мембран. Кроме того, Земля, вероятно, импортировала органические вещества из космоса. Астрономы открыли изолированные аминокислоты, плавающие в пылевых облаках межзвездного пространства, а химики подсчитали, что ДНК-основания (к примеру, аденин) могут сформироваться и в космосе, так как аденин не содержит ничего, кроме пяти простых молекул HCN (да-да, цианида!), свернутых в двойное кольцо. Основания ДНК могли сохранить и состоящие изо льда кометы. По мере образования лед становится очень нетерпимым к посторонним примесям и сжимает все органические вещества внутри себя в концентрированные пузырьки. В этих пузырьках под давлением образовывается «кисель», внутри которого создание сложных молекул видится весьма вероятным. Ученые уже подозревают, что на заре существования нашей планеты ее океан подвергся бомбардировке комет, которые и посеяли в его воды «био-биты».
Из этого кипящего органического бульона в течение всего лишь миллиарда лет (если вдуматься, это довольно быстро) образовались автономные микроорганизмы со сложными мембранами и сменными движущимися частями. И вот от этого общего начала в кратчайшие сроки появилось много различных видов, которым требовались различные средства пропитания и которые изобретали мудреные способы выживания. Однако после этого чуда эволюция остановилась. На планете было много по-настоящему живых существ, но эти микробы практически не развивались в течение примерно миллиарда лет – а могли и вовсе не развиться.
Что же почти погубило их? Потребление энергии. Примитивные микроорганизмы тратят 2 % всей своей энергии на копирование и поддержание ДНК, но целых 75 % уходит на производство белков из ДНК. Так что даже если микроб развивает ДНК для того, чтобы сформировать выигрышную эволюционную черту (например, закрытое ядро, или «пузо» для переваривания других микробов, или аппарат для коммуникации с себе подобными), на практике производство новой черты очень сильно ослабляет организм. О добавлении сразу двух новых черт не может идти и речи. В подобных обстоятельствах эволюция бесполезна; клетки не могут стать более сложными. Достающаяся почти даром митохондриальная энергия расширила эти рамки. Митохондрия, как и, например, молния, накапливает столько энергии, сколько ей позволяет размер, а подвижность митохондрий позволяет их владельцам одновременно накапливать много новых свойств и развиваться до многоклеточных организмов. На самом деле митохондрии позволяют клеткам расширить свой запас ДНК в 200 тысяч раз, не только изобретать новые гены, но и в больших количествах добавлять регуляторную ДНК, делая клетки гораздо более податливыми для использования генов. Этого могло никогда не произойти с митохондриями, и мы могли бы никогда не пролить свет на эти темные времена в эволюции, если бы не теория Маргулис.
Митохондриальная ДНК позволила открыть совершенно новые отрасли науки – к примеру, генетическую археологию. Поскольку митохондрии могут воспроизводить самих себя, генов мтДНК в клетках более чем достаточно, гораздо больше, чем хромосомных генов. Поэтому когда ученые собираются покопаться в телах пещерных людей, мумиях или чем-то подобном, они часто извлекают и изучают именно митохондриальную ДНК. Специалисты могут использовать эту ДНК и для того, чтобы с беспрецедентной точностью проследить генеалогию. Сперматозоиды несут лишь немногим больше полезной информации, чем ядерная ДНК, поэтому дети получают все свои митохондрии из гораздо более просторных источников – материнских яйцеклеток. Митохондриальная ДНК таким образом передается по женской линии в практически неизменном виде от поколения к поколению, что делает ее идеальной для того, чтобы отследить родословную по матери. Более того, поскольку ученые знают, как медленно в митохондриях накапливаются изменения – одна мутация в 3500 лет – они могут использовать мтДНК в качестве часов. Для этого они сравнивают мтДНК двух людей, и чем больше мутаций находится, тем больше лет прошло с тех пор, как у этих двоих был общий предок по материнской линии. Фактически эти часы способны показать нам, что все семь миллиардов людей, живущих на Земле, могут проследить свои родословные по материнской линии к одной-единственной женщине, которая жила в Африке 170 тысяч лет назад, – так называемой митохондриальной Еве. Конечно, эта Ева никогда не была единственной женщиной на Земле. Она была самым старым предком по материнской линии каждого человека, который сейчас живет на нашей планете[28].
После того как митохондрии оказались столь важными для науки, Маргулис воспользовалась моментом, чтобы продвигать прочие неординарные идеи. Так, она начала доказывать, что микроорганизмы еще и подарили различные двигательные приспособления животным, например хвостики сперматозоидам, даже несмотря на то, что у этих структур никакого ДНК нет. Она перестала считать клетку всего лишь накопителем запчастей, а провозгласила грандиозную теорию, которая объявляла эндосимбиоз двигателем всей эволюции, оставляя естественному отбору и мутациям второстепенные роли. Согласно этой теории, мутации изменяют живые организмы лишь незначительно. Настоящие изменения происходят лишь тогда, когда гены скачут от вида к виду или когда целые геномы сливаются вместе, скрещивая совершенно различных существ. Только после подобных «горизонтальных» трансферов в ДНК начинается естественный отбор, который просто занимается «редактурой», препятствуя появлению уж совсем безнадежных монстров. А небезнадежные монстры, получившие выгоду от слияния, процветают.
Хотя Маргулис называла эту теорию революционной, в каком-то смысле ее теория слияния лишь расширяет классический спор между биологами, которые выступают (почему – попробуйте расспросить их сами) за быстрые скачки и спонтанное образование видов, и биологами, поддерживающими консервативные суждения и постепенное образование видов. «Архиградуалист» Дарвин рассматривал постепенные изменения и общее происхождение как закон природы и поддерживал идею постепенно растущего древа жизни без всяких ответвлений. Маргулис же примкнула к радикалам. Она доказывала, что слияния могут создавать настоящих химер – смешанных существ, которые технически не отличаются от русалок, сфинксов или кентавров. С этой точки зрения старомодное древо Дарвина должно уступить дорогу небрежно сплетенной паутине жизни с пересекающимися под разными углами линиями.
Несмотря на то, что она далеко забрела в своем радикализме, Маргулис заслужила право на инакомыслие. Это даже немного двулико, хвалить человека за то, что он придерживается нетрадиционных научных взглядов, и ругать – за нонконформизм в других ситуациях; нельзя просто так выключить часть сознания, отвечающую за предрассудки, только тогда, когда вам удобно. Известный биолог Джон Мейнард Смит однажды признался: «Думаю, что она [Маргулис] часто ошибалась, но большинство людей, которых я знаю, уверены, что ее присутствие важно, так как ее ошибки связаны со столь плодотворными областями исследования». И не будем забывать, что ее первая крупная идея оказалась потрясающе верной. Прежде всего, ее работа напоминает нам, что красивые растения и позвоночные животные не доминируют в истории жизни. Доминируют микробы, и именно они составляют эволюционный исходный материал, откуда произошли все мы – многоклеточные организмы.
Линн Маргулис получала удовольствие от конфликтов, а вот ее старшая современница Барбара Мак-Клинток старалась их избегать. Она предпочитала спокойные размышления публичной конфронтации, и ее весьма своеобразные идеи возникли не от стремления к бунтарству, а от чистой воды эксцентричности. Мак-Клинток весьма своевременно посвятила свою жизнь изучению своеобразной генетики растений вроде кукурузы. Взяв на вооружение всю странность этого растения, Мак-Клинток расширила наши представления о том, на что способна ДНК. Она нашла очень важные подсказки для понимания второй великой тайны нашего эволюционного прошлого: как ДНК строит многоклеточные организмы из описанных Линн Маргулис сложных, но одиночных клеток.
Биографию Барбары Мак-Клинток можно разделить на два периода: до 1951 года она вела счастливую полноценную жизнь ученого, после 1951 – горькую жизнь отшельника. Впрочем, до 1951 года все тоже было не то чтобы идеально. С раннего детства Барбаре приходилось постоянно ссориться с матерью: в основном из-за того, что девочка упорно интересовалась наукой и спортом – в частности, катанием на коньках – а не более характерными для девочек занятиями, которые, по мнению ее матери-пианистки, должны были улучшить ее перспективы выйти замуж. Мать даже наложила запрет на мечту Барбары поступить в Корнелльский университет, чтобы (как Херманн Миллер и Уильям Фридман когда-то) изучать генетику: потому что хорошие мальчики не женятся на слишком умных девочках. К счастью для науки, отец Барбары, врач, вмешался в дело до наступления осеннего семестра 1919 года и отправил дочь в северную часть штата Нью-Йорк на поезде.
В Корнелльском университете Барбара Мак-Клинток преуспевала, став президентом женского первого курса и выйдя на главные роли в научных лабораториях. Тем не менее однокурсники не всегда ценили ее острословие, особенно когда девушка критиковала их работу с микроскопом. В то время изготовление препаратов для микроскопа (а для этого надо было нарезать клетки, как ветчину, и поместить их желеобразное содержимое на многочисленные стеклышки, ничего не пролив) было сложной и ответственной работой. Само использование микроскопа тоже было непростым занятием: даже опытный ученый не всегда точно мог отличить одно пятнышко внутри клетки от другого и определить, что эти следы обозначают. Но Барбара Мак-Клинток освоила искусство обращаться с микроскопом очень быстро, к выпуску став признанным специалистом мирового класса. Будучи магистрантом Корнелла, она усовершенствовала метод давленых препаратов, который позволял ей разравнивать целые клетки пальцем и сохранять их нетронутыми на одном препарате, облегчая тем самым их изучение. Используя этот метод, она стала первым ученым, который смог идентифицировать все десять хромосом кукурузы (что не так-то легко: в этом может убедиться каждый, кто когда-либо наблюдал мешанину похожих на спагетти хромосом в живой клетке).
В 1927 году Корнелльский университет предложил Мак-Клинток заняться исследовательской и преподавательской работой на постоянной основе, и она начала изучать взаимодействие хромосом с помощью своей лучшей студентки – Харриет Крайтон. Обе эти «амазонки» коротко стриглись и часто одевались как мужчины: носили бриджи и высокие носки. Они были похожи друг на друга, даже анекдоты о них рассказывали одни и те же. Например, молва так и не могла определиться, кто из «биологинь» однажды утром поднимался по водосточной трубе на второй этаж, забыв ключи от кабинета. Харриет Крайтон все же была более открытым человеком. Так, в честь окончания Второй мировой войны она купила драндулет и отправилась на нем в Мексику. Сдержанная Мак-Клинток никогда бы так не поступила. Тем не менее они образовали отличную команду и вскоре сделали выдающееся открытие. Ученики Моргана, специализировавшиеся на дрозофилах, к тому времени уже несколько лет как продемонстрировали, что хромосомы могут пересекаться своими плечами и обмениваться некоторыми участками. Однако их доказательства оставались голой статистикой, основанной на абстрактных предположениях. И хотя многие ученые под микроскопом наблюдали переплетение хромосом, никто не мог сказать, действительно ли они обмениваются генетическим материалом. Мак-Клинток и Крайтон, которые знали, как выглядит каждый бугорок и нарост на каждой хромосоме кукурузы, смогли определить, что хромосомы физически обмениваются своими сегментами. Они даже смогли связать эти обмены с изменением в работе генов, что послужило решающим доказательством. Мак-Клинток не торопилась публиковать результаты своих опытов, но когда о них узнал Морган, он убедил ее сделать это немедленно. Публикация вышла в 1931 году. Два года спустя Морган получил Нобелевскую премию.
Мак-Клинток была довольна своей работой, которая, в частности, привела к тому, что их с Крайтон биографии попали в известную книжную серию «Люди науки», но она хотела достичь большего. Ей хотелось изучать не только хромосомы сами по себе, но и то, как они изменяются и мутируют, как подобные изменения приводят к созданию сложных организмов с различной расцветкой, формой корней и листьев. К сожалению, как только она попыталась открыть собственную лабораторию, против нее сыграли социальные обстоятельства. В университетах того времени (как, например, и в церковных приходах) кафедру могли получить только мужчины (кроме кафедры домоводства), и в Корнелле не собирались делать исключение для Мак-Клинток. Против своей воли она покинула родной университет и временно работала вместе с Морганом в Калифорнии. Стажировалась в Миссури и Германии, но ни там, ни там ей не понравилось.
Честно говоря, у Мак-Клинток было много других проблем, если не считать принадлежности к «неправильному» полу. Характер у нее был не сахар, а после одной неприятной истории она и вовсе заслужила репутацию неуживчивой эгоистки. В течение долгого времени Мак-Клинток разрабатывала незаметно от своего коллеги ту же проблему, что и он, и опубликовала результаты раньше, чем он закончил работу. Столь же проблематичным оказалось то, что Мак-Клинток работала с кукурузой.
Да, в генетические исследования кукурузы вкладывались хорошие деньги, потому что кукуруза – продовольственная культура. Один из лучших американских генетиков, Генри Уоллес – будущий вице-президент в правительстве Франклина Делано Рузвельта – сделал себе состояние, управляя семенной компанией. Кроме того, кукуруза имеет богатую научную родословную: ее изучали и Дарвин, и Мендель. К мутациям кукурузы проявляли интерес и военные. Когда США начали проводить ядерные испытания на атолле Бикини в 1946 году, ученые из правительства размещали под бомбами кукурузные зерна, чтобы узнать, как радиация повлияет на растение.
Мак-Клинток, впрочем, было наплевать на традиционные цели исследований кукурузы (повысить урожайность, сделать зерна слаще и т. п.). Кукуруза была для нее лишь средством, способом изучать наследование и развитие живых организмов в целом. К сожалению, для такой работы эта зерновая культура имела серьезные недостатки. Растет кукуруза мучительно медленно, ее капризные хромосомы часто разрушаются, раздуваются, расплавляются или случайным образом раздваиваются. Барбаре Мак-Клинток дополнительные сложности были только в радость, но большинство генетиков хотело избежать подобной головной боли. Они верили выводам ее работы – тем более что никто не мог тягаться с Мак-Клинток в искусстве обращения с микроскопом – но ее преданность кукурузе поставила ее в невыгодное положение между учеными-прагматиками, помогающими фермерам из Айовы вырастить больший урожай, и «чистыми» генетиками, отказывавшимися возиться с неуправляемой ДНК кукурузы.
В конце концов Мак-Клинток в 1941 году получила работу в захолустной лаборатории Колд-Спринг-Харбор, в тридцати милях к востоку от Манхэттена. Теперь она не должна была отвлекаться на занятия со студентами, да и ассистента наняла лишь одного: для того, чтобы вручить ему ружье и объяснить, что чертово воронье должно держаться от ее кукурузы подальше. Мак-Клинток оказалась один на один со своей кукурузой, почти вне общества – но именно это ей и было нужно. Немногочисленные друзья описывали ее как мистика от науки, постоянно увлеченную погоней за знанием, которое поможет разобраться со всеми существующими проблемами и нерешенными задачами генетики. Один из ее друзей заметил: «Она ждала, когда же у нее в голове загорится лампочка». В Колд-Спринг-Харборе у нее было время и место для размышлений, и именно с этой лабораторией связаны самые продуктивные годы в ее карьере, которые длились вплоть до 1951 года.
Ее исследования достигли пика в марте 1950 года, когда один из коллег Мак-Клинток получил письмо от нее. Оно занимало десять листов, напечатанных одинарным интервалом, при этом целые абзацы вычеркивались и дописывались, а поля были исписаны эмоциональными пометками, которые соединялись стрелками и ползли по краям страниц, как плющ. Сегодня, когда получаешь такое письмо, сразу закрадываются сомнения – а не отравлено ли оно сибирской язвой? Впрочем, описанная в нем теория также не внушала доверия. Морган считал гены жемчужинами, закрепленными в хромосомном ожерелье. Мак-Клинток утверждала, что видела, как эти «жемчужины» двигаются: прыгают от хромосомы к хромосоме и переселяются в них.
Более того, эти прыгающие гены определяют цвет кукурузных зерен. Мак-Клинток работала с кремнистой кукурузой – сортом, в початках которого встречаются синие и красные зерна и который чаще всего можно увидеть на платформах во время праздника урожая. Она увидела, что прыгающие гены атакуют плечи хромосом внутри этих семян, разрушая хромосомы и оставляя разрывы, напоминающие открытые переломы. Каждый раз, когда это происходит, зерна перестают производить пигмент. Позже, впрочем, когда неугомонный прыгающий ген перемещается куда-нибудь в другое место, сломанное хромосомное плечо заживает, а производство пигмента возобновляется. В каракулях того самого письма Мак-Клинток предполагает, что «перелом» хромосомы мешает гену образовывать пигмент. Действительно, наличие паттернов «вкл/выкл» казалось убедительным объяснением причудливой окраски зерен из початков Мак-Клинток.
Другими словами, прыгающие гены контролируют производство пигмента, поэтому Мак-Клинток назвала их «контролирующими элементами» (теперь их называют транспозонами, или, более обобщенно, мобильной ДНК). Как и Маргулис, Мак-Клинток использовала свое замечательное открытие, чтобы продвигать более амбициозную теорию. Пожалуй, самым затруднительным вопросом для биологов 1940-х годов был следующий: почему клетки неодинаковы? В конце концов, клетки кожи, печени, мозга содержат идентичную ДНК – так почему же у них не одинаковые функции? Ранее биологи объясняли это тем, что деятельность генов регулирует содержимое клеточной цитоплазмы, нечто находящееся за пределами ядра. Мак-Клинток нашла доказательства того, что хромосомы, находясь внутри ядра, регулируют сами себя и что этот контроль позволяет активировать и останавливать гены в определенный момент.
На самом деле (как Мак-Клинток и подозревала) возможность активировать и останавливать работу генов оказалась важным шагом в истории возникновения жизни. После того как появились сложные клетки, описанные Линн Маргулис, развитие живых организмов снова застопорилось более чем на миллиард лет. Затем, около 550 миллионов лет назад, в огромных количествах начали появляться многоклеточные существа. Вероятно, первые из них стали многоклеточными по ошибке: клетки слиплись и не смогли освободиться. Однако со временем, тщательно контролируя, какие гены в какие моменты активизируются в соединившихся образцах, клетки смогли начать специализироваться – а это и есть отличительная черта высших форм жизни. Теперь Мак-Клинток думала, что на нее наконец-то снизошло озарение по поводу того, как произошло это важнейшее изменение.
Мак-Клинток переделала свое созданное наспех письмо в полноценную лекцию, с которой она выступила в Колд-Спринг-Харборе в июне 1951 года. Вдохновленная своими надеждами, она говорила более двух часов подряд, прочитав при этом тридцать пять страниц мелким шрифтом. Она, наверное, могла бы простить, если бы зрители клевали носом, но с тревогой заметила, что они оказались просто сбитыми с толку. В основном это было обусловлено недостатком фактов. Ученым была известна репутация Мак-Клинток, поэтому, когда она утверждала, что видела, как гены скачут подобно блохам, большинство коллег отнеслось к этой информации спокойно. Коллег обеспокоила теория генетического контроля. Вставки и прыжки, по сути дела, казались слишком случайными. Эта случайность могла прекрасно объяснить и красно-синие кукурузные початки – но вот как прыгающие гены могут объяснить все развитие многоклеточных существ? Ни ребенка, ни даже бобовый стебель нельзя создать с помощью генов, которые случайно включаются и выключаются! Мак-Клинток не смогла толком ответить на эти вопросы, и по мере того как неудобные расспросы продолжались, аудитория все больше настраивалась против выступающей. Вся ее революционная идея о контролирующих элементах была сведена[29] к очередному дурацкому свойству кукурузы.
Барбара Мак-Клинток открыла «прыгающие гены», но когда коллеги поставили под сомнение ее выводы, она пала духом и превратилась в отшельника от науки. На фото: Мак-Клинток изучает свою любимую кукурузу под микроскопом (Национальный институт здоровья и Смитсоновский институт, Национальный музей американской истории)
Эта неудача очень плохо повлияла на Мак-Клинток. Даже когда после той речи прошло уже много лет, она продолжала злиться на коллег. Ей постоянно казалось, что над ней смеются или предъявляют обвинения: как, мол, ты смеешь сомневаться в такой истине, как постоянный состав гена? Причем доказательств того, что ее на самом деле высмеивали и обвиняли, практически нет: большинство коллег согласились с существованием прыгающих генов, они сомневались только насчет теории генетического контроля. Однако Мак-Клинток вбила себе в голову идею о существовании целого заговора против нее. Прыгающие гены и контролирующие элементы были настолько дороги ей и настолько связаны друг с другом в ее сознании, что сомнение в истинности одной теории она считала нападением и на вторую, и на нее лично. Сломленная духом, утратившая волю к победе, она ушла из большой науки[30].
Так начался этап отшельничества. В течение тридцати лет Барбара Мак-Клинток продолжала изучать кукурузу, часто проводя в кабинете дни и ночи, ночуя на раскладушке. Она перестала посещать конференции и прекратила все отношения с коллегами. После окончания очередного эксперимента она обычно оформляла свои выводы по всем правилам журнальной публикации, а затем присоединяла статью к своему архиву, никуда ее не отправляя. Коллегам, которые ее оскорбили, проигнорировав важнейшую работу, Мак-Клинток отплатила той же монетой: просто прекратила их замечать. Депрессивное состояние и одиночество способствовали тому, что мистическая сторона ее внутреннего мира расцвела пышным цветом. Она ударилась в изучение экстрасенсорики, НЛО и полтергейстов, а также изучала методы психологического контроля рефлексов. Приходя к дантисту, она просила его не применять обезболивающее, так как она может заблокировать боль усилием мысли. И все это время она продолжала выращивать кукурузу, готовить препараты и писать бумаги, которым было суждено остаться непрочитанными – как стихам Эмили Дикинсон при ее жизни. Мак-Клинток была сама себе собеседником, единственным членом нужного ей научного общества.
Между тем в большом научном обществе происходили забавные вещи – перемены, незаметные на первый взгляд. В конце 1960-х годов молекулярные биологи, на чью работу Мак-Клинток не обращала внимания, обнаружили мобильную ДНК в микроорганизмах. И ДНК отнюдь не была бесполезной диковинкой: прыгающие гены определяли, к примеру, будет ли у микробов развита толерантность к наркотическим веществам. Ученые также нашли доказательства того, что вирусы инфекционных заболеваний могут (прямо как мобильная ДНК) внедрять свой генетический материал в хромосомы и скрываться там постоянно. Оба открытия имели серьезные последствия для медицины. Мобильная ДНК, кроме того, стала жизненно важна для определения эволюционных степеней родства между видами. Если вы сравниваете несколько видов, и хотя бы два из них имеют в своей ДНК один и тот же транспозон, запрятанный на том же месте среди миллиардов оснований, это значит, что эти виды практически наверняка имеют общего предка, причем разделились относительно недавно. Вернее, они разделились позже, чем другие виды, имеющие того же общего предка, но не имеющие транспозона; существует слишком много оснований, чтобы говорить, что вставки дважды проходили независимо. То, что раньше выглядело несущественными подробностями, оказалось важной информацией, которая показала неизвестную сторону возникновения жизни. По этим и другим причинам работа Мак-Клинток внезапно оказалась не столько «забавной», сколько дальновидной. В результате ее репутация год от года улучшалась. К 1980 году обстоятельства продолжили изменяться в лучшую сторону: в свет вышла популярная биография Барбары Мак-Клинток, в то время уже пожилой женщины. Книга под названием «Чувство организма» вышла в 1983 году и сделала ее небольшой, но знаменитостью. Этот импульс было уже не остановить, случилось то, что еще недавно казалось столь же невероятным, как ее собственная работа, сделанная для Моргана за полвека до этого. В октябре новые поклонники выдвинули Мак-Клинток на Нобелевскую премию.
Отшельничество завершилось прямо-таки сказочным преображением. Мак-Клинток стала новоявленным Грегором Менделем, отвергнутым и забытым гением – вот только она, в отличие от Менделя, дожила до собственной реабилитации. Вскоре ее жизнь послужила вдохновляющей идеей для феминисток и материалом для поучительных детских книжек о том, что никогда нельзя отступать от своей мечты. Поклонникам было все равно, что их кумир терпеть не может нобелевскую публичность, из-за которой приходится прерывать исследования и позволять репортерам роиться у своих дверей. Нобелевская премия доставляла ей страдания даже в научном плане. Нобелевский комитет наградил ее за «открытие мобильных генетических элементов», что, конечно, было правдой. Но в 1951 году Мак-Клинток не без оснований считала, что открыла, как гены контролируют другие гены и все развитие многоклеточных существ. Вместо этого коллеги наградили ее, по сути, за навыки в работе с микроскопом – за успехи в поисках кишащих в клетке спиралей ДНК. Поэтому Мак-Клинток после получения Нобелевской премии начала терять интерес к жизни, даже задумываться о смерти: на девятом десятке лет она начала рассказывать друзьям, что точно умрет в возрасте 90 лет. И через несколько месяцев после своего девяностолетия, в доме Джеймса Уотсона в июне 1992 года, она действительно отошла в мир иной – и тем самым окончательно зацементировала свою репутацию человека, который мог предусмотреть то, на что другие были не способны.
Напоследок нужно сказать, что работы Барбары Мак-Клинток оказались незаконченными. Она открыла прыгающие гены и значительно расширила наши представления о генетике кукурузы (похоже, что именно один из прыгающих генов превратил тощее дикое растение в пышную современную кукурузу). Если смотреть более широко, то Мак-Клинток помогла установить, что хромосомы способны самостоятельно себя контролировать и что включение/выключение определенных процессов в ДНК определяет судьбу клетки. Обе идеи остаются важнейшими принципами современной генетики. Но, вопреки заветным надеждам Мак-Клинток, прыгающие гены не могут контролировать развитие, включать и выключать прочие гены в той степени, как она думала: клетки проделывают все это другими способами. Ученые потратили много лет на то, чтобы объяснить, как ДНК выполняет эти задачи, как сильные, но изолированные клетки когда-то сумели соединиться и создать по-настоящему сложных существ – даже таких сложных, как Мириам Майкл Стимсон, Линн Маргулис и Барбара Мак-Клинток.
Глава 6. Уцелевшие, обеспеченные
Какая ДНК является наиболее древней и наиболее важной?
Всем нам в школе рассказывали о том, что в эпоху колониализма европейские купцы и монархи тратили сумасшедшие деньги на то, чтобы отыскать Северо-Западный проход – прямой морской путь через Северную Америку, который сократил бы дорогу за специями, фарфором и чаем в Индонезию, Индию и Китай. Однако менее известно, что задолго до этих поисков другие исследователи столь же упорно, с той же маниакальной решимостью пытались преодолеть Северо-Восточный проход – через морозный север России.
Один из исследователей Северо-Восточного прохода – голландец Виллем Баренц, мореплаватель и картограф из прибрежных низменностей, известный в английских документах также как Баренс, Барентц, Барентсон и Барентзон – совершил свое первое путешествие в 1594 году, отправившись в плавание вокруг Норвегии и попав в водоем, который сейчас называется Баренцевым морем. Подобные путешествия, хоть и осуществлялись сугубо по корыстным мотивам, оказались полезными и для ученых. Натуралисты, встревоженные появлением необычных чудищ на просторах диких земель, начали анализировать, как флора и фауна различаются в разных уголках земного шара. Эта работа может считаться предтечей современных трудов по определению нашего общего предка, изучению общей ДНК. Географам подобные путешествия также хорошо помогли. Многие специалисты того времени верили, что постоянные солнечные дни летом в высоких широтах приводят к тому, что в определенной точке полярные льды тают и на Северном полюсе стоит солнечная райская погода. Поэтому практически на всех картах полюс был изображен в виде монолитной черной магнитной скалы, что объясняло, почему к полюсу тянутся стрелки компасов. Целью своей вылазки в море, которое позже назовут его именем, Баренц ставил поиск ответа на вопрос: Новая Земля, лежащая к северу от Сибири, – это оконечность очередного неоткрытого континента или же просто остров, вокруг которого можно проплыть? Он оснастил три корабля – «Меркурий», «Лебедь» и «Посланник» – и отправился в плавание в июне 1594 года.
Через несколько месяцев Баренц и команда «Меркурия» оторвались от двух других кораблей и начали исследовать побережье Новой Земли. При этом они осуществили одну из самых смелых вылазок в истории морских экспедиций. В течение нескольких недель «Меркурию» приходилось уклоняться от настоящей армады льдин, рискуя жизнью на протяжении 1500 километров. В конце концов матросы Баренца настолько обессилели, что попросили начальника экспедиции повернуть назад. Баренц смягчился, поскольку уже доказал своим плаванием, что перемещаться по Северному Ледовитому океану возможно, и вернулся в Голландию в полной уверенности, что открыл легкий путь в Азию.
Конечно, легкий, если избегать чудовищ. Открытие Нового Света и изучение Африки и Азии позволили людям узнать о многих тысячах невиданных растений и животных – и создали как минимум столько же небылиц о зверях, которых моряки якобы видели. В свою очередь, картографы фантазировали с истинно босховским размахом, населяя пустые пространства морей и равнин на картах жуткими сценами: кроваво-красные кракены, ломающие суда, гигантские выдры, пожирающие друг друга, драконы, жадно жующие крыс, деревья, убивающие медведей своими ветвями-молотами – не говоря уже об известных всем русалках с женской грудью. Одна из популярнейших карт того времени, нарисованная в 1544 году, изображает задумчивых циклопов, сидящих на восточной оконечности Африки. Автор этой карты, Себастьян Мюнстер, позже выпустил авторитетный сборник карт, полных изображений грифонов и жадных муравьев, добывающих золото. Мюнстер также расположил по всему земному шару всяческих тварей, похожих на человека, в том числе блеммиев (людей с лицами на груди), киноцефалов (людей с собачьими головами) и сциоподов (наземных русалок с одной огромной ногой вместо хвоста; эту ногу в солнечные дни они использовали вместо зонтика, держа ее над головой во время отдыха). Некоторые из этих тварей – обычная персонификация древних страхов и суеверий. Но на фоне правдоподобных мифов и фантастических фактов натуралисты также старались не отставать.
На протяжении многих столетий было модно изображать всевозможных чудовищ на картах, заполняя неизученные пространства неба и земли (часть карты Скандинавии Carta Marina, составленной в 1539 году Олафом Магнусом)
Даже лучший ученый-натуралист эпохи великих географических открытий, Карл фон Линне, более известный как Карл Линней, всерьез задумывался о существовании чудовищ. В его работе «Система природы» изложена биномиальная система для называния видов, которой мы пользуемся до сих пор: Homo sapiens, Tyrannosaurus rex и т. д. Так вот, в этой книге также выделялся класс paradoxa, к которому относились драконы, фениксы, сатиры, единороги, прорастающие на деревьях гуси, Лернейская гидра и парадоксальные головастики, которые во взрослом возрасте уменьшались в размерах, при этом еще и превращались в рыбу. Сегодня над всем этим можно лишь посмеяться… Впрочем, не над всем: по крайней мере в последнем случае мы можем посмеяться только над своей недоверчивостью. Уменьшающиеся головастики существуют на самом деле, правда, отпрыски Pseudis paradoxa, вырастая, превращаются в обычных старых жаб, а не в рыбешек. Но более того, современные генетические исследования показывают, что для некоторых легенд Линнея и Мюнстера на самом деле находится легитимное основание.
Несколько ключевых генов в организме каждого эмбриона выступают «картографами» для прочих генов и наносят наши тела на карту с GPS-точностью: разграничивают право и лево, перед и зад, верх и низ. Насекомые, рыбы, млекопитающие, рептилии и все прочие животные сохранили многие из этих генов, в особенности группу так называемых гомеозисных генов (Hox-генов). Широкое распространение этих генов в мире животных объясняет, почему животные по всей земле имеют одинаковую базовую планировку тела: цилиндрическое туловище с головой на одном конце, анусом – на противоположном и различными придатками между ними. Блеммии, с лицами, расположенными так низко, что при желании их владельцы могли бы достать языком до пупка, неправдоподобны именно по этой причине.
Hox-гены (что, по правде говоря, для генов нехарактерно) остаются тесно связанными после сотен миллионов лет эволюции. Они практически всегда появляются вместе, располагаясь вдоль сплошных участков ДНК (у беспозвоночных наблюдается один участок примерно с десятью генами, у позвоночных – четыре примерно таких же). Что еще более необычно, позиция каждого из этих генов примерно соответствует положению в организме того органа, за который Hox-ген отвечает. Так, первый Hox-ген проектирует верхнюю часть головы, следующий строит что-то пониже и так далее, вплоть до последнего гена, формирующего нашу промежность и все, что ее окружает. Почему природа потребовала, чтобы пространственное планирование генов проходило сверху вниз, неизвестно, но, опять-таки, эта черта характерна для всех животных.
Ученые считают ДНК, которая появляется в одной и той же основной форме во многих и многих видах, очень «консервативной», так как живые организмы обходятся с ней очень бережно, консервативно. Некоторые Hox-гены, а также гены, подобные им, сохранились в настолько неизмененном виде, что ученые могут извлечь гены из организмов цыплят, мышей, мух, а затем обменять их друг с другом, и они начнут примерно так же функционировать. Как несложно догадаться, строгая консервация тесно связана с ДНК, о которой идет речь. И сразу видно (в буквальном смысле), почему живые существа не так уж сильно беспокоятся о состоянии своих сильно законсервированных Hox-генов. Удалите один из этих генов, и у животного могут развиться дополнительные челюсти. Измените другие – и исчезнут крылья, или появятся дополнительные пары глаз – причем там, где на них невозможно будет смотреть без страха, например на ногах или кончиках усиков-антенн. Другие мутации выращивают гениталии или ноги на голове, челюсти и антенны – в промежности. И это еще везучие мутанты: большинство существ, в ДНК которых идет вольное обращение с Hox-генами, живут совсем недолго, чтобы обращать на них внимание.
Такие гены, как Hox, не столько строят тело животного, сколько инструктируют другие гены о том, как строить организм: у каждого есть десятки подчиненных. Однако они все же не могут контролировать каждый аспект развития. В частности, они зависят от питательных веществ – таких, как витамин А.
Несмотря на название в единственном числе, витамин А представляет собой несколько родственных молекул, которые мы – не биохимики – объединяем для удобства. Эти различные витамины группы А относятся к самым распространенным питательным веществам в природе. Растения запасают витамин А как бета-каротин, который дает моркови ее характерный цвет. Животные запасают витамин А во внутренних органах, и наши тела свободно усваивают различные формы, которые нам помогают в великом множестве биохимических процессов – способствуют сохранению остроты зрения и потенциала сперматозоидов, повышают производство митохондрий и заставляют отмирать старые клетки. Поэтому нехватка витамина А считается одной из основных проблем здравоохранения по всему миру. Одним из первых генетически усовершенствованных продуктов, созданных учеными, был так называемый золотой рис, недорогой источник витамина А, с зернами, богатыми бета-каротином.
Витамин А взаимодействует с Hox-генами и смежными генами, чтобы строить головной мозг, легкие, глаза, сердце, конечности и практически все остальные органы. На самом деле витамин А настолько важен для клеток, что они строят специальные «подъемные мосты» в своих стенках, чтобы позволить этому и только этому витамину проникнуть внутрь. Однажды попав в клетку, витамин А связывается со специальными вспомогательными молекулами, а образовавшийся комплекс вступает в связь с двойной спиралью ДНК, активируя Hox и прочие гены. В то время как большинству сигнальных веществ приходится прикрепляться к клеточной стенке и сообщать свою информацию через маленькие отверстия, витамин А получает специальное разрешение: Hox-гены сумели бы построить очень мало в организме ребенка, если бы не его главное питательное вещество – витамин А.
Однако будьте осторожны: перед тем как броситься в магазин за мегадозами витамина А специально для беременной супруги, нужно вспомнить, что слишком большое количество витамина А может вызвать серьезные врожденные дефекты. На самом деле организм умеет бороться с эффектами от приема витамина А и даже обладает несколькими генами (как ген с труднопроизносимым названием Tgif), которые могут значительно уменьшить концентрацию витамина А, если она будет слишком высокой. Это происходит частично оттого, что высокое содержание витамина А в эмбрионах может помешать развитию гена Shh, имеющего более глупое название – ген ежа Соника.
Да-да, ген назван в честь персонажа видеоигры. Аспирант – один из тех чудаков-«дрозофилистов» – открыл этот ген в начале 1990-х годов и охарактеризовал его в группе генов, которые в случае мутации вызывали у мухи рост колючих шипов по всему телу, похожих на ежиные иголки. Ученые к тому времени уже открыли много «ежовых» генов и называли их в честь настоящих видов ежей: индийский еж, крысиный еж, пустынный еж… Роберт Риддл посчитал, что назвать новый ген в честь стремительного героя из игр для приставки «Сега» будет весьма забавным. Однако легкомыслие получилось неуместным, ведь ген Соника оказался одним из самых важных в организме. Недостаток или неправильное функционирование этого гена могут привести к раковым заболеваниям и врожденному пороку сердца, и биологов просто передергивает, когда они вынуждены сообщать несчастным членам семьи больного, что дорогого им человека убьет еж Соник. Один биолог в интервью «Нью-Йорк Таймс» отозвался о подобных названиях таким образом: «Когда вы выбираете название для гена репы или этих дурацких дрозофил – это вполне себе симпатичное имя. Но когда ген связан с ростом и развитием человека, подобные шутки вообще неуместны».
Как Hox-гены контролируют ориентацию нашего тела «сверху вниз», гены Shh – большинство ученых все же избегает упоминания ежа Соника – помогают контролировать осевую симметрию тела («лево-право»). Для этого создается своеобразный GPS-градиент. Когда мы еще являемся комком протоплазмы, зарождающийся позвоночный столб, который делит будущий организм посередине, начинает выделять белок, отвечающий за выработку гена Соника. Близлежащие клетки поглощают много этого белка, находящиеся вдали – гораздо меньше. В зависимости от того, сколько белка накоплено, клетки точно «знают», по какую сторону от срединной линии они находятся, и, следовательно, знают, в клетки какого типа им предстоит превратиться.
Однако если там же накапливается слишком много витамина А (или же если Shh по какой-то причине перестает вырабатываться), градиент не может быть настроен должным образом. Клетки не могут выяснить свое расположение по отношению к средней оси, и органы вырастают совершенно ненормальными и даже чудовищными. В особо тяжелых случаях головной мозг может не разделиться на правое и левое полушарие: он так и остается большим неразделенным пузырем. Та же беда может приключиться с нижними конечностями. Если они получат слишком много витамина А, то могут срастись, что приведет к сиреномелии, или синдрому русалки. И соединенные полушария, и сросшиеся ноги приводят к смертельному исходу (в последнем случае оттого, что у организма не развивается ни анальное, ни мочеиспускательное отверстия). Но самые печальные последствия нарушения симметрии проявляются на лице. Курицы с переизбытком гена Соника имеют головы с очень широкой осью симметрии – иногда настолько широкой, что это приводит к формированию двух клювов (у млекопитающих – двух носов). Недостаток этого гена может привести к появлению носа с единственной огромной ноздрей или же к полному исчезновению этого органа. В особо печальных ситуациях носы могут появляться не с той стороны – например, на затылке. Но, возможно, самое печальное последствие, вызванное недостатком гена Соника, – это два глаза, растущие не там, где следует – на расстоянии нескольких сантиметров от лицевой оси. Оба глаза в таких случаях растут прямо посередине – получаются те самые циклопы[31], которых «по глупости» рисовали картографы.
Линней не включал циклопов ни в одну из своих классификаций – в первую очередь потому, что уже начал сомневаться в существовании чудовищ. Класс paradoxa был исключен из последующих изданий «Системы природы». Но в одном случае Линней, возможно, оказался слишком категоричен, не поверив услышанной истории. Род, к которому принадлежат медведи, Линней назвал Ursus, а бурому медведю дал имя Ursus arctos, так как знал, что медведи могут жить в суровом северном климате. Тем не менее он даже говорить не хотел о существовании белых медведей – возможно, потому, что доходившие до него истории казались уж слишком сомнительными. Кто, к примеру, может поверить россказням о белом, как призрак, медведе, который гонялся за людьми по льдам и забавы ради отрывал им головы? Особенно когда – а очевидцы клялись, что так и было – путешественники убили и съели белого медведя, их постигла страшная кара: начала слезать кожа. Однако все это на самом деле произошло с людьми Виллема Баренца. Ужасная история, из-за которой они были вынуждены повернуть назад, произошла из-за того же витамина А, способного плодить циклопов и русалок.
Вдохновленные «преувеличенными надеждами» на голландского принца Морица Оранского[32], вельможи из четырех голландских городов в 1595 году снарядили семь кораблей с грузом льна, полотна и гобеленов и отправили Баренца обратно в Азию. Проволочки задержали отплытие до середины лета, и как только корабли все же оказались в море, их капитаны не послушались Баренца (который был всего лишь штурманом) и взяли курс гораздо южнее, чем он желал. Они сделали это в том числе и потому, что северный путь Баренца казался совершенно безумным, и потому, что, помимо поездки в Китай, голландские моряки были воодушевлены слухами о далеком острове, чьи берега усеяны бриллиантами. И действительно, они нашли такой остров и немедленно на него высадились.
Моряки набивали карманы прозрачными камнями в течение нескольких минут, пока, как говорится об этом в одной из английских книг, «вдруг не пришел огромный отощавший белый медведь» и не положил свою лапу на плечо одному из матросов. Думая, что это другой матрос с волосатыми руками хочет побороться, бедняга крикнул: «Кто это там меня тянет за шею?» Его товарищи, слишком увлеченные сбором камней, подняли глаза – и души их ушли в пятки. Белый медведь «прыгнул на человека, разломал ему голову и начал пить кровь».
Эта схватка открыла долгую, на несколько столетий войну между полярниками и этим «жестоким, свирепым и прожорливым зверем». Белые медведи, конечно, заслужили репутацию «коварных тварей». Где бы ни высаживались моряки, кого-нибудь из отставших обязательно задирал медведь, и за эту жестокость неизменно наступала расплата. Моряки могли всадить топор медведю в спину или выпустить шесть пуль в бок – и это, к их ярости, только раззадоривало зверя. Впрочем, медведи тоже имели все основания жаловаться. В одном историческом труде мы читаем: «Казалось, что первые полярные исследователи почитали за честь убить белого медведя»; они нагромождали целые кучи звериных черепов – прямо как охотники на буйволов, которые потом заполнят Великие Равнины. Некоторые путешественники намеренно увечили медведей, чтобы можно было держать их в неволе и водить на веревке. Один из таких медведей, привязанный к небольшому судну, взбунтовался, разорвал путы, расшвырял в стороны матросов и захватил корабль. Однако веревка, оставшаяся на шее разъяренного медведя, запуталась в рулевом колесе, и зверь вырывался, пока не выбился из сил. Храбрые матросы вернулись на судно и убили животное.
Сражаясь с командой Баренца, медведь убил еще одного матроса и, возможно, продолжал бы удачную охоту, если бы с корабля-флагмана не прибыло подкрепление. Меткий стрелок положил медведю пулю точно между глаз, но животное только отмахнулось и не прекратило свою трапезу. На помощь пришли другие матросы, пустившие в ход мечи, но они застревали в густой шерсти медведя. Наконец кто-то ударил медведя прямо в морду и ошеломил его, позволив другому матросу разрезать зверю горло от уха до уха. Оба пострадавших матроса к тому времени уже, конечно, испустили дух, и уцелевшая команда покинула место драки, оставив тела своих товарищей и сняв шкуру с медведя.
Остаток путешествия прошел для команды Баренца не менее скверно. Корабли выдвинулись в путь слишком поздно, и их бортам со всех сторон начали угрожать огромные дрейфующие льдины. Положение ухудшалось с каждым днем, и к сентябрю некоторые матросы отчаялись достаточно для того, чтобы устроить бунт. Пятеро были повешены. В конце концов даже сам Баренц пал духом, опасаясь, что неповоротливые торговые суда будут скованы льдами. Все семь кораблей вернулись в порт, и на них не было никакого другого груза, кроме того, с которым они вышли, и каждый потерял свой пышный внешний вид. Даже предполагаемые алмазы оказались никчемным битым стеклом.
Такое путешествие разрушило бы все надежды смиренного человека, но не Баренца, который понял, что не нужно полагаться на власть имущих. Он хотел плыть как можно дальше на север, и в 1596 году наскреб денег на два корабля и снова отправился в путь. Сначала все шло гладко, но затем корабль Баренца и судно под управлением его более благоразумного коллеги, капитана Рийпа, разошлись в разные стороны. И в этот раз Баренц зашел слишком далеко. Он в конце концов достиг северной оконечности Новой Земли и обогнул ее, но как только Баренцу это удалось, на экспедицию обрушился неожиданно и не по сезону лютый мороз, пришедший из Арктики. Холода преследовали корабль на всем пути в южном направлении вдоль берега Новой Земли, и найти свободное пространство между льдинами с каждым днем становилось все сложнее. Очень скоро Баренц понял, что потерпел фиаско, – вокруг был целый материк льда.
Покинув свой плавучий гроб – моряки, нет сомнений, уже знали о расширении льдов и почувствовали, как палуба трескается под ногами – команда направилась вдоль берега по одному из мысов Новой Земли в поисках пристанища. Но хоть в чем-то команде Баренца повезло: на этом безлесном острове они смогли найти запас добела отшлифованных водой бревен, прибившихся к берегу. Судовой плотник, по иронии судьбы, к тому моменту уже умер, но из этого дерева и нескольких взятых с корабля бревен двенадцать оставшихся в живых матросов построили деревянную хижину размером примерно 7 на 11 метров, крытую сосновой черепицей, с тамбуром и «парадным» входом. Они назвали свое жилище Het Behouden Huys – «Дом спасения», не столько с иронией, сколько с надеждой, и пережили там суровую зиму.
Холод донимал повсюду, но в Арктике хватало и других способов изводить зимовщиков. В ноябре солнце исчезло на три месяца, и они просто сходили с ума, томясь в темной зловонной хижине. Им угрожал даже собственный очаг: однажды ночью экипаж чуть не задохнулся из-за плохой вентиляции. Им удалось добыть немного мяса и меха, подстрелив нескольких песцов, но эти твари нанесли им больше ущерба, постоянно воруя провиант. Даже стирка представляла собой черную комедию. Голландцам приходилось чуть ли не совать одежду прямо в очаг, чтобы хоть как-то ее высушить. Но одежда все равно пропитывалась копотью и дымом с одной стороны и оставалась обледеневшей – с другой.
Но настоящим бедствием, которое приходилось переживать ежедневно, были стычки с белыми медведями. Один из людей Баренца, Геррит де Фер, отмечал в своем дневнике, что медведи практически осадили «Дом спасения», по-военному искусно совершая набеги на стоявшие снаружи бочки с говядиной, беконом, ветчиной и рыбой. Однажды вечером медведь, почуяв запах мяса из очага, подкрался к нему так незаметно, что ему удалось преодолеть заднее крыльцо, порог и забраться в хижину через дверь, и только тогда он был замечен. От геноцида моряков спас мушкетный выстрел одного из них, ранивший и испугавший зверя.
Сцены из рокового вояжа Виллема Баренца через ледяной север России. По часовой стрелке слева направо: исследователи с белыми медведями; корабль, затертый льдами; хижина, в которой команда провела суровую зиму 1590-х годов (Геррит де Фер, «Три путешествия Виллема Баренца в Арктику»)
Сытые по горло приключениями, наполовину обезумевшие, жаждавшие мести моряки высыпали наружу и шли по кровавому следу, пока не догнали и не убили медведя-захватчика. На следующий день зимовку атаковали еще два медведя – матросы убили и их. Будучи в приподнятом настроении и к тому же соскучившись по свежему мясу, люди решили набить свои животы чем-нибудь съедобным и попробовать медведя. Они грызли хрящи и расщепляли кости, высасывая мозг, они настряпали самой разнообразной свежей еды: приготовили сердце, почки, мозг и самое сочное – печень. И вот этот обед в богом забытой хижине на восьмидесятом градусе северной широты стал для европейских исследователей первым жестоким уроком генетики – уроком, который упрямые исследователи Арктики получали снова и снова, уроком, который ученые за сотни лет так полностью и не усвоили. Печень белого медведя может выглядеть точно таким же пурпурно красным куском плоти, как печень любого млекопитающего, так же аппетитно пахнуть в жареном виде и так же покачиваться на зубцах вилки, но есть одно существенное различие – на молекулярном уровне печень белого медведя перенасыщена витамином А.
Чтобы понять, почему это так ужасно, нужно внимательнее взглянуть на определенные гены – те, которые помогают не созревшим клеткам нашего организма превратиться в специализированные клетки печени, мозга и т. д. Это та часть процесса, в котором так хотела разобраться Барбара Мак-Клинток, и по поводу которого велись научные дебаты за много лет до нее.
В конце XIX века образовалось два лагеря, стремившихся объяснить клеточную специализацию. Один из них возглавлял немецкий биолог Август Вейсман[33]. Он специализировался на изучении зиготы – это то, что образовывается, когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой, и формирует первую клетку в организме животного. Вейсман доказывал, что эта самая первая клетка, очевидно, содержит полный набор молекулярных инструкций, но с каждым делением зиготы и ее дочерних клеток половина этих инструкций теряется. В конце концов остаются только те инструкции, которые предназначены для одного конкретного типа клеток – в него незрелые клетки и превращаются. Другие ученые, напротив, утверждали, что клетки сохраняют полный набор инструкций после каждого деления, однако игнорируют большинство из них после достижения определенного возраста. Немецкий биолог Ханс Шпеман разрешил этот вопрос в 1901 году с помощью зиготы саламандры. Он поместил одну из этих широких мягких зигот под перекрестьем своего микроскопа, подождал, пока она не разделится надвое, а затем обвил вокруг одной из клеток белокурый волос своей маленькой дочери Маргритт. (Кстати, непонятно, почему он использовал именно дочкины волосы – он не был лысым и мог с тем же успехом взять волос у себя. Возможно, потому что детский волос был тоньше.) Когда Шпеман затянул петлю из волоса, две клетки окончательно разделились, и ученый положил их в два отдельных блюдца, развиваться независимо друг от друга. Вейсман в этом случае предсказал бы появление двух деформированных полусаламандр. Однако обе клетки Шпемана выросли в полноценных, здоровых особей. Фактически они были одинаковы и в генетическом плане, то есть Шпеману удалось клонировать саламандру – и это в 1901 году! Ученые незадолго до этого вновь обратили внимание на труды Менделя, и работа Шпемана намекала на то, что клетки могут сохранять инструкции, и при этом способны включать и выключать гены.
Тем не менее ни Шпеман, ни Мак-Клинток, ни кто-либо еще не смогли объяснить сам механизм того, как клетки выключают гены. Это потребовало еще нескольких десятилетий работы. Оказалось, что хотя клетки не теряют генетической информации как таковой, они могут потерять доступ к этой информации, что фактически одно и то же. Мы уже видели, что ДНК должна выполнять прямо-таки акробатические трюки, чтобы вместить всю свою длинную фигуру в крохотное клеточное ядро. Чтобы не завязаться узлом во время этого процесса, ДНК обычно оборачивается, как ниточка от йо-йо, вокруг гистонов – катушек белка, которые затем складываются вместе и прячутся в ядре. Гистоны относятся к белкам, которые были обнаружены в хромосомах на ранних стадиях; сперва ученые считали, что именно они, а не ДНК, определяют наследственность. Кроме поддержания цепочки ДНК в незапутанном виде, гистонные катушки защищают клеточные механизмы от попадания в ДНК и производства РНК, эффективно выключая ДНК. Клетки управляют этими катушками с помощью химических веществ – ацетилов. Ацетил (COCH3), прикрепленный к гистону, раскручивает ДНК; если же этот ацетил убрать, «якорь» исчезнет и ДНК свернется обратно.
Клетки также закрывают доступ к ДНК, изменяя ее с помощью молекулярных «кнопок» – метильных групп (CH3). Метилы лучше всего прикрепляются к цитозину (букве Ц в генетическом алфавите), и поскольку метилы не занимают много места – атомы углерода невелики, а водорода и вовсе самые маленькие в периодической таблице, – даже подобный небольшой бугорок может предотвратить попадание других молекул внутрь ДНК и включение гена. Другими словами, добавление метильных групп изменяет гены.
Каждый из двухсот типов клеток нашего тела обладает уникальным механизмом сворачивания и метилирования ДНК – эти механизмы устанавливаются еще в период эмбрионального развития. Клетки, которым суждено стать клетками кожи, должны отключить все гены, которые отвечают за производство ферментов печени и нейротрансмиттеров, для других клеток также характерны аналогичные процессы. Такие клетки не просто запоминают свою установку до конца жизни: они используют его каждый раз, когда делятся уже во взрослом состоянии. Когда вы слышите о включении или выключении генов, знайте, что часто виновны в этом именно метилы и ацетилы. Метильные группы в целом настолько важны, что некоторые специалисты добавляют пятую официальную букву в ДНК-алфавит[34]: А, Г, Т, Ц и вдобавок мЦ – метилированный цитозин.
Но для дополнительного (а иногда и более качественного) контроля ДНК клетки обращаются к «транскрипционным факторам» вроде витамина А. Этот витамин вкупе с другими факторами транскрипции связываются с ДНК и привлекают другие молекулы к ее расшифровке. Самое главное здесь то, что витамин А стимулирует рост и помогает быстро превратить незрелую клетку в полноценную кость, мышцу или другой орган. Витамин А особенно эффективно действует на различные слои кожи. Например, у взрослых этот витамин заставляет некоторые клетки передвигаться из внутренних слоев на поверхность, где они отмирают и превращаются в защитный наружный слой нашей кожи. Высокие дозы витамина А могут и повредить коже через «программированную гибель клеток». Эта генетическая программа, разновидность инициируемого суицида, помогает организму избавляться от больных клеток, так что клеточное «самоубийство» – это отнюдь не всегда плохо. Но, по неизвестным причинам, витамин А также может захватывать целую систему в определенных клетках кожи – и люди Баренца почувствовали это на своей шкуре.
Когда голландцы подкрепились жарким из белого медведя, содержащим кусочки бордовой печени, им стало так худо, как не было никогда в жизни. Они обильно потели, их била лихорадка и охватил жар, им ужасно скрутило кишечники – настоящая, черт побери, библейская чума! Геррит де Фер, также мучавшийся в бреду, вспоминает о медведице, которую он помогал разделывать, и стонет со страниц дневника: «Она принесла нам больше неприятностей в мертвом виде, чем в живом!» Еще страшнее стало через пару дней, когда де Фер заметил, что у многих его товарищей начала шелушиться кожа вокруг рта и губ – на тех местах, которые прикасались к медвежьей печени. Де Фер, паникуя, писал, что три человека чувствовали себя особенно плохо, и что все «реально думали, что мы теряем этих людей, так как у них сползла кожа на лице, на площади примерно одного фута»[35].
Только в середине ХХ века ученые определили, почему печень белого медведя содержит просто астрономическое количество витамина А. Белые медведи кормятся в основном охотой на нерп и морских зайцев, а эти тюлени выращивают детенышей, пожалуй, в самых жестоких условиях, какие только можно представить. Вода арктических морей, с температурой +2 градуса по Цельсию, выстудит любой организм. Витамин А позволяет тюленям выживать в такие страшные морозы: он работает подобно гормону роста, стимулируя клетки и позволяя белькам очень быстро накапливать толстые слои жира и кожи. Для этого тюленихи-мамы хранят в своей печени очень много витамина А и, выкармливая животных, следят, чтобы бельки ели вдоволь молока и получали много полезных веществ.
Белые медведи тоже нуждаются в огромных количествах витамина А, который накапливается в подкожном жире. Но еще более важно то, что их организмы толерантны к лошадиным дозам этого витамина, потому что иначе они не смогли бы есть мясо тюленей, – а больше им питаться, в сущности, и нечем. Один из законов экологии гласит, что яды накапливаются с каждым звеном пищевой цепочки, и находящиеся на ее верху хищники получают самые большие дозы. Это справедливо как для всех токсинов, так и для любого питательного вещества, которое становится токсичным в больших количествах. Но в отличие от большинства других веществ, витамин А не растворяется в воде, так что если хищник получит передозировку, он не сможет вывести излишки через мочу. Белые медведи вынуждены или как-то перерабатывать весь витамин А, который они получают с пищей, или умирать от голода. Они адаптировались, превратив свою печень в высокотехнологичный прибор по переработке биологически опасных веществ, которые фильтруют витамин А и обеспечивают, чтобы он держался подальше от остального организма. Белым медведям приходится беспокоиться о том, чтобы не трогать даже собственную печень. Они могут спокойно поедать животных, которые стоят ниже в пищевой цепочке, с меньшей концентрацией витамина А. Но некоторые биологи иронически отмечают, что если белый медведь съест собственную печень, то, скорее всего, сдохнет.
Впечатляющую способность справляться с витамином А белые медведи начали развивать около 150 тысяч лет назад, когда небольшие группы аляскинских бурых медведей отделились от других и мигрировали на север, жить во льдах. Однако биологи всегда подозревали, что важные генетические изменения, которые сделали белых медведей такими, какие они есть, произошли не постепенно, а очень быстро, практически сразу. Аргументы выглядели следующим образом. После того, как любые две группы животных разделяются географически, они начинают приобретать различные мутации ДНК. С накоплением мутаций эти группы развиваются в отдельные виды с различным строением тела, обменом веществ, поведением. Однако не вся ДНК изменяется с одинаковой скоростью. Хорошо законсервированные гены, такие, как Hox, изменяются очень медленно, на протяжении целых геологических периодов. Изменения прочих генов могут проходить быстро, особенно если их владельцы переживают стресс, связанный со сменой обстановки. Например, когда эти бурые медведи бродили по мрачным ледяным просторам за полярным кругом, любые полезные мутации, позволяющие бороться с холодом – например, возможность переваривать богатое витамином А мясо тюленей – могли дать медведям важное преимущество, позволило бы им иметь больше детенышей и лучше о них заботиться. И чем суровее была окружающая среда, тем быстрее такие гены могли распространиться во всей популяции.
Другой способ распространять эти гены основан на том, что ДНК-часы, которые принимают во внимание число и скорость мутаций в ДНК, в различных частях генома «тикают» по-разному. Поэтому ученым приходится быть осторожными, когда необходимо сравнивать ДНК двух видов и определять, как давно они разделились. Если специалисты не будут принимать во внимание законсервированные гены или ускоренные изменения, их оценки могут не иметь ничего общего с реальностью. С учетом всех этих оговорок, биологи в 2010 году установили, что белые медведи достаточно «вооружились» против арктических холодов, чтобы считаться отдельным видом, всего лишь 20 тысяч лет назад после того, как ушли от своих бурых предков. По меркам эволюции это один миг.
Как мы увидим позже, люди – новички в том, что касается мясоедения, поэтому неудивительно, что нам недостает защиты, которую имеют белые медведи, и что мы не можем обмануть пищевую цепочку и страдаем, отведав печени белого медведя. Люди имеют неодинаковую генетическую предрасположенность к отравлению витамином А (так называемому гипервитаминозу А), но любой человек скончается в ужасных мучениях всего лишь от 25–30 граммов такой печени.
Наш организм перерабатывает витамин А в ретинол, который в дальнейшем должен быть разрушен специальными ферментами (эти же ферменты разрушают большинство самых распространенных ядов, которые принимают люди, например алкоголь, содержащийся в пиве, роме, вине, виски и т. д.). Но с тем количеством витамина А, который содержится в печени белого медведя, наши бедные ферменты просто не могут справиться: прежде чем они успеют расщепить и переработать весь объем витамина, чистый ретинол начнет циркулировать у нас в крови. И это очень плохо. Клетки окружены липидными мембранами, и ретинол, выступая в качестве детергента, разрушает эту пленку. Содержимое клетки сразу же начинает вытекать, и это приводит к накоплению жидкости внутри черепа, от чего случаются головные боли, туман перед глазами, раздражительность. Так же ретинол разрушает и другие ткани (он даже может проникнуть в структуру волос, сделав их курчавыми), но больше всего страдает именно кожа. Витамин А поворачивает тысячи генетических выключателей в клетках кожи, доводя некоторые клетки до суицида, а остальные заставляет раньше времени двигаться к поверхности. Ожог витамином А уничтожает все верхние слои кожи, которая начинает сходить пластами.
Людям неоднократно пришлось усваивать подобные уроки, связанные с поеданием печени хищников. В 1980-х годах антропологи обнаружили скелет Homo Erectus, возрастом около 1,6 миллиона лет, кости которого имели поражения, характерные для отравления витамином А, которые могут быть вызваны в результате поедания мяса крупных хищников. После появления белого медведя – и после бесчисленных происшествий с человеческими жертвами – эскимосы, сибиряки и прочие северные племена (не говоря уже о птицах-падальщиках) научились избегать печени белого медведя, но европейские исследователи, появившиеся в Арктике, об этом не знали. Многие при этом считали туземный запрет на поедание печени «вульгарным предрассудком», таким же суеверием, как, например, поклонение деревьям. Еще в 1900 году британский исследователь Реджинальд Кеттлиц с удовольствием попробовал печень белого медведя, но быстро понял, что иногда табу – это весьма разумно. Через несколько часов Кеттлиц почувствовал сильное давление, нарастающее в черепе, пока вся голова не начала раскалываться изнутри. Затем началось сильное головокружение, вслед за которым ученого несколько раз вырвало. Хуже всего было то, что он даже не мог заснуть: в горизонтальном положении становилось только хуже. Другой исследователь того времени, доктор Йенс Линдгард, в целях эксперимента накормил печенью белого медведя девятнадцать человек, находившихся у него под присмотром. Всем испытуемым стало плохо, некоторым – до такой степени, что они проявляли явные признаки умопомешательства. Между тем другие недоедавшие полярники на собственном опыте узнали, что смертельные дозы витамина А в печени наблюдаются не только у белых медведей: из печени северного оленя, акулы, меч-рыбы, песца и арктической лайки тоже получалась прекрасная последняя трапеза.
В свою очередь, после отравления печенью белого медведя в 1597 году люди Баренца стали мудрее. Согласно летописцу де Феру, после злополучного обеда «в котелке над огнем оставалось еще немного печени. Но капитан взял котелок и выплеснул за двери – хватит с нас!»
К голландцам вскоре вернулись силы, но морозы продолжали разрушать их хижину, одежду и боевой дух. В конце концов в июне лед начал таять, и они смогли достать с корабля шлюпки и отправиться в море. Сначала они могли только шнырять между небольшими айсбергами – и при этом постоянно отбивать атаки «тяжелой артиллерии» в виде преследовавших лодки белых медведей. Но 20 июня 1597 года лед наконец-то растрескался, и полноценное плавание стало возможным. Как ни прискорбно, но день 20 июня также стал последним днем жизни Виллема Баренца, долго болевший мореплаватель ушел из жизни в 50 лет. Потеря навигатора подорвала мужество и решимость оставшихся двенадцати членов экипажа, которым предстояло преодолеть сотни километров по океану в открытых лодках. Однако им удалось достичь северной части России, где сердобольные аборигены снабдили их едой. Через месяц нидерландские моряки высадились в Лапландии, где помимо прочих людей встретили капитана Яна Корнелисзоона Рийпа, командовавшего тем самым кораблем, с которым той зимой разминулся Баренц. Обрадованный встречей – он-то считал их мертвыми – капитан Рийп доставил всех моряков обратно в Нидерланды[36], куда они прибыли в потертой видавшей виды одежде, но в роскошных белых песцовых шапках.
Однако их вовсе не ждал теплый прием и чествование как героев. В тот же день домой вернулась другая голландская экспедиция, на кораблях, нагруженных специями и прочими диковинками из Китая, куда они добрались, обогнув с юга Африку. Это путешествие доказало, что торговые суда могут совершить столь далекий вояж, и хотя рассказы о голоде и выживании среди льдов были захватывающими, сердца жителей Голландии оказались покорены историями не о севере, а об азиатских сокровищах. Королевская семья предоставила Голландской Ост-Индской компании монополию на путешествия в Азию вокруг Африки, так родился легендарный торговый маршрут – морской Великий шелковый путь. Баренц и его команда были забыты.
Монополия на маршрут из Азии в Африку обозначала, что другие предприниматели, осуществлявшие морские перевозки, могли искать счастья только на Северо-Восточном проходе, поэтому вылазки в Баренцево море, площадью почти полтора миллиона квадратных километров, продолжали совершаться. Наконец страстно возжелавшая двойной монополии Голландская Ост-Индская компания в 1609 году послала на север собственный экипаж – под командованием англичанина Генри Гудзона. И снова все пошло не так, как надо. Гудзон и его корабль «Полумесяц» вначале пошли на север вдоль берегов Норвегии, как и было запланировано. Однако затем экипаж из сорока человек, наполовину состоявший из голландцев, которые, конечно, наслушались баек о выживании, беззащитности во льдах и – о господи – людях, у которых с головы до ног облезает кожа, поэтому взбунтовались. Они заставили Гудзона повернуть не на восток, а на запад.
Гудзон подчинился их требованиям, пройдя на запад до самой Северной Америки. Он прошел Новую Шотландию и останавливался в нескольких местах вдоль берега Атлантического океана, включая визит по тогда еще безымянной реке мимо небольшого болотистого острова. Голландцы были раздосадованы, что Гудзон не обогнул Россию, но сняли сливки, через несколько лет основав торговое поселение под названием Новый Амстердам на этом острове – будущем Манхэттене. О людях часто говорят, что страсть к путешествиям заложена в них на генетическом уровне… В случае с основанием Нью-Йорка это можно понимать практически в буквальном смысле.
Глава 7. Макиавеллевский микроб
Человеческая ДНК: насколько она человеческая?
В 1909 году в Рокфеллеровский институт на Манхэттене прибыл взволнованный фермер из Лонг-Айленда с больной курицей под мышкой. В то время наблюдалась эпидемия рака, которая просто выкашивала курятники по всем Соединенным Штатам, и у этой курицы породы плимутрок была подозрительная опухоль на правой грудке. Фермер, боявшийся потерять всех своих кур, обратился за диагнозом к специалисту Рокфеллеровского университета Френсису Пейтону Роусу. К ужасу фермера, вместо того чтобы попытаться спасти курицу, Роус ее зарезал – чтобы осмотреть опухоль и провести опыты. Впрочем, научный мир навеки благодарен Роусу за это убийство.
После извлечения опухоли Роус измельчил несколько граммов ее тканей, приготовив жидкую кашицу. Затем отфильтровал ее через мельчайшие фарфоровые поры, в результате чего из раствора оказались извлечены раковые клетки, осталась практически одна межклеточная жидкость. Среди прочего, эта жидкость помогает проникать в клетку питательным веществам, но может и служить пристанищем для микробов. Роус ввел жидкость в грудку другой курице той же породы. Вскоре у этой птицы тоже развилась опухоль. Биолог повторял опыты с курами других пород (например, леггорнами), и через шесть месяцев у этих птиц тоже появились точно такие же опухоли, чуть более шести квадратных сантиметров в диаметре. Примечательно – и тем более странно – что каждый эксперимент подразумевал фильтрацию жидкости. Поскольку Роус удалял оттуда все раковые клетки перед инъекцией, новые опухоли не могли образоваться из клеток старых опухолей, пересаженных здоровым птицам. Получалось, что рак образовывался из жидкости.
Упомянутый фермер, конечно, расстроился, потеряв курицу, но именно благодаря этой жертве удалось разгадать тайну птичьей пандемии. Роус, врач и патолог, имел богатый опыт обращения с домашними животными. Его отец во время Гражданской войны покинул Вирджинию и поселился в Техасе, где и встретил мать Френсиса. Затем вся семья вернулась на восток, в Балтимор, и после окончания школы Роус поступил в Университет Джона Хопкинса, где зарабатывал в том числе и написанием заметок в «Балтимор Сан», по пять долларов за каждую. Колонка называлась «Дикие цветы месяца» и была посвящена балтиморской флоре. Роус прекратил вести эту колонку после того, как поступил на медицинский факультет университета Хопкинса, однако вскоре был вынужден прервать занятия. Во время вскрытия он порезал руку осколком туберкулезной кости, и когда обнаружилось, что студент заразился, руководство университета отправило его в отпуск для лечения. Но вместо той терапии, которая принята в Европе, – тихий отдых в горном санатории – Роус выбрал старое доброе американское лечение и отправился в Техас работать на ранчо. Он был маленьким и щуплым, но полюбил тяжелый фермерский труд и в особенности заинтересовался домашними животными. Выздоровев и продолжив учебу, он решил стать не практикующим врачом, а ученым-микробиологом.
Весь опыт работы на ранчо и в лаборатории, а также все показания в случае с курицей привели Роуса к единственному выводу: у кур был вирус, и этот вирус распространяет рак. Но весь его опыт также подсказывал, что эта идея весьма глупа – и коллеги это подтверждали. Инфекционный рак, доктор Роус? Как вообще вирус может вызвать рак? Одни специалисты говорили, что Роус ошибся в диагностике опухоли: возможно, это его инъекция вызвала у кур необычное воспаление. Сам Роус позже признавался: «Меня в тот вечер просто колотило от страха, что я ошибся». Он опубликовал свои результаты, но даже по стандартам крайне обтекаемой научной прозы он порой лишь намекает на свои выводы: «Этого, возможно, не слишком много, чтобы утверждать, что [открытие] указывает на существование новых объектов, которые вызывают у кур новообразования различного происхождения…» Но осмотрительность Роуса была вполне оправданной. Один из современников Роуса вспоминает, что реакция научного общества на его работы о раке у кур «варьировалась от безразличия до скептицизма или даже откровенной враждебности».
В течение следующих нескольких десятилетий большинство специалистов просто забыли о работе Роуса – что, в общем, неудивительно. Некоторые открытия того времени доказывали биологическую связь вирусов и раковых заболеваний, но другие выводы категорически это отвергали. К 1950-м годам ученые определили, что раковые клетки выходят из строя в том числе и из-за неправильной работы генов (кто-то для этих целей исследовал ДНК, кто-то, как сам Роус, – РНК). Не будучи живыми организмами в строгом понимании этого слова, вирусы используют генетический материал, чтобы захватывать клетки и копировать самих себя. Таким образом, и вирусы, и рак воспроизводятся неконтролируемо и используют ДНК и РНК с общей целью – это уже как минимум любопытно. Однако ситуацию запутал Фрэнсис Крик, в 1958 году сформулировавший свою центральную догму, согласно которой ДНК генерирует РНК, которая генерирует белки, – именно в таком порядке. В соответствии с привычным нам пониманием этой догмы, РНК-вирусы, описанные Роусом, не способны разрушить или переписать ДНК клеток: в противном случае это перевернет всю догму с ног на голову, что недопустимо. Таким образом, несмотря на столь явные биологические соответствия, казалось, что вирусная ДНК никак не может взаимодействовать с канцерогенной ДНК.
Дело зашло в тупик – данные против догмы – пока несколько молодых ученых на стыке 1960-х и 1970-х годов не обнаружили, что природа не особо обращает внимание на догмы. Оказалось, что некоторые вирусы (самый известный современный пример – ВИЧ) искусно манипулируют ДНК. В частности, вирусы могут «уговорить» зараженную клетку провести обратную транскрипцию вирусной РНК в ДНК. Что еще страшнее, они могут обманом заставить клетку внедрить новоиспеченную вирусную ДНК в свой геном. Словом, эти вирусы могут сливаться с клетками. Они не проявляют никакого уважения к линии Мажино, которую мы предпочли бы провести между «своей» и «чужой» ДНК.
Эта стратегия для зараженных клеток может показаться слишком мудреной: зачем РНК-вирусу вроде ВИЧ заботиться о том, чтобы конвертироваться в ДНК, при том что клетка в любом случае транскрибирует эту ДНК обратно в РНК? Если учесть, насколько РНК продуктивнее и мобильнее, чем ДНК, все это видится еще менее понятным. Одинокая РНК может образовывать рудиментарные белки, в то время как одинокая ДНК в такой ситуации попросту бездействует. РНК может сама себя копировать, как на рисунке Эшера, где две руки рисуют друг друга. Принимая во внимание все эти доводы, большинство биологов верит в то, что РНК предшествовала ДНК в истории образования жизни, так как жизнь в ее зачаточном состоянии весьма нуждалась в фантазии искусных клеток, способных копировать себя. Это называют «гипотезой мира РНК»[37].
Тем не менее сначала Земля представляла собой настоящее поле битвы, и сравнение РНК с ДНК тут довольно надуманно. Символы РНК, объединенные в одинарную, а не двойную цепочку, постоянно подвергались нападению. Кроме того, в РНК имеется дополнительный атом кислорода, входящий в состав кольцевых молекул сахара рибозы: за счет него рибоза как бы поедает собственный хребет и сокращает РНК, если она вырастает слишком большой. Таким образом, хрупкой РНК пришлось уступить ДНК приоритет в постройке чего-то действительно прочного, способного действовать, плавать, расти, драться, спариваться – словом, полноценно жить. Этот переход к менее подверженной разрушениям среде произошел несколько миллиардов лет назад и стал, возможно, самым важным шагом в истории возникновения жизни. В какой-то мере этот процесс напоминал переход, скажем, от устной поэзии Гомера к литературе в письменной форме: бесстрастный ДНК-текст лишен разнообразия, которое есть у РНК, не зависит от тона голоса и жестикуляции; однако «Илиада» и «Одиссея» не дошли бы до нас, если бы не были записаны чернилами на папирусе. ДНК сохранилась до наших дней подобно письменному тексту.
И вот почему вирусы конвертируют РНК в ДНК после заражения клетки: ДНК более выносливая, более жизнеспособная, чем РНК. После того как эти ретровирусы – название дано за то, что они активизируют ДНК, затем РНК, а затем уже белки, то есть противоположно догме – вплетают себя в клеточную ДНК, и клетка будет точно копировать вирусные гены до тех пор, пока она сама и вирус будут живы.
Открытие манипуляций вирусной ДНК объяснило, что случилось с бедными курами в лаборатории Роуса. После инъекции вирусы через межклеточную жидкость проникли в мышечные клетки. Затем они снискали расположение ДНК курицы и перепрограммировали механизмы всех зараженных мышечных клеток на изготовление как можно большего числа собственных копий. Оказывается – вот в чем суть! – великая стратегия вирусов, распространяющихся с сумасшедшей скоростью, состоит в том, чтобы убедить клетки, зараженные вирусной ДНК, размножаться так же активно. Вирусы делают это, разрушая генетические генераторы, которые предотвращают клетки от непрерывного деления. В результате – стремительно растущие опухоли и много мертвых птиц. Трансмиссивный рак вроде этого атипичен – большинство раковых заболеваний имеют другие генетические причины, но для многих животных рак, вызываемый вирусами, несет серьезную угрозу.
Новая теория генетических вторжений, конечно, была нестандартной – даже Роус сомневался в некоторых ее положениях. Но стоит признать, что ученые того времени фактически недооценили возможности вирусов и прочих микроорганизмов внедряться в ДНК. Слово «вездесущий» не образует степеней сравнения: нечто может или быть, или не быть вездесущим. Поэтому извините меня за этот оборот, но я должен сказать о полной, абсолютной и совершенной вездесущности микробов. Эти маленькие козявки населяют каждое живущее существо – так, человеческий организм кормит в десять раз больше микробов, чем производит клеток – и заняли все возможные экологические ниши. Есть даже целый класс вирусов, заражающих исключительно других паразитов[38], которые едва превосходят эти самые вирусы по размеру. В целях стабильности многие из этих микроорганизмов внедряются в ДНК и зачастую оказываются достаточно проворными, чтобы заменить или замаскироваться, чтобы обойти оборону наших органов. (За последние пару лет один только ВИЧ поменял с А, Ц, Г и Т больше своих генов, чем было у всех приматов за пятьдесят миллионов лет.)
До 2000 года, когда завершился проект «Геном человека», биологи даже не представляли, насколько широко микробы могут распространиться в организмах высших животных. Даже слово «человек» в названии проекта можно посчитать некорректным, так как оказалось, что целых 8 % нашего генома вообще не имеет отношения к человеческим генам: четверть миллиарда пар оснований в нашем организме – это старые гены вирусов! Уникальные человеческие гены занимают всего лишь около двух процентов общей ДНК – то есть можно сделать вывод, что каждый из нас вчетверо больше вирус, чем человек. Один из первых исследователей вирусной ДНК, Робин Вайс, охарактеризовал эти эволюционные отношения предельно просто: «Если бы воскрес Чарльз Дарвин, он бы с удивлением узнал, что люди произошли не только от обезьян, но и от вирусов».
Как это могло произойти? С точки зрения вирусов колонизация животной ДНК очень даже имеет смысл. При всем своем коварстве и лицемерии, ретровирусы, вызывающие рак или СПИД, глупцы глупцами в одном отношении: они слишком быстро убивают своих хозяев и погибают вместе с ними. Но не все вирусы ведут себя подобно микроскопической саранче и уничтожают все, куда приземляются. Менее амбициозные экземпляры наловчились не разрушать слишком много, и при весьма сдержанном поведении они все же стимулируют клетку потихоньку копировать себя в течение многих лет. Еще лучше, если вирусы проникают в сперматозоиды или яйцеклетки: в таком случае они могут склонить клетку-хозяина к передаче вирусных генов новому поколению, позволяя вирусу сколько угодно «жить» в организмах потомков. Подобное прямо сейчас происходит у коал, и ученым удалось проследить, как ретровирусная ДНК распространяется через сперматозоиды этих зверьков. То, что эти вирусы уже испортили ДНК у такого большого количества животных, может намекнуть нам, что подобные проникновения случались всегда, и в таких масштабах, что страшно даже подумать.
Из всех «потухших» генов, имеющихся в человеческой ДНК, подавляющее большинство пережило фатальные мутации и больше не функционирует. Но, с другой стороны, эти гены сидят в наших клетках нетронутыми и помогают достаточно подробно изучить оригинальный вирус. В 2006 году французский вирусолог Тьерри Хейдман использовал человеческую ДНК, чтобы воскресить потухший вирус – настоящий «Парк юрского периода» в чашке Петри! И это оказалось поразительно легко. Строки некоторых древних вирусов многократно появляются в человеческом геноме (число копий варьируется от десятков до десятков тысяч). Однако смертельные мутации появляются случайно, в разных точках каждой копии. Таким образом, сравнивая эти цепочки, Хейдман сумел разгадать, как должен выглядеть оригинальный, здоровый вирус, просто подсчитав, какой из символов ДНК наиболее часто встречается в копиях на одном и том же месте. Хейдман утверждал, что вирус безвреден, однако когда его ввели в клетки других млекопитающих – кошки, хомяка, человека – все клетки оказались зараженными.
Вместо того чтобы делать из этой ситуации трагедию (ведь не все древние вирусы безвредны) или пророчествовать апокалипсис от того, что вирусом завладеют злоумышленники, Хейдман праздновал это воскрешение как научный триумф. Он назвал свой вирус Фениксом в честь мифологической птицы, возрождающейся из собственного пепла. Другие ученые повторяли опыты с другими вирусами, и таким образом была основана новая научная дисциплина – палеовирология. Крохотные хрупкие вирусы не оставляют после себя окаменелостей, подобно тем, которые выкапывают настоящие палеонтологи, однако палеовирологи находят столь же ценную информацию в древней ДНК.
Тщательное изучение этих «окаменелостей» показывает, что на самом деле наш геном даже может более чем на 8 % состоять из вирусных генов. В 2009 году в человеческой ДНК были обнаружены четыре участка, представляющие собой борнавирусы – микроорганизмы, с незапамятных времен заражавшие копытных животных. Борнавирус получил название от особенно грандиозной вспышки заболевания среди лошадей в 1885 году, в кавалерийских полках близ Борна (Германия). Неожиданно взбесившиеся лошади сами себе разбивали головы. Около сорока миллионов лет назад несколько бродячих борнавирусов попали в организмы наших обезьяноподобных предков и нашли себе укрытие в их ДНК. Этого никто не знал и не замечал, потому что борнавирус не относится к ретровирусам, поэтому ученые не думали, что он обладает молекулярными механизмами, конвертирующими РНК в ДНК и позволяющими вирусу куда-либо внедриться. Однако лабораторные тесты доказали, что борнавирус может вплестись в человеческую ДНК в течение всего лишь тридцати дней. Причем, в отличие от мутировавшей ДНК, которую мы получаем от ретровирусов, два из четырех участков ДНК борнавируса функционируют так же, как здоровые гены этого микроорганизма.
Ученые до конца не разобрались, чем занимаются эти гены, но они могут принимать активное участие в синтезе белков, необходимых нам для жизни, за счет укрепления нашей иммунной системы. Несмертельному вирусу разрешается проникать в нашу ДНК – и это, возможно, мешает другим, потенциально более опасным вирусам делать то же самое. Более того, клетки могут использовать доброкачественные вирусные белки, чтобы бороться с другими инфекциями. Это на самом деле простая стратегия: казино нанимают шулеров, агентства компьютерной безопасности – хакеров… Словом, никто не сможет бороться с вирусами и нейтрализовывать их лучше, чем сами видоизмененные микроорганизмы. Обзоры наших геномов также позволяют предположить, что вирусы дают нам важную регуляторную ДНК. К примеру, в наших пищеварительных трактах давно присутствуют ферменты, которые расщепляют крахмал на простые сахара. Однако вирусы дают нам переключатели, активизирующие эти же ферменты в нашей слюне. В результате продукты, содержащие крахмал, становятся сладкими у нас во рту. Без этих «переключателей» мы вряд ли любили бы такие продукты, как хлеб, крупы, макароны и многие другие.
И это, возможно, только начало. Согласно мнению Барбары Мак-Клинток, почти половина ДНК человека состоит из подвижных элементов и прыгающих генов. Один-единственный транспозон, состоящий из 300 оснований Alu-повтор, миллионы раз встречается в хромосомах человека и формирует практически 10 % нашего генома. Способность этой ДНК отделяться от одной хромосомы, ползти к другой и прикрепляться к ней, как клещ, очень напоминает аналогичные возможности вирусов. Конечно, в науке не место чувствам, но то, что мы на 8 % (или даже больше) представляем собой окаменелый вирус, – это интересно, потому что жутко. Мы с рождения испытываем отвращение к болезни и грязи и воспринимаем попадающих в организм микробов как то, чего нужно избегать и от чего нужно избавляться, но никак не целостные части самих себя. Однако вирусы и вирусоподобные частицы всегда имели дело с ДНК животных. Ученый, который открыл гены человеческого борнавируса, сказал, отдельно акцентировав форму единственного числа: «Все наше представление о себе как о виде несколько ошибочно».
И все становится только хуже. По причине своей повсеместности, микробы всех видов – не только вирусы, но и бактерии, и простейшие – не могут не управлять эволюцией животных. Очевидно, микробы формируют популяцию, убивая отдельных существ через болезни, но это только часть их могущества. Вирусы, бактерии и простейшие по случаю передают животным новые гены, способные изменить всю работу нашего тела. Также они могут манипулировать и нашим внутренним миром. Один микроб-Макиавелли не только покорил огромное число животных, оставшись незаметным, но и похитил животную ДНК – и, возможно, использует эту ДНК для того, чтобы промывать нам мозги в своих корыстных целях.
Иногда для того, чтобы стать мудрым, нужно набить немало шишек. «Вы можете представить себе сотню кошек – сказал однажды Джек Райт, – а вот больше не можете. Двести ли, пятьсот ли – все это будет для вас выглядеть одинаково». И это не просто догадка. Джек знал это точно: ведь он и его жена Донна становились обладателями рекорда из Книги Гиннесса – 689 домашних кошек!
Все началось с Полуночи. В 1970 году Джек Райт, маляр из Онтарио, влюбился в официантку Донну Белуа, и они стали жить втроем – третьей была черная длинношерстная кошка Донны по кличке Полночь. Однажды вечером Полночь согрешила во дворе и забеременела, а у Райтов не хватило духу избавиться от ее потомства. Увеличение количества кошек на самом деле оживило их дом, и вскоре после этого они уже принимали подкидышей из местного приюта, чтобы спасти их от усыпления. Их дом стал известен в округе как «Кошачий перекресток», и люди начали подбрасывать им новых котят – двоих оттуда, пятерых отсюда… Когда журнал «Нэшнл Инквайр» в 1980-х годах объявил конкурс на самое большое количество кошек в доме, Райты со своими 145 котами оказались победителями. Вскоре они появились на шоу Фила Донахью, и после этого «пожертвования» приняли по-настоящему угрожающий размах. Один доброжелатель привязал своих котят к столику для пикников во дворе дома Райтов и уехал, другой доставил кота с курьером на самолете – а платить за это пришлось Райтам. Однако они не выгнали и не вернули ни одной кошки, даже когда общий выводок перевалил за седьмую сотню.
Столь же быстро росли и расходы: Райты, как сообщалось, тратили на кошек по 111 тысяч долларов в год, покупая в том числе и индивидуально упакованные для каждой кошки подарки на Рождество. Донна к тому времени перестала ходить на работу и начала вести дела мужа. Ежедневно она вставала в 5:30 утра и проводила следующие пятнадцать часов, стирая кошачьи подстилки, меняя наполнитель в туалетах, запихивая кошкам в пасть пилюли и добавляя лед в поилки (вода становилась слишком теплой после того, как ее лакали сотни кошачьих язычков). Однако главным ее занятием дни напролет было кормление, кормление и еще раз кормление. Райты ежедневно открывали 180 банок кошачьих консервов, а для более привередливых особ хранили свинину, ветчину и филе, для чего им пришлось купить три дополнительных морозильника. В итоге им пришлось купить в кредит еще один дом и обить его стены линолеумом – чтобы поддерживать чистоту.
Со временем Джек и Донна все-таки решились на то, чтобы чуть сократить число своих питомцев: к концу 1990-х годов их осталось «всего» 359. Но вскоре население «Кошачьего перекрестка» снова выросло до прежних масштабов, потому что хозяева уже были просто не в состоянии дальше уменьшать количество питомцев. Фактически, если читать между строк, становится ясным, что у Райтов просто развилась зависимость от присутствия кошек вокруг. Зависимость, любопытная тем, что один и тот же объект вызывал и чрезвычайное наслаждение, и острое беспокойство. Они, несомненно, любили своих кошек. Джек оберегал свою кошачью «семью», печатая статьи в их поддержку, дал всем кошкам личные имена[39] – даже тем, которые безвылазно сидели в кладовке. В то же время Донна не могла скрыть, что это порабощение кошками является для нее настоящей пыткой. «Я расскажу вам, каково это – принимать пищу в таком доме – однажды жаловалась миссис Райт. – Всякий раз, когда я ем крылышки из KFC, мне приходится ходить по дому с тарелкой под самым подбородком. Частично для того, чтобы держать еду подальше от кошек, частично – чтобы на липкие от соуса кусочки курицы не попала шерсть». Более того, однажды Донна призналась: «Иногда я чувствую себя немножко подавленной. Порой даже говорю: “Джек, дай мне пару баксов”, а потом ухожу выпить бокал-другой пива. Я могу сидеть в баре пару часов, и это прекрасно. Так спокойно: ни одной кошки вокруг». Несмотря на эти моменты откровения и на все ухудшающееся материальное положение[40], Донна и Джек не могли принять самое очевидное решение: выгнать всех кошек из дома.
Следует отдать должное Райтам: Донна всегда поддерживала чистоту, так что «Кошачий перекресток» выглядит очень даже сносным жилищем, особенно если сравнивать с просто первобытной грязью, покрывающей дома некоторых других помешанных любителей кошек. Инспекторы службы защиты животных нередко находили в худших таких домах разлагающиеся кошачьи трупы, даже внутри стен, где кошки, похоже, проделывали ходы, чтобы покинуть дом. Стены и полы в таких домах разрушаются, разъедаемые кошачьей мочой. Что наиболее поразительно, многие не в меру заядлые кошатники отрицают факт, что с их жилищем не все в порядке, – классический признак наркотической зависимости.
Химические и генетические предпосылки наркомании стали известны лишь недавно, но уже растет объем доказательств в пользу того, что кошатники так дорожат стадами своих животных, по крайней мере частично, потому, что они подсажены на паразита Toxoplasma gondii. Токсоплазма – это одноклеточное простейшее, родственник микроскопических водорослей и амеб; у нее восемь тысяч генов. Зародившись как исключительно кошачий патоген, она усовершенствовала свои умения и теперь может заражать обезьян, летучих мышей, китов, слонов, трубкозубов, муравьедов, ленивцев, броненосцев, сумчатых, а также кур.
В организмы диких нетопырей, трубкозубов и прочих животных токсоплазма попадает через зараженную добычу или кал. Домашние животные получают этот патоген также через зараженный помет, но опосредованно – заражение проходит через удобрения. Люди тоже могут абсорбировать токсоплазму через пищу, а владельцы кошек – через кожу, в тот момент, когда они меняют кошачий туалет. Токсоплазмой заражен примерно каждый третий человек в мире. Когда она попадает в организм млекопитающего, то обычно плывет до самого мозга, где формирует крохотные кисты, особенно в области миндалевидного тела – участка, отвечающего за возникновение эмоций, в том числе удовольствия и тревоги. Ученым до сих пор неизвестно почему, но кисты в миндалевидном теле могут вызывать замедление реакции, провоцировать ревность или агрессивное поведение. Токсоплазма также может изменять человеческое обоняние. Некоторые кошатники (наиболее уязвимые к токсоплазме) становятся невосприимчивыми к едкому запаху кошачьей мочи: они просто перестают ощущать этот запах. Некоторые из них даже не могут жить без этого аромата – хоть и, как правило, стыдятся в этом признаться.
С грызунами – пищей всех кошек – токсоплазма делает еще более странные вещи. Грызуны, сотни поколений которых выросли в лабораториях и которые никогда в жизни не видели хищника, все равно будут трястись от страха и удирать в первую попавшуюся щель, если почувствуют запах кошачьей мочи: это инстинктивный, глубоко внедренный страх. Крысы, зараженные токсоплазмой, демонстрируют совершенно противоположную реакцию. Они продолжают бояться запахов других хищников, а при их отсутствии спокойно спят, совокупляются, бегают по лабиринтам, грызут сыр – словом, ведут обычную жизнь. Но кошачью мочу они – особенно самцы – просто обожают. Фактически даже больше чем обожают. Чуть только повеет кошачьей мочой, их миндальное тело начинает пульсировать так же, как при встрече течной самки, и их тестикулы тоже набухают. Этот запах притягивает их, как настоящий наркотик.
Токсоплазма играет с сексуальным желанием мыши, чтобы обогатить собственную половую жизнь. Живя в мозгу грызуна, она может разделяться надвое и клонировать себя, так же как размножается большинство микробов. Таким же образом она размножается в организмах ленивцев, людей и прошлых видов. В отличие от большинства микробов, токсоплазма может заниматься сексом (не спрашивайте как) и способна к половому размножению – но только внутри кошачьего кишечника. Да, этот фетиш очень специфический, но что есть, то есть. Как и большинство живых организмов, токсоплазма жаждет секса, поэтому, независимо от того, как часто она передавала свои гены путем клонирования, она всегда будет строить хитрые планы, как бы снова оказаться внутри этих эротичных кошачьих кишок. А возможность для этого дает моча. Привлекая мышей к кошачьей урине, токсоплазма может заманить их в лапы кошкам. Кошки, конечно, с удовольствием подыгрывают этим замыслам, нападают – и лакомая мышка заканчивает свои дни точно там, где токсоплазма всегда хотела оказаться – в кошачьем пищеварительном тракте. Ученые предполагают, что токсоплазма научилась использовать свою притягательность и с другими потенциальными кошачьими обедами, причем с той же целью: чтобы кошачьи всех размеров, от домашней кошки до тигра, смогли ее проглотить.
Возможно, это звучит как сказка Киплинга[41] – интересно, даже логично, но не хватает реальных доказательств. Кроме одного факта. Ученые открыли, что два из восьми тысяч генов токсоплазмы помогают синтезировать химическое вещество дофамин. И если вы что-то смыслите в химии мозга, то, возможно, прямо сейчас подпрыгнули на стуле. Кокаин, экстази и прочие наркотики также повышают уровень дофамина в организме, вызывая искусственную эйфорию. Токсоплазма тоже имеет ген этого сильного, вызывающего привыкание вещества, причем в двух экземплярах, и всякий раз, когда зараженный мозг чувствует запах кошачьей мочи (нет разницы, сознательно или несознательно), она начинает выкачивать дофамин. В итоге она становится способной влиять на поведение млекопитающих, и дофаминовая ловушка может считаться правдоподобной биологической основой желания иметь дома как можно больше кошек[42].
Токсоплазма не единственный паразит, способный манипулировать животными. Микроскопический червь, очень похожий на токсоплазму, предпочитает жить в птичьих кишках, но часть извергается наружу – в помете. Изгнанный из птичьего организма червь попадает внутрь муравья, делает его вишнево-красным, надувает, как Виолетту Бюрегард[43], и тем самым заставляет птицу принять его за вкусную ягоду. Муравьи-древоточцы часто становятся жертвами гриба-дождевика, который превращает их в безвольных зомби. Сначала споры гриба проникают муравьям в мозг, затем заставляют их прятаться во влажных местах – к примеру, на обратной стороне листьев. После прибытия туда зомбированные муравьи кусают лист, и их челюсти намертво там застревают. Гриб превращает внутренности муравья в питательную, богатую сахарами слизь, прорастает через мозг захваченного насекомого и распространяет споры, чтобы заразить новых муравьев. Еще можно вспомнить так называемого жучка-Ирода – бактерию под названием вольбахия, которая заражает ос, комаров, моль, мух и жуков. Вольбахия может размножаться только внутри яиц, из которых разовьются насекомые-самки, поэтому, как библейский Ирод, она уничтожает личинок-мальчиков в крупных масштабах, распространяя токсины генетического происхождения. Впрочем, некоторым насекомым везет: вольбахия в отдельных случаях оказывается гуманнее и ограничивается работой с генами, которые определяют пол, – превращает мальчиков в девочек; в данном случае более походящее название для этого микроба – жучок Тиресия[44]. Кроме этих неприятных тварей, можно отметить лабораторно улучшенную версию вируса, который может превращать полигамных полевок – грызунов, которые в обычной жизни придерживаются принципа «поматросил и бросил», – в абсолютно преданных мужей-домоседов. Этого можно добиться простым внедрением нескольких повторяющихся ДНК-статтеров в ген, отвечающий за химию мозга. Воздействие этого вируса, возможно, делает полевок умнее. Вместо того чтобы не глядя совокупляться со всеми встречными самками, самцы начинают ассоциировать секс с одной конкретной особью, то есть имеет место «ассоциативное обучение», которое ранее было недоступно этим грызунам.
Случаи с полевками и токсоплазмой показывают, что в некомфортабельных условиях преимущество имеют виды (вроде человека), которые отличаются самостоятельностью и сообразительностью. Одно дело найти неработающие остатки вирусных генов в своей ДНК и совсем другое – признать, что микробы способны манипулировать нашими чувствами и влиять на внутренний мир. Однако токсоплазма на это способна. В процессе долгой коэволюции с млекопитающими, токсоплазма каким-то образом смогла похитить ген производства дофамина, который очень пригодился для того, чтобы влиять на поведение животных – как на получение удовольствия от нахождения среди кошек, так и на полное подавление страха перед ними. Существуют отдельные свидетельства того, что токсоплазма может управлять и прочими сигналами страха в нашем мозге, не имеющими отношения к кошкам, и также конвертировать эти импульсы в экстатическое удовольствие. Некоторые врачи скорой помощи сообщают, что у разбившихся в авариях мотоциклистов часто наблюдается необычно большое количество токсоплазматических кист в мозгу. Лихачи, летящие по автострадам и срезающие повороты под как можно более острыми углами – это люди, которые получают удовольствие от того, что рискуют жизнью. Примерно то же самое происходит с мозгом, пронизанным токсоплазмой.
Сложно спорить со специалистами по изучению токсоплазмы, которые, хоть и восторгаются тем, что токсоплазма раскрывает тайны биологии чувств и связи между страхом, привлекательностью и наркотической зависимостью, также беспокоятся, осознавая, какие выводы можно сделать из их трудов. Исследующий токсоплазму нейробиолог из Стэнфордского университета утверждает: «В каком-то смысле это страшновато. Мы рассматриваем страх как нечто первичное, естественное. Но есть способ, который может не просто устранить это чувство, но и превратить его в нечто ценное, привлекательное. И этой привлекательностью можно манипулировать, заставляя нас почувствовать симпатию даже к злейшему врагу». Вот почему токсоплазма заслуживает титула «макиавеллевский микроб». Он не только может нами манипулировать, но и заставляет поверить в то, что зло – это благо.
На склоне лет Фрэнсис Пейтон Роус вел счастливую, пусть и не безоблачную жизнь. Во время Первой мировой войны он помогал создавать одни из первых банков крови, разработав метод хранения красных кровяных телец вместе с желатином и сахаром – своеобразные кровяные конфеты. Его ранние работы, посвященные курам, поспособствовали изучению другой заразной опухоли неясного происхождения – гигантской папилломы, которая когда-то была настоящим бичом домашних кроликов в США. Будучи редактором научного журнала, Роус даже имел честь опубликовать первую работу, в которой однозначно связывались гены и ДНК.
Тем не менее, несмотря на публикацию этой и других работ, Роус все сильнее подозревал, что генетики слишком спешат в своих выводах, и отказывался соединять точки там, где другие специалисты делали это с нетерпением. Например, перед публикацией работы, связывающей гены и ДНК, он настоял на том, чтобы из нее вычеркнули предположение о том, что ДНК так же важна для клетки, как и аминокислоты. Более того, Роус пришел к отказу от самой идеи, что вирусы вызывают рак путем внедрения генетического материала, а также идеи, что мутации ДНК в принципе способны привести к раку. Он считал, что вирусы способствуют появлению рака по другим причинам (возможно, выделяя токсины), и неизвестно почему упорно не хотел признавать, что микробы могут повлиять на генетику животных в той же степени, в какой это подразумевалось в его трудах.
Вместе с тем Роус никогда не сомневался, что вирусы каким-то образом вызывают появление опухолей, и по мере того как его коллеги распутывали все новые и новые подробности его работы о курином раке, они все больше ценили ясность его ранних работ. Однако в определенных кругах отношение к Роусу оставалось весьма сдержанным, и ему приходилось мириться с тем, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине отдают его младшим коллегам – в частности, в 1963 году награду получил его собственный зять. Но в 1966 году Нобелевский комитет наконец отметил заслуги Фрэнсиса Пейтона Роуса, вручив ему премию. Промежуток между выходом важнейших работ Роуса и получением престижнейшей награды составил 55 лет и стал одним из наиболее продолжительных в истории. Но эта победа, без сомнения, стала одной из самых долгожданных для ее обладателя, пусть у него и было всего четыре года, чтобы насладиться триумфом (Роус умер в 1970 году). И после его смерти стало неважно, верил или нет сам Роус в свои идеи; молодые микробиологи, желая изучить, как микробы перепрограммируют жизнь, провозгласили Роуса чуть ли не идолом, и современные учебники приводят его работу как классический случай идеи, отвергнутой в свое время, но затем реабилитированной с помощью ДНК.
История «Кошачьего перекрестка» также завершилась весьма сложным образом. По мере того как счета росли, кредиторы практически оккупировали дом Райтов. Их спасали лишь дотации от любителей кошек. Примерно в то же время газетчики начали копаться в прошлом Джека Райта и сообщили, что он, не будучи обычным любителем животных, когда-то был признан виновным в убийстве стриптизерши (ее тело обнаружили на крыше). Даже после того как об этой истории забыли, стычки между Джеком и Донной продолжались ежедневно. Один из посетителей их дома говорил, что у них не было «ни одного отпуска, они не покупали новой одежды, новой мебели, даже новых занавесок». Если они поднимались среди ночи для того, чтобы пойти в ванную, десятки кошек сразу же активно стремились занять теплое местечко на кровати, расползались по всей кровати, как одна большая амеба, не оставляя хозяевам свободного места под одеялом. Донна как-то признавалась: «Иногда я думала, что схожу с ума. Мы никуда не могли деться… Летом я почти каждый день плакала». Больше не в силах терпеть эти ежедневные маленькие унижения, Донна в конце концов съехала. Но она все же возвращалась, так как была не в состоянии покинуть своих кошек. Каждый день на рассвете она приезжала в «Кошачий перекресток», чтобы помочь Джеку справиться со всей работой[45].
Несмотря на высокую вероятность распространения токсоплазмы в доме Райтов и заражения хозяев, никому не известно, только ли токсоплазма вывернула жизнь Джека и Донны наизнанку. Но даже если они были заражены – и даже если неврологи смогут доказать, что токсоплазма серьезно манипулировала их поступками, – трудно осуждать людей, которые так заботились о животных. Возможно, в отдаленной (совсем отдаленной) перспективе поведение кошатников может сделать много хорошего для нашей эволюции, если принимать во внимание труды Линн Маргулис о смешивании наших ДНК. Взаимодействия с токсоплазмой и другими микроорганизмами, бесспорно и, возможно, существенно повлияло на наше развитие на нескольких стадиях. Ретровирусы оккупировали наш геном волнообразно. Некоторые специалисты доказывают, что эти волны не случайно выходили на пик на конкретных этапах эволюции: непосредственно перед расцветом млекопитающих и перед тем, как появились приматы-гоминиды. Этот вывод согласуется с другой недавней теорией, согласно которой микробы могут объяснить стародавнее, еще дарвиновское, недоумение по поводу происхождения новых видов. Одной из традиционных демаркационных линий между видами является половое размножение: если две популяции не могут скрещиваться между собой и производить на свет жизнеспособных детенышей, они относятся к разным видам. Репродуктивные барьеры, как правило, механические (животные физически не могут совокупляться друг с другом) или биохимические (не появляются жизнеспособные эмбрионы). Однако в одном опыте с вольбахией (жучок Ирода-Тиресия) ученые взяли две популяции зараженных ос, которые не могли производить здоровых личинок в дикой природе, и дали им антибиотики. Лекарство убило вольбахию – и неожиданно позволило осам успешно скрещиваться. Таким образом, их разлучала одна лишь вольбахия.
Руководствуясь этим принципом, некоторые специалисты предположили, что если распространение ВИЧ когда-нибудь станет настоящей пандемией и уничтожит большую часть населения Земли, то небольшое количество людей, невосприимчивых к ВИЧ (они на самом деле существуют), может эволюционировать в другой человеческий вид. И это снова приведет к возникновению сексуальных барьеров. Такие люди не смогут совокупляться с людьми, не имеющими иммунитета к ВИЧ (большинством из нас), не заражая своих партнеров смертельной болезнью. Дети, получившиеся от таких союзов, также имеют большие шансы умереть от ВИЧ. И если подобные сексуальные и репродуктивные барьеры возникнут, то это медленно, но неизбежно приведет к разделению двух популяций. Более того, ВИЧ, являясь ретровирусом, однажды может вставить свою ДНК в организмы этих новых людей тем же способом, присоединяясь к геному, как и прочие вирусы. И гены ВИЧ могут быть навсегда размножены в организмах наших потомков, которые и подозревать не будут о том, что этот вирус когда-то натворил.
Конечно, можно сказать, что микробы проникают в нашу ДНК, пусть такая формулировка и справедлива только для нашего вида, но не для микробов. Некоторые ученые отмечают, что по концентрации генетического материала вирус значительно превосходит своего хозяина – подобно тому как хокку превосходит прозу по концентрации смыслов. Отдельные специалисты также приписывают вирусам создание ДНК из РНК миллионы лет назад, и они доказывают, что вирусы до сих пор внедряют в нее новые гены. Действительно, ученые, открывшие существование борнавирусной ДНК в человеческом организме, думают, что не борнавирус насильно внедрил свою ДНК нашим предкам-приматам, а наши хромосомы сами стащили эту ДНК. Где бы ни начинала расплываться наша мобильная ДНК, она часто захватывала обрывки других ДНК и тащила их за собой. Борнавирус размножается только в клеточном ядре, где и размещается наша ДНК, и велика вероятность того, что мобильная ДНК давным-давно напала на борнавирус, похитила его ДНК и поместила ее туда, где она оказалась полезной. Согласно этому выводу, можно обвинить токсоплазму в краже гена дофамина у своих хозяев-млекопитающих – более сложных организмов. И существуют исторические доказательства, что это было на самом деле. Однако токсоплазма тоже проживает преимущественно в ядре клетки, так что нет теоретических доказательств, что это не мы похитили у нее этот ген.
Сложно определить, что менее лестно для нас: то, что микробы перехитрили нашу оборону и совершенно случайным образом внедрили чудные генетические инструменты, которые помогли млекопитающим обзавестись важными преимуществами в процессе эволюции; или же то, что млекопитающим пришлось обидеть маленьких микробов и украсть у них гены. И в некоторых случаях это на самом деле были преимущества, целые скачки, которые помогли нам стать людьми. Возможно, именно вирусы сформировали млекопитающим плаценту – среду между матерью и детенышем, которая помогает нам рожать живых детей и способствует правильному их развитию. Более того, в дополнение к производству дофамина токсоплазма может увеличивать или приглушать активность сотен генов в наших нейронах, влияя на работу мозга. Борнавирус также живет и работает между наших ушей, и некоторые ученые доказывают, что это может быть важным источником внесения разнообразия в ДНК, которая формирует наш мозг и управляет им. Это разнообразие – отличное сырье для эволюции, и, передавая микробы вроде борнавируса от человека к человеку (возможно, и половым путем), мы можем увеличить чьи-нибудь шансы получить полезную ДНК. В самом деле, большинство микробов, ответственных за подобные изменения, вероятно, передаются именно половым путем. А это значит, что если микроорганизмы столь важны для эволюции, как предполагают многие специалисты, то заболевания, передающиеся половым путем, могут послужить причиной человеческой гениальности. На самом деле унаследованной от обезьяны.
Вирусолог Луис Вильярреал писал (и его мысли справедливы и по отношению к прочим микробам): «Наша неспособность всерьез воспринимать вирусы, особенно потухшие, ограничивает нам понимание всей роли, которую вирусы играют в нашей жизни. Только сейчас, в эпоху геномики, мы можем ясно увидеть следы вирусов в геномах всех живых существ». Так что, возможно, мы в конце концов поймем, что люди, заводящие все новых и новых кошек, не сумасшедшие (по крайней мере не совсем сумасшедшие). Они – это часть увлекательной и до сих пор продолжающейся истории о том, что происходит, если смешивать ДНК животных и микроорганизмов.
Глава 8. Любовь и атавизмы
Какие гены делают млекопитающих млекопитающими?
Среди многих тысяч младенцев, каждый год рождающихся в Токио и его окрестностях, большинство не привлекают особого внимания. В декабре 2005 года, после сорока недель и пяти дней беременности, женщина по имени Маюми спокойно родила девочку Эмико (имена членов семьи изменены по этическим соображениям). Маюми было 28 лет, во время беременности и работа ее крови, и показания УЗИ были совершенно нормальными. Сами роды и их последствия тоже были обычными – конечно, насколько «обычным» и «стандартным» событием можно считать рождение первого ребенка в семье. Маюми и ее муж Хидео, работавший на бензоколонке, конечно, испытывали совершенно нормальный для таких случаев трепет, когда акушерка очистила ротик маленькой Эмико от слизи и добилась от нее первого крика. Медсестры взяли у Эмико кровь для стандартного анализа, и, опять-таки, все оказалось нормальным. Затем у Эмико пережали и обрезали пуповину – дорожку жизни, соединявшую младенца с материнской плацентой, и вскоре пуповина отсохла, а оставшийся маленький кусочек почернел и естественным способом отвалился, оставив на животике пупок. Через несколько дней Хидео и Маюми с Эмико на руках покинули госпиталь в Чибе, пригороде Токио. Все шло так, как следует.
Через 36 дней после родов у Маюми началось маточное кровотечение. Подобные кровотечения в послеродовой период случаются у многих женщин, но еще через три дня к этому добавилась сильная лихорадка. Чтобы нормально ухаживать за новорожденной Эмико, пара не стала сразу обращаться в больницу, и Маюми пару дней потерпела дома. Но в течение последующей недели кровотечения стали неконтролируемыми, и семья вернулась в больницу. Врачи решили, что что-то не так с кровью, так как она не хотела свертываться. Они решили дождаться результатов анализов крови Маюми.
Новости были плохи. Положительный результат дал тест на беспощадный рак крови – ОЛЛ (острый лимфобластный лейкоз). В то время как большинство раковых заболеваний обусловлены нарушениями ДНК – клетка удаляет или ошибается в копировании А, Ц, Г или Т и потом восстает против организма – рак Маюми имел более сложное происхождение. Ее ДНК претерпела транслокацию под названием «филадельфийская хромосома» (по городу, в котором она была открыта в 1960 году). Транслокация имеет место в случаях, когда непарные хромосомы по ошибке вступают в кроссинговер и обмениваются участками ДНК. И в отличие от мутационных «опечаток», которые могут произойти с любыми видами, эта ошибка, как правило, поражает высших животных со специфическими генетическими особенностями.
Участки ДНК, отвечающие за изготовление белка – гены – у высших животных занимают очень маленькую часть всей цепочки ДНК, не больше одного процента. Дрозофилисты Моргана предположили, что гены чуть ли не натыкаются друг на друга в хромосомах, будучи нанизанными на них столь же плотно, как натыканы на карте Алеутские острова у берегов Аляски. В действительности же гены – это драгоценные редкие острова Микронезии, разбросанные в пространствах хромосомного Тихого океана.
Итак, чем же занимаются все эти дополнительные участки ДНК? Ученые долго предполагали, что ничем, и пренебрежительно называли их «мусорной ДНК». Неблагозвучное название преследует эти участки до сих пор. Так называемая мусорная ДНК на самом деле содержит тысячи важных участков, которые включают, выключают гены и регулируют их иным образом – «мусор» управляет генами. К примеру, пенисы шимпанзе и других приматов покрыты короткими, размером с ноготь, бугорками (так называемыми шипами). У людей же нет таких «колючек», потому что за последние пару миллионов лет мы потеряли 60 тысяч символов регуляторной «мусорной ДНК» – ДНК, которая могла бы побудить отдельные гены (которые у нас до сих пор есть) создавать шипы. Кроме пощады влагалищам, эта потеря притупляет мужские ощущения во время секса и таким образом продлевает половой акт: это, как подозревают специалисты, способствует тому, что люди образуют пары и остаются моногамными. Другая мусорная ДНК борется с раком, то есть сохраняет нашу жизнь в каждый конкретный момент.
Ученые, к своему удивлению, нашли мусорную, или, как сейчас говорят, «некодирующую», ДНК – внутри самих генов. Клетки кодируют ДНК в РНК добуквенно точно, не пропуская ни одного символа. Но с полной РНК-рукописью в руке клетки прищуриваются, слюнявят красный карандаш и начинают редактировать – столь же беспощадно, как Гордон Лиш резал произведения Раймонда Карвера[46]. Это редактирование состоит в основном из вырезания ненужной РНК и сшивания остальных кусочков вместе, чтобы произвести матричную РНК как таковую. По непонятной причине исключаемые части называют «интронами», а оставляемые – «экзонами». Оставим это на совести ученых… К примеру, сырая РНК со всеми экзонами (прописные буквы) и интронами (строчные) может читаться как: абвгДеежзИйКлмнОпрСТуфхцчшщъыЬэюя. Отредактируем, оставив лишь экзоны, и прочтем: ДИКОСТЬ.
В организмах низших животных вроде насекомых, червей и прочих неприятных тварей содержится лишь пара коротких интронов: если же интроны работают слишком долго или их становится слишком много, клетки запутываются и уже не могут образовывать длинную связную цепочку. Клетки млекопитающих здесь выступают более способными: мы можем просеивать целые страницы ненужных интронов и никогда не потеряем главную нить мысли, которую выражают экзоны. Но эта способность имеет и свои недостатки. Так, РНК-редактирование у млекопитающих – занятие долгое и неблагодарное: человеческий ген в среднем содержит 8 интронов, каждый состоит в среднем из 3500 символов – это в 30 раз длиннее, чем у окружающих их экзонов. Ген для производства самого большого человеческого белка, титина, содержит 178 фрагментов, всего 80 тысяч оснований, тщательно скрепленных вместе. Еще более нелепо растянувшийся ген – дистрофин, Джексонвилл[47] человеческой ДНК – содержит 14 тысяч оснований закодированной ДНК среди 2,2 миллиона оснований ненужных интронов. Лишь одна транскрипция занимает 16 часов. Сплайсинг в итоге производит невероятное количество энергии, и любая ошибка может разрушить важные белки. Одно из генетических расстройств заключается в том, что неправильное сращивание в клетках человеческой кожи стирает все канавки и завитки на кончиках пальцев, оставляя их совершенно гладкими. Ученые назвали этот дефект «болезнью иммиграционных задержек», так как люди с такой мутацией тратят много нервов при переходах границы. Другие нарушения, связанные с расщеплением, более существенны: ошибки в построении дистрофина могут вызвать дистрофию мышц.
Животные мирятся с этой возней и опасностью, так как интроны дают клеткам разнообразие. Определенные клетки могут сейчас или потом пропустить экзон, полностью или частично оставить на месте интрон или же отредактировать РНК другим способом. Таким образом, существование интронов и экзонов дает клеткам свободу для экспериментов. Они могут производить различную РНК в разное время или же настраивать белки для всяческих изменений в организме[48]. Уже по этой причине млекопитающие научились смиряться с существованием огромного количества длинных интронов.
Однако случай с Маюми показал, что толерантность может иметь неприятные последствия. Длинные интроны способствуют тому, что непарные хромосомы запутываются, так как между ними нет экзонов, чтобы беспокоиться по поводу прерывания. «Филадельфийская хромосома» возникает между двумя интронами – один на хромосоме 9, второй на хросомосоме 22 – которые обладают очень большой длиной, что повышает шансы этих отрезков войти в контакт друг с другом. Сначала наши толерантные клетки не рассматривают это соединение как нечто существенное, поскольку оно затрагивает «лишь» интроны, которые скоро будут удалены. Но на самом деле это очень важно. В клетках Маюми соединились два гена, которые никогда не должны были соединяться. Гены, которые в тандеме формируют чудовищный гибридный белок, который не может правильно выполнять работу ни того, ни другого гена. Результатом этого стала лейкемия.
Врачи прописали Маюми химиотерапию, но рак обнаружился на поздней стадии, и ей по-прежнему было очень плохо. По мере того как Маюми становилось хуже, врачи начали думать: «А что будет с Эмико?» ОЛЛ – раковое заболевание, которое распространяется быстро, но не очень. Маюми практически точно уже была больна, когда носила Эмико. Могла ли девочка «заразиться» раком от матери? Рак у беременных – не такая уж и редкость, один случай заболевания приходится примерно на тысячу беременностей, но ни один из врачей никогда не видел зараженный раком плод. Плацента – орган, соединяющий мать с ребенком – мешает любому из подобных вторжений, поскольку, кроме снабжения ребенка питательными веществами и удаления отходов, этот орган также является частью иммунной системы ребенка, блокируя микробы и чужеродные клетки.
Однако плацента – это не гарантия спасения: врачи не советуют беременным женщинам иметь дело с кошачьим туалетом, потому что токсоплазма может проникнуть в плод через плаценту и разрушить его мозг. После ряда исследований и консультаций со специалистами врачи определили, что в некоторых редких случаях – после первого известного случая в 1860-х годах таковых было зафиксировано всего несколько десятков – мать и плод получали раковое заболевание одновременно. Как именно передаются эти недуги, пока выяснить не удалось, однако поскольку мать, плод и плацента так тесно связаны, механизмы передачи и воздействия болезней будут связаны столь же тесно. Возможно, в подобных случаях плод заражает раком мать. Возможно, они оба подвергаются воздействию неизвестных канцерогенов. Возможно, это всего лишь ужасное совпадение: встречаются два случая сильной генетической предрасположенности к раку. Однако врачи, работавшие в 2006 году в Чибе, имели инструмент, которого были лишены предыдущие поколения: генетическое секвенирование. И по мере того как случай Маюми-Эмико прогрессировал, эти врачи использовали генетическое секвенирование, чтобы на первых порах хотя бы решить вопрос: может ли мать передать раковое заболевание своему ребенку. Более того, эта поистине детективная работа пролила свет на некоторые функции и механизмы ДНК, уникальные для млекопитающих черты, которые послужили плацдармом для изучения генетических особенностей млекопитающих.
Конечно, врачи из Чибы не представляли, что их работа будет иметь столь далеко идущие последствия. Их непосредственными интересами были лечение Маюми и уход за Эмико. Благодаря их поддержке, Эмико чувствовала себя хорошо. Действительно, малышка не понимала, почему ее отобрали от мамы, а проведение химиотерапии заставило отказаться от грудного вскармливания, столь необходимого мамам и детям всех видов млекопитающих. Так что, конечно же, малютка Эмико испытывала лишения. Однако она росла и развивалась в соответствии с возрастом и успешно проходила все медосмотры. Казалось, что с ее здоровьем все было по-прежнему нормально.
Сказанное ниже может здорово напугать молодых мам, но… плод во многом напоминает паразита. После зачатия крошечный эмбрион проникает внутрь своего хозяина (мамы) и укореняется там. Он начинает манипулировать материнскими гормонами, чтобы получать пищу для себя. Он заставляет маму заболевать и маскируется от ее иммунной системы, которая в противном случае может его уничтожить. Словом, делает все, что принято у паразитов. И это мы еще даже не говорили о плаценте.
В мире животных плацента является практически уникальной чертой млекопитающих[49]. Некоторые эксцентричные млекопитающие, отделившиеся от других очень давно (как утконосы), откладывают яйца подобно рыбам, рептилиям, птицам, насекомым, да и практически всем прочим живым существам. Но из примерно 2150 видов млекопитающих 2000 имеют плаценту, включая самых распространенных и успешных зверей вроде грызунов, летучих мышей и человека. Плацентарные млекопитающие вначале были совсем неприметными существами, а затем распространились и в небесах, и в море, и во всех остальных нишах от тропиков до полюсов – и это стало возможным в том числе и потому, что плацента дала им (дала нам!) – существенную поддержку в выживании.
Пожалуй, основное преимущество состоит в том, что плацента позволяет матерям носить своих живых, растущих детенышей прямо внутри себя. Она не беспокоится о том, тепло ли ребенку внутри утробы, в случае опасности может убежать вместе с ним – преимущества, которых лишены существа, мечущие икру в воду или несущие яйца в гнездах. В жизни плода остается гораздо больше времени, чтобы формировать и развивать столь энергоемкие органы, как мозг: способность плаценты выводить наружу отходы жизнедеятельности плода также помогает развитию мозга, ведь благодаря этому эмбрион не плавает в токсичной среде. Более того, поскольку она вкладывает столько энергии в развитие своего малыша – не говоря уже о том, что она в буквальном смысле связана с ним с помощью плаценты – мама млекопитающего чувствует порыв нянчить и воспитывать своих детей, иногда в течение многих лет (ну или шпынять их – тоже в течение многих лет). Такой период длится чрезвычайно долго по сравнению с другими животными, и детеныши млекопитающих отвечают взаимностью: у них формируется необычно сильная привязанность к матерям. В каком-то смысле за формирование этих чувств отвечает именно плацента, превращающая млекопитающих в заботливых существ.
Эта безоблачная картинка становится несколько жуткой, если вспомнить, что плацента, по всей вероятности, происходит от наших старых знакомых – ретровирусов. С биологической точки зрения эта связь действительно имеет смысл. Закрепляться на клетках – это выдающаяся способность вирусов: они сливают свои «конверты» (наружную оболочку) с клеткой, перед тем как ввести в нее свой генетический материал. Когда шарик эмбриональной клетки попадает в матку и укореняется там, эмбрион тоже частично связывается с клетками матки, используя специальные связующие белки. А ДНК, которую для построения этих белков используют приматы, мыши и другие млекопитающие, состоит из тех же генов, которые приходится использовать ретровирусам, чтобы прикреплять и соединять свои «конверты» с клеткой. Более того, матка плацентарных млекопитающих при своей работе в значительной степени опирается на другие вирусоподобные ДНК, используя специальный прыгающий ген под названием MER20, чтобы переключать 1500 генов в клетках матки. В случае с обоими органами кажется, что мы еще раз собрали удобный генетический материал от паразита и адаптировали его к собственным нуждам. В качестве бонуса, вирусные гены плаценты даже обеспечивают дополнительный иммунитет, так как присутствие ретровирусных белков (даже вытеснение или оттеснение их на второй план) отпугивает других микробов от проникновения в плаценту.
Важной частью иммунной функции плаценты является и то, что она фильтрует любые клетки, которые могут попытаться внедриться в плод, в том числе и раковые клетки. К сожалению, другие черты плаценты, напротив, делают ее привлекательной для рака. Плацента производит гормоны роста, чтобы способствовать энергичному делению клеток плода, и некоторые виды рака также прекрасно развиваются на этих гормонах. Плацента, кроме того, впитывает огромное количество крови и откачивает питательные вещества, которые могли бы пригодиться плоду. Это означает, что разновидности рака крови наподобие лейкемии могут укрыться внутри плаценты и процветать. Раковые заболевания генетически запрограммированы метастазироваться, как меланома, вызывающая рак кожи, и могут вместе с кровью скользить по всему организму; они находят плаценту весьма гостеприимной.
На деле меланома оказалась самой распространенной формой рака, которую мать и плод получают одновременно. Первый зафиксированный случай совместного заболевания раком был описан в 1866 году в Германии: блуждающая меланома случайным образом пустила корни в печени у матери и в коленке у ребенка. И мать, и ребенок умерли в течение девяти дней. Другой ужасный случай произошел с 28-летней жительницей Филадельфии, имя которой осталось зафиксировано врачами лишь как «Р. Мак-К.». Эта история началась с тяжелого солнечного ожога в апреле 1960 года. Вскоре после этого между ее плечами возникла бородавка диаметром примерно один сантиметр. Она кровоточила всякий раз, как женщина до нее дотрагивалась. Врачи удалили бородавку, и никто не вспоминал вплоть до мая 1963 года, когда женщина была уже несколько недель как беременна. Во время осмотра врачи заметили узелок под кожей на животе. К августу стало очевидным, что узелок растет быстрее, чем живот беременной, а по всему телу больной начали появляться другие болезненные узелки. К январю поражения распространились на ее конечности и лицо, и врачи решили проводить кесарево сечение. Мальчик появился на свет здоровым: почти три килограмма весом. Но брюшная полость матери была покрыта десятками опухолей, некоторые из которых были черного цвета. Неудивительно, что роды окончательно забрали оставшиеся силы у матери. Через час после родов ее пульс упал до 36 ударов в минуту, и хотя врачи пытались всячески реанимировать ее, она умерла в течение нескольких недель.
А что же произошло с ребенком Мак-К.? Поначалу была надежда, что все обойдется. Несмотря на широко распространившийся рак, доктора не увидели ни одной опухоли в матке или плаценте матери – местах ее контакта с сыном. И хотя мальчик был слабым, тщательное исследование каждой складочки на его теле в поисках подозрительных родинок результата не принесло. Однако врачи не могли проверить, что происходит внутри организма. Через 11 дней на коже новорожденного начали появляться маленькие темно-синие пятна. После этого состояние мальчика резко ухудшилось. На теле появлялись все новые опухоли, убившие ребенка за семь недель.
У Маюми была лейкемия, а не меланома, но в каком-то смысле в Чибе повторилась филадельфийская драма сорокалетней давности. В больнице состояние Маюми ухудшалось с каждым днем, ее иммунная система была ослаблена после трех недель химиотерапии. В конце концов она подхватила бактериальную инфекцию и слегла с энцефалитом – воспалением головного мозга. У нее начались судороги и конвульсии – результат паники и перебоев в деятельности мозга; сердце и легкие также давали сбои. Несмотря на все мероприятия по реанимации, Маюми умерла через два дня после того, как подхватила инфекцию.
Несчастья на этом не закончились: в октябре 2006 года, через девять месяцев после похорон жены, Хидео пришлось вернуться в госпиталь с Эмико. У когда-то здоровой и крепкой девочки была жидкость в легких и, что более тревожно, кроваво-красная ссадина, уродующая правую щеку и подбородок. На МРТ эта преждевременно развивающаяся щека выглядела неестественно большой – такой же, как крохотный мозг Эмико (надуйте свою щеку настолько туго, пока хватает воздуха, и ее размер все равно не сравнится с тем, что было у маленькой девочки). Врачи из Чибы диагностировали саркому (рак соединительной ткани), предполагая, что она находится внутри щеки. Но в памяти был случай с Маюми, поэтому медики проконсультировались с экспертами в Токио и Англии и решили изучить ДНК опухоли, чтобы посмотреть, что там можно найти.
Там оказалась филадельфийская хромосома. И не только она. Напомним, что этот кроссинговер имеет место между двумя чрезвычайно длинными интронами, 68 000 символов на одной хромосоме и 200 000 на другой (для сравнения: эта глава содержит чуть больше 30 000 символов). Плечи двух хромосом могли пересечься в одной из многих тысяч точек. Но в ДНК опухолей Маюми и Эмико хромосомы пересеклись в одной и той же точке, даже в одном и том же символе. И это не было случайным. Если не считать места размещения, рак Эмико был практически таким же, как и у матери.
Но кто кого заразил? Ученым раньше никогда не приходилось решать эту проблему. Даже случай с Мак-К. был противоречивым, потому что смертельные опухоли появились только после наступления беременности. Врачи подняли анализ крови, взятый у Эмико при рождении, и определили, что рак там присутствовал уже тогда. Дальнейшие генетические тесты показали, что в нормальных (не опухолевых) клетках Эмико не было филадельфийской хромосомы. То есть девочка не унаследовала никаких предрасположенностей к этому раку – он появился в сороканедельный промежуток между зачатием и родами. Более того, нормальные клетки Эмико содержали, как и ожидалось, ДНК и от матери, и от отца. Но в клетках опухоли на ее щеке не было ДНК Хидео: только Маюми. Это бесспорно доказывало, что Маюми передала рак Эмико, а не наоборот.
Ученые могли торжествовать, но это чувство было приглушено. Как часто случается в медицинских исследованиях, самые интересные случаи возникают из самых ужасных страданий. Практически в каждом из предыдущих случаев, когда плод и мать заболевали раком одновременно, смерть обоих наступала быстро, обычно в течение года. Маюми уже умерла, и когда врачи прописали химиотерапию 11-месячной Эмико, они, безусловно, понимали, что шансов ничтожно мало.
Генетики, изучавшие этот случай, корпели над совсем иной проблемой. Распространение рака в этом случае по сути являлось трансплантацией клеток от одного человека к другому. Если бы Эмико трансплантировали орган больной матери или же пересадили материнские ткани на щеку, организм отверг бы их как чужеродные. Тем не менее рак неожиданно пустил корни, не вызвав срабатывания защитных систем плаценты или соответствующей реакции со стороны иммунной системы. Как? Ученые в итоге нашли ответ с помощью участка ДНК, далекого от филадельфийской хромосомы – в области под названием ГКГС.
Еще во времена Линнея биологи занимались увлекательным делом, стараясь перечислить все черты, которые делают млекопитающих млекопитающими. В соответствии с происхождением термина (от лат. mamma — грудь) начать следует с выкармливания детенышей. Грудное молоко не только служит младенцу пищей, но и внедряет в его организм десятки генов, в основном в кишечный тракт, но, возможно, и в такие места, как мозг. Мы ни в коем случае не хотим пугать будущих матерей, но, похоже, искусственное молоко, даже с таким же составом углеводов, жиров, белков, витаминов и прочих веществ, просто не может улучшить ДНК младенца подобным образом.
Другие важные черты млекопитающих – это волосы («прически» есть даже у китов и дельфинов), уникальное строение внутреннего уха и челюстей, а также наша странная привычка пережевывать пищу (к примеру, рептилии так не делают). Но на микроскопическом уровне единственное место, где можно проследить происхождение млекопитающих, это ГГКС, главный комплекс гистосовместимости. ГГКС есть практически у всех позвоночных – это набор генов, помогающих иммунной системе. Однако этот комплекс особенно важен именно для млекопитающих. Это один из наиболее богатых генами участков ДНК: около ста генов, упакованных на небольшом пространстве. И так же, как в случае с механизмами редактуры интронов и экзонов, мы обладаем более сложным ГГКС[50], чем другие живые существа. Некоторые из этой сотни генов имеют более тысячи самых разных вариаций в человеческих организмах, обеспечивая практически неограниченное число комбинаций, которые могут наследоваться. ГГКС существенно различается даже у близких родственников, а между случайными людьми различия в этом наборе генов в сотни раз больше, чем между прочими участками ДНК. Ученые иногда говорят, что люди более чем на 99 % генетически идентичны. Однако ГГКС это никак не касается.
У белков ГГКС есть две основные задачи. Во-первых, некоторые из них собирают случайные молекулы изнутри клетки и помещают их на клеточную стенку в качестве своеобразного дисплея. Этот «дисплей» позволяет другим клеткам, в особенности иммунным клеткам-«палачам», получать информацию о том, что происходит внутри клетки. Если «палач» видит, что ГГКС собрал только нормальные молекулы, он не обращает внимания на клетку. Если же он видит нечто аномальное – фрагменты бактерий, раковые белки, другие признаки чего-то противо естественного – то может атаковать. Различие ГГКС млекопитающих в этом случае приходится весьма кстати, потому что за различными белками ГГКС закреплены обязанности предупреждать об опасностях. Соответственно, чем разнообразнее эти белки, тем с большим количеством опасностей организм может бороться. А самое главное – то, что, в отличие от других признаков, ГГКС-гены не мешают друг другу. Мендель первым определил доминантные признаки, случаи, когда одни версии генов «побеждают» остальные. В случае с ГГКС все гены работают независимо друг от друга, и ни один ген не скрывает другой. Они кооперируются; они кодоминируют.