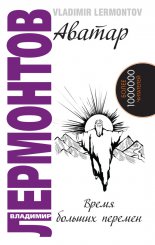Разрыв повседневности: диалог длиною в 300 чашек кофе и 3 блока сигарет Сергеев Андрей
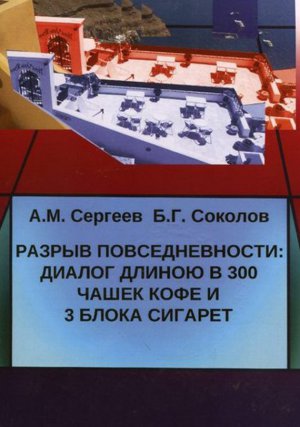
Печатается по решению Ученого Совета Мурманског государственного гуманитарного университета
Научные рецензенты: д.ф.н., проф. А.И. Виноградов, д.ф.н., проф. В.П.Щербаков
© Сергеев А.М. 2015
©Соколов Б.Г. 2015
© «Алетейя» 2015
Время мысли (вместо предисловия)
Много, много времени утекло с того дня, как изрек Фалес:
Больше всего – пространство, ибо оно вмещает все.
Быстрее всего – мысль, ибо она бежит без остановки.
Мудрее всего – время, ибо оно обнаруживает все[1].
А потому и можно дополнить (upgrade) известное изречение античного мыслителя:
Больше всего – мысль, ибо она вмещает вмещающее все пространство.
Мудрее всего – мысль, ибо она обнаруживает и время.
Загадочнее всего – время мысли, ибо оно настает там и тогда, когда никто не знает…
Время мысли – это то, что вырастает изнутри и разрывает плотные редуты социального и повседневного…И время у мысли другое…
Время мысли – другое время, ибо другая мера времени… Я мерю время мысли выкуренной сигаретой, Андрей – чашкой кофе. Именно они отмеряют размер и концентрацию мысли… Время мысли должно быть изолировано от обыденного времени, выброшено-проброшено за пределы обычного времени, того времени, в которое погружена повседневность. А потому и название нашей общей книги именно таким образом обрисовывает топос и хронос мысли – это топос разрыва повседневности и хронос, отмеряемый выпитой чашкой кофе или выкуренной сигаретой… А потому и время выпитых 300 чашек кофе – это то время, за которое была написана часть общего диалога Андреем Сергеевым. Соответственно, именно три блока сигарет выкурил «Ваш покорный слуга», когда думал о написанном Андреем и писал свой текст.
Ни в коем случае это не реклама «нездорового» образа жизни. Ведь речь идет не о жизни, развертываемой по канонам повседневности, но о том довольно редком и довольно болезненном моменте рождения мысли. Поток повседневности должен пройти процедуру «», остановки, нигиляции. Мысль – а не та мыслительная жвачка, которой мы предаемся постоянно и повседневно, – уединенна, она сторонится путей пустых и прагматических разговоров… Она возникает в разрыве повседневности.
А потому и время у нее другое… Но все же тесно с «обыденным» временем связанное. Ибо мера повседневного времени также вырастает изнутри, а не определяется тем метрическим пространственным временем, с которым «беспечно нянчится» современность… И хотя время мерить трудно, ибо оно мерит все, эта мера – нечто исходно наше, как и то время, которое мерится этим исходно нашим, но до этого нашего, до сокровенности нашего, еще нужно дойти…
…
…Длину можно мерить и сантиметрами, и парсеками, и локтями, и футами. Можно, как персонаж советского мультика, измерять длину в попугаях, слонах или змеях. Мера расстояния, впрочем, как времени – «вещь» условная и конвенциональная.
Можно – и переходами, когда расстояние от одного города до другого определяется через то время, которое было затрачено на путь. Именно так еще недавно измеряли расстояния наши предки. И эта мера, мера, которой мы, несмотря на то что современность властно навязывает нам метрическую меру, мерим поток нашей жизни. Мы в нашей повседневной жизни довольно говорим, что мы живем в часе пути от работы, или когда собираемся путешествовать, не всегда задумываемся о том, сколько километров нам придется преодолеть на самолете или поезде, а довольствуемся тем, что до Мурманска часа полтора лета, а до Бангкока лететь без перекура аж одиннадцать часов. Пространство, которое мы обживаем, а не фиксируем через систему метрических координат на карте, расставляя по дороге верстовые или километровые отметки, мы мерим временем. Можно сказать, что нет пространства, но есть время, которое выстраивает пространство. И в этом смысле, та форма, которая, согласно И. Канту, «контролирует» наше временение, а именно – априорная форма внутреннего чувства, является исходной точкой нашего экзистирования. И в пространстве, и во времени…
Но само время, которым мы мерим и обживаем пространство, имеет свою меру, которая в современности выстраивается опять же в горизонте метрической системы. Конечно, спору нет, «метрическая», сконструированная не так давно и паразитирующая на «неметрической» секунде система, в точности равна тому временному интервалу, который на XIII Генеральной конференции по мерам и весам (1967) был определен как временной, равный 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. Может, конечно, кого-нибудь и восхитит или повергнет в трепет непредставимое для нормального сознания число периодов излучения цезия-133 (9192631770), но меня – не очень. Честно скажу, на «глазок» я не отличу 9192631770 периодов излучения цезия-133 от 9192631771 периодов излучения того же цезия-133. Наверное, это с легкостью может делать естественнонаучный ум, вооруженный современными гаджетами, но обычный человек, с трудом способный помножить двухзначные числа, такое сделать не может. Но дело даже не в том десятизначном числе, которое трудно себе наглядно и жизненно представить. Меня удивляет, скорее, другое: как быстро забывается исток, как просто оказывается перекодировать самое существенное в формат цифры. Ведь исток секунды другой – это не «научная считалка», а биение нашего сердца в нашей груди. Одна секунда – это удар сердца, это тот ритм, который стучит в нашей груди и отмеряет время проживаемой нами жизни. И как это быстро забылось! Теперь секунда – это 9192631771 периодов излучения цезия-133, и – баста…
Однако – и постоянно – мы проживаем время, не сильно оглядываясь на цифровую привязку. Мы не говорим: это было 670 000 секунд назад, но – это было еще до праздников, в позапрошлом году, в год рождения дочери или – как услышал в одном фильме – прошло уже 2 войны…И сколько бы ни убеждали нас, что Земля вращается вокруг Солнца, но для нас – и не думаю, что когда-нибудь это изменится, – Солнце встает над горизонтом и проходит свой круговой маршрут над «плоской тарелкой» Земли…И это происходит не только потому, что удобнее, что привыкли, что так все говорят, но, скорее, потому, что все, что связано со временем, мы проживаем внутри нас. Мы проживаем этот мир и проживаем его внутреннее, пусть в «результате» мы и получаем внешний мир. Мир конституируется «изнутри», ибо «изнутри» мы экзистируем. И иного нам не дано…
И из этого «изнутри», в котором «живет» наше, не метрическое, а соизмеряющееся с нашим дыханием и биением нашего сердца ритмом, вырастает другое временное измерение…
И, как ни «потешно» это, «увидеть» это внутреннее время, то время, в котором мы живем и в котором мы строим свой мир, – можно лишь тогда, когда мы говорим «Стоп» этому времени и, соответственно, этому миру. Лишь тогда, когда мы разрываем и останавливаем поток повседневного существования, может в предельной концентрации, отсекающей все лишнее, родиться мысль…
* * *
Несколько слов о нашей с Андреем Сергеевым книге: как она рождалась и почему выбрана такая форма «записи»…
Наша книга диалогична, конечно, в той мере, в какой может быть диалогичен текст. Книга задумывалась и «оформлялась» как диалог, диалог двух друзей, разделенных в повседневности теми километрами, которые отделяют Мурманск от Санкт-Петербурга. К счастью, современные технологии не только «кластеризуют» сознание, но они все же облегчают коммуникацию и дают новые возможности выстраивания текста, чем, собственно говоря, мы и воспользовались. В те не очень долгие встречи, когда было принято решение писать текст, мы обговорили возможный «маршрут» диалога и то, как мы будем использовать современные возможности. И об этом позвольте сказать несколько слов.
Исходный текст – это текст Андрея Сергеева. Именно он записан обычным шрифтом. То, что «взрывает» монологичность, в принципе, любого авторского текста и что написано курсвом, – это мои, Соколова Бориса, «вторжения» в «запись» мысли Андрея. А потому – мой текст, текст курсивом – вторичен, он «паразитирует» на ткани изначального текста. Выделенные в книге жирным курсивом слова, абзацы, иногда даже обрывки слов – это зоны «совместности», то пространство текста Андрея, где либо происходило вторжение в его мысль, либо те ментальные топосы, в которых начинался диалог. Конечно, отчасти наш общий текст – это два разных текста, два разных символических, биографических пласта, которые стоят за этими двумя разными авторами. Но это не два монолога, ибо я подхватывал, развивал, иногда дружески не соглашался с текстом Андрея Сергеева. В свою очередь, когда я по электронной почте отсылал то, что удавалось сделать, Андрею, он вносил определенные коррективы в свой текст: текст расширялся, дополнялся и исправлялся. В результате – очень надеюсь, что это так – получился более прихотливый по форме, смыслу и символической концентрации единый текст – текст нашей совместности и общего вопрошания о тех как вполне актуальных, так и немного «архаических» вопросах, которые волновали нас. Не знаю, насколько мы продвинулись в решении или обсуждении того, о чем писали, – судить не мне и не моему другу, Андрею Сергееву. Но то, что мы «гарантируем», – это наш диалог, это наша мысль… И этого, я думаю, не так уж мало для любой книги, для любого текста…
Борис Соколов
Сознание
Сознание всегда отлично от того, что сознается. Живя и действуя, мы связываемся с массой вещей, однако сознание оказывается до и после этих «вещей»: оно доводит нас до «вещей» и позволяет нам покидать их, чтобы иметь возможность перейти к иному. В этом отношении сознание можно понимать чистым действием; действием как таковым.
Есть и еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство. Собранность человека в жизни и жизнью отличается от его собранности в сознании, и сознанием. К жизни мы приспосабливаемся и прилаживаемся: сама жизнь, видимо, несет в себе характер приспособления; приспособления к чему бы то ни было; ко всему. С сознанием же нам приходится считаться: если нам доводится с ним сталкиваться, то мы его принимаем; принимаем его как силу, которая ведет себя всегда определенным образом и выражает себя определенным способом, т. е. только так и не иначе. В сознании есть некая строгость, которую мы готовы принять. Сознание – это уже готовая форма, и эта его «готовность» поражает. Она свела с ума не одного человека, когда он начинал размышлять о том, кто же его – сознание – так здорово «приготовил». Если же мы не считаемся с такой готовностью сознания и нас его законченность, неустранимость и всеохватность не устраивают, то сознание исчезает. В этом случае оно исчезает для нас, но перед тем, кто его готов принять, оно
раскрывается
в своем тотальном отсутствии, ибо то, что и как мы проживаем в этом мире, говорит о том, что как раз с сознанием как таковым мы не встречаемся, встречаемся с делом, заботой, вещами, наконец, с теми, у кого, как и у нас, сознание раскрывается в его отсутствии. Но его раскрытие в его отсутствии отнюдь не означает то, что в своем отсутствии оно не присутствует. Сознание всегда присутствует. При-сут-ствует. Здесь необходима ремарка. Термин присутствие – перевод хайдеггеровского Dasein, предложенный Бибихиным, который мне симпатичен, прежде всего, потому, что в этом слове звучит не формальное нахождение рядом, а именно – проникающее внутрь, в суть происходящего или случающегося: «при-сут(ь) – ствие». Присутствие, прочитанное как проникновение в суть, причем проникающе-изменяющее саму суть и, одновременно, дарующее нам эту самую суть. Понятое таким образом присутствие (а не как формальное «нахождение в…», на что нас ориентирует обыденное употребление данного слова) говорит о том, что оно имеет дело с сутью вещей, событий, людей и т. п. А теперь вопрос: Но что донесет до нас эту самую суть, как не сознание? Что, как не наше сознание, вообще схватит и осмыслит то, что перед нами предстоит как мир вещей, людей, событий?
Но почему, наконец, мы употребляем термин «сознание»? Не душа, не разум, не мысль? Может быть, это происходит потому, что мы разучились думать о «душе», заменив «архаичный» титул более нейтральным и секуляризованным «сознанием»? Скорее всего, речь идет не столько о простом замещении одного слова другим, сколько о значительной корректировке нашего взгляда, нашей мысли, нашей, наконец, жизни. В самом деле, когда мы говорим о душе, то невольно включаем в наш разговор Бога, потустороннее, вечное, трансцендентное. Иначе обстоит дело, когда мы употребляем термин «сознание»: мы сразу же «присягаем» на верность современной модели объективности и научности…
И так, наверное, нам проще и, во всяком случае, нейтральнее. К тому же, вполне научно и современно. И, что самое грустное, вполне привычно. Но с чем мы в этом случае имеем дело, вполне научно и нейтрально вопрошая о том, что «обитает» в нашей голове? Думается, что чаще всего мы как раз встречаемся с отсутствием сознания, по крайней мере, если дело сознания – порождать мысль. Это значит, что с ним – с сознанием, порождающим мысль, – довольно редка бывает наша
встреча
с сознанием способна испугать, как и любая встреча человека с совершенно новым. Тут главное не то, чтобы не испугаться, а то, что надо попытаться продумать свой страх, т. е.
войти
скорее, погрузиться в сознание, в которое, в свою очередь, погружена мысль, которая – и тоже в свою очередь – погружена в то, о чем она, эта мысль, и в то, кто мыслит. Всегда, когда мы обращаемся, входим в проблему сознания, мы входим в «штопор» бесконечного круговорота отсылок, референций, отношений, различений… Мы не можем остановиться ни на чем однозначном, а потому, предвидя провал и катастрофу уже состоявшихся попыток найти твердую и не сдвигаемую точку опоры, ну хотя бы только надежду на незыблемость, мы отступаем… Или убеждаем себя, что вот оно, вожделенное «все ясно»… чтобы через мгновение почувствовать – и счастье, кто не застрял на придуманной им опоре, но продолжает движение вперед, – что все решенное ускользает и прячется. А потому мы боимся
войти
в него и располагаться в нем на основании своей мысли. Можно, конечно, говорить о некотором профессионализме в способах и формах решения этих вопросов, однако вопросы эти могут встать перед каждым человеком, и значит, каждый должен себя с ними как-то соотнести.
Вообще говоря, без должного человека нет. Другое дело, что каждый из нас в содержательном отношении понимает должное по-разному. Видимо, исток отношения человека к должному связывается им с тем, что он готов принять его как силу, превосходящую самого человека, и потому способную вызвать страх человека перед его новизной, перед отсутствием повторений. Это не отменяет возможности понимания некоторых алгоритмов действия такой силы, но также и не снимает понимания того, что сила эта раскрывается не только в этих алгоритмах, но и может не быть алгоритмизирована вовсе.
Связывая себя с сознанием, мы расстаемся с вещами и действиями, т. е. ослабляем связь с определенными ситуациями жизни, но обретаем – за счет этого – способность охвата ее (жизни) целостности. Будучи в сознании, мы выпадаем из ситуаций жизни; из жизненного пространства и времени, оказываясь в положении «между»: между одной и другой жизненными ситуациями, внутри которых мы пребываем, заметно ослабляя силу сознания или вообще оказываясь вне него. Иначе говоря, мы попадаем в странную и явно не загруженную жизненными реалиями ситуацию – в «паузу недеяния», в «теоретическую паузу», в «промежуточную ситуацию», в
«состояние подвешенности»
и остановка привычного хода нашей жизни – изменение установки нашего сознания. В этом-то и вся проблема. Гуссерль говорит о рефлексивной установке, отличая ее от прямых актов: «… мы должны отличать прямые акты схватывания в восприятии, в воспоминании, высказывании, в оценке, в целеполагании и т. д. от рефлексивных, посредством которых, как схватывающих актов новой ступени, нам только и раскрываются сами прямые акты»[2]. Рефлексия изменяет переживание: «Конечно, в результате этого (рефлексии — Б.С.) на место первоначального переживания становится, по существу, другое, и потому следует сказать, что рефлексия изменяет первоначальное переживание… Она существенно изменяет прежнее наивное переживание; ведь последнее утрачивает первоначальный модус прямого акта»[3].
Что происходит в обычной жизни, не «вполне чуждой сознательности»? Даже если мы примем модус Das Man как тотальную и единственную характеристику несобственности нашего повседневного существования, превознесем до онтологического и единственного принципа наших поступков реализацию действия социальных машин или последствия тотальной дрессуры, то даже в этом случае мы «пользуемся» сознанием, ибо что-то и худо-бедно мыслим. Но подобное мышление наивно в том отношении, что в рамках его мы не занимаем позицию тематизации нашей собственной позиции (т. е. отрефлексированным, ставшим предельно ясным для нас самих образом), наших действий, не смотрим отрефлесированным образом на себя со стороны.
Конечно, все не так просто, как представлялось тому же Гуссерлю, когда он отличал прямой акт от рефлексивного, ибо в нетематизированном виде мы все же некоторым образом наблюдаем за собой, за своими мыслями, за своими поступками и т. п. со стороны: данные психологии и прихотливый анализ фигуры Другого, постоянно смотрящего на нас, что стало предметом довольно тонного анализа в «Бытие и Ничто» Сартра, показывают, что в данном случае речь идет о сильном (а потому, в конечном счете, ложном) упрощении реального обстояния дел. Но даже при том, что взгляд со стороны в некотором роде сопровождает нас всю нашу жизнь, все же, как правило, в тематическом горизонте наше действие, акт, мысль, желание не пребывают. Мы как бы отдаемся стихии этого акта. И вот тебе на: рефлексия. Она вырывает нас из объятия «привычного скольжения» по акту, мысли, действию и ставит в рефлексивную позицию наблюдающего. Мы не просто удерживаем какой-либо «акт» ощущения, мысли, действия, но рассматриваем его со стороны. И в этом отношении рефлексия изменяет первичную наивную отданность стихии данного акта на рефлексивную позицию отстранения от этого акта.
А что происходит тогда, когда мы полагаем уже в самом акте рефлексии само не просто какое-нибудь наше действие, мысль, ощущение, а само сознание? Да не просто сознание, а сознание вместе с той «мешаниной» и иногда хаосом обрывков мыслей, намерений, желаний, сомнений, уверенности и т. п., которые раскрашивают любое «движение» нашего сознания? Во-первых, как всякая рефлексия, подобная установка в отношении сознания его, сознание, изменяет. Во-вторых, не забудем, что сознание (и не случайно сам титул со-знания отражает не только совместность со знанием, но, через эту совместность, отделенность) – это уже «отчасти» рефлексивный акт. В этом рефлексивном отношении к сознанию, которое изменяет, а значит, изначально усложняет наш анализ сознания, которое уже предстает перед нами в «очищенном» и «отстраненном» от реальной жизни сознания виде, добавляется тот, кто смотрит на это сознание, причем – весь «комизм указанной ситуации» – с помощью этого самого неочищенного, нерефлексивного сознания. Структура при самом предельном упрощении следующая: живое сознание переводится в рефлексивный вид живым сознанием, которое, при этом, осознает, что оно имеет дело с измененной посредством рефлексии формой этого сознания. И к тому же – все это осуществляет довольно сомнительный, с точки зрения «научной» (особенно естественно-научной) вменяемости, субъект познания, индивид в обоих своих ипостасях: как реальный живой индивид и как трансцендентальный субъект. Начало – скажем прямо – удручающее в своей сложности и прихотливости: никакой надежды на картезианскую ясность нет, и прояснить то, что происходит, когда «работает сознание», т. е. когда мы мыслим, когда мы ощущаем,
когда переживаем
приобщение к сознанию и фактически сталкиваемся с усилением себя благодаря собранности себя в сознании.
Речь идет о сознательном действии (процедуре), благодаря которому начинаем видеть не факты жизни, а факты сознания, позволяющем блокировать генетические и детерминистические линии связи явлений с жизнью и дающем возможность рассматривать их как таковые, т. е. онтологически.
Приобщаясь к фактам сознания, человек склонен переживать душевный подъем, так как полагает, что ему – вместе с сознанием – всё «по плечу». Следует, правда, оговориться. Выявить начальный факт сознания своей жизни трудно по причине того, что если человек и осознает нечто в качестве факта сознания, то уже оказывается присутствующим в сознании в целом, т. е. уже как-то в нем «расположенным» и в него «вместившимся». Однако человек может наделить один из значимых для него фактов изначальными полномочиями, хотя понятно, что это только мифологическое построение, в рамках которого реален не факт жизни, а
факт сознания
– это уже установка, рефлексивная позиция. «Я», здесь и сейчас, обращаюсь лишь к тому, что полагаю как несомненное. Но то несомненное, которое признается этой самой рефлексивной позицией. Круговой маршрут: рефлексивная установка «порождает» факт сознания, который, в свою очередь, только в этой рефлексивной установке и может иметь место. Исток этой рефлексивной асаны предельно прозрачен: Декарт и, более современная версия, Гуссерль. Иными словами, это наши новоевропейские правила игры. «Расплата» за эту рефлексивную установку также довольно прозрачна: изоляция (помещение в скобки) реальности и бесконечная, изматывающая авантюра поиска и удостоверения этой изначально репрессированной реальности.
Но что мы имеем в «позитиве»? – Факт. Факт сознания. Но этот факт – всего лишь факт представления нашего сознания, которое всегда сингулярно, а потому всегда сомнительно-одиноко для самой новоевропейской научной установки. Как, впрочем, и то, что мы именуем фактом – увы, запущенная машина сомнения не щадит и факт, и уж тем более факт сознания. Ведь для современного естественно-научного дискурса апелляция к факту сознания – сомнительная процедура верификации. Можно апеллировать к факту, который – но об этом мало кто думает – всегда является лишь фактом нашего сознания. Он становится фактом не потому, что верифицирует, противолежит сознанию, упорствуя в своем бытийствовании в противовес «эфемерности» и «неуловимости» процессов сознания, не вопреки ему, но как раз ему, сознанию
благодаря
раздвижению границ происходящего, оказываясь изъятыми из жизненных ситуаций самим попаданием в сознание, мы устанавливаем место и время своей мысли, так же как место и время себя в качестве мыслящих. Это – место и время сознания, потенциально обладающие всей его силой, из которой человек – в случае его «равенства» сознанию – может исходить в понимании своей жизни, отстраняясь от ее случаев и обстоятельств. «Помещаясь» в сознание и «размещаясь» в нем, мы оказываемся всецело предоставленными себе и можем теперь реагировать на самих себя и отзываться на своё.
Все это важно потому, что сама жизнь во всей целостности без нас быть собранной не способна. К тому же, если человек не живет своим — не важно, по причине боязни или не понимая этого, – он занят чужим и непременно будет искать с ним встречи и им в большей степени заниматься. Чужое будет выступать как свое, ведь себя он не знает.
Такая теоретическая пауза, обретаемая в жизни путем нашего попадания в сознание, может длиться столько, насколько у нас хватает сил, ибо наше продвижение в сознании не предопределяется жизнью, а полностью зависит от нас. Не трудно также понять, что попадание в сознание сугубо индивидуально и сообщать другим о содержании такой паузы
трудно
а может быть, и невозможно – в режиме несомненности и адекватности – сообщить не только о своей паузе, но и о том, что ты чувствуешь, наконец, о том, что говоришь, и быть уверенным во взаимности, в том, что адресат послания тебя понял так, как понял это послание ты сам. То, что он понял, – не проблема, ибо понимают все, а непонимание – лишь «вид» понимания. Проблема – в той адекватной взаимности, которая обеспечивает совместность попадания в смысл, в значение. И здесь развертывается мистика. Иначе и не скажешь: мистика понимания. Ибо если строго и однозначно подходить к процедуре понимания другим сказанного тобой, то его, понимания, быть вообще не должно. Нет, конечно: если бы мы, говоря, мысля, чувствуя, использовали бы ту модель, которая называется денотацией, вопросов вообще бы не было. Денотат: когда означающее четко и однозначно связано с означающим. Все было бы как у Лейбница с его идеальным языком: просто подсчитали бы. Но мы погружены в коннотативный по своему смыслу символизм, когда любое сказанное, помысленное, прочувствованное всегда сдвигается через культурные, личностные, национальные, биографические и т. п. коннотативные ссылки от жесткости означивания к отражению «бесконечной» контекстуальности. А потому как я, 50-летний профессор, совок по «формату» моего сознания, с определенной биографией, предпочтениями, со своей «цветовой дифференциацией штанов» (вспомним советский кинофильм «Кин-дза-дза»), могу понять чуждый мне символизм, который неизбежно выстраивается через коннотативность смысла, не только культурно и языково далекого мне вьетнамца, но и – проблема отцов и детей – своей внучки, с малых лет держащей I-Phone, не игравшей в зарницу, вскормленной, по большей части, искусственным молоком? Понимание, которое происходит, происходит вопреки. Оно не должно состояться, но случается, когда мой мир уже не только сингулярный – читай факт моего сознания, – но общий мир, т. е. не просто мой, но
наш
собственный случай попадания в сознание может мало что сказать другим. Каждый из нас сам и по-своему «разбирается» с сознанием. Здесь каждый исходит из своего, а оно у нас разное. Синхронизировать и соизмерить индивидуальные попытки взаимодействия с сознанием практически невозможно: если это и случается, то только тогда, когда мы вне сознания; когда выходим из него, т. е. внешним образом.
И еще. Благодаря паузе (промежутку) человек приобщается к голосу сознания – к совести. Совесть – это и есть внутренний голос сознания, говорящий тебе о себе. Пауза позволяет прислушаться к себе и отсечь все то, что к тебе не имеет отношения. Пауза позволяет попасть в себя путем смещения от фактов жизни в сторону сознания, т. е. увидеть факты жизни в их осмысленности. Важно научиться отвлекаться не от конкретных фактов жизни в угоду другим фактам, а практиковать в себе способность отвлечения от фактов жизни вообще и сосредоточения – посредством этого – в сознании.
Человек может замечать места и эпохи, покинутые сознанием. Однажды попав в сознание, он способен остро переживать дисбаланс между ним и жизнью; дисбаланс содержания сознательной жизни и жизни, оставленной сознанием. Смириться и примириться с тем, что наша жизнь покинута сознанием, трудно. Нас задевает положение, когда жизнь предоставлена сама себе, и сознания в ней не встречаешь. Правда, и с сознанием «накладно»: уж больно высоки его требования, и приспосабливаться к нему трудно. Но, оказываясь совсем без сознания, человек испытывает
cтрах
возникает, когда есть, собственно, некий «объект» страха; когда есть в той или иной мере осознание того, что боишься. Страх, в этом отношении, вполне объектен, объективен. В двадцатом веке, можно сказать, действует уже традиционное деление – от Фрейда до Хайдеггера – внутренней неуверенности и опасения на страх, ужас, испуг. Страх – когда знаешь и имеешь возможность подготовиться; испуг – когда угрожающее возникает внезапно. Особняком – и в этом смысле речь идет о глубинном, сущностном экзистенциале – стоит ужас как предчувствие и ожидание неизвестного. Указанная градация не полна, особенно если мы поближе рассмотрим, что, собственно говоря, происходит. Про-ис-ходит: наверное, правильнее в данном случае разделить дефисом. Происходит: проистекает, выливается из, выходит из нутра. Происходит: внутренний импульс, не только «раскрашивающий» факты сознания, но и изменяющий наши оптику и точку зрения. Действительно, одно дело смотреть на что-то с интересом или любоваться им, другое – этого опасаться. Изменяется не только сам конституируемый объект (собирается в совершенно ином стиле, темпе, внимании и т. п.), но и тот, кто этот объект лицезреет, собирает воедино, конституирует.
Посмотрим повнимательнее – но, конечно, не очень, ибо тогда мы и будем остаток текста разбирать довольно прихотливую динамику и структуру происходящего, – что случается, когда мы боимся (страх), испугались или когда мы охвачены ужасом.
В свою очередь, то, что маркируется как Испуг – это уже зона травмы для психики. Неизвестность вторгается внезапно и не дает возможность организовать «линии обороны». Заикание или невроз – как последствия испуга. Тот шок, который поражает изнутри и проникает в самое сокровенное, либо кардинально переформатирует беззащитные, по причине неподготовленности, внутренние структуры сознания, либо окажется постоянным источником борьбы за восстановление работы этих структур в прежнем режиме, что, согласно Фрейду, результируется в приобретенных неврозах.
Гораздо интереснее ужас. Ужасаются тогда, когда неизвестно, чего бояться, когда возникает парализующая волю тревога от предчувствия неминуемого. Ужасаются просто, а не чего-то. Причем исток этого ужасающего беспокойства может быть как вовне, так и внутри. Ужас – «вектор», направленный неизвестно куда, и, возможно, неизвестно откуда. Про-истекает и все. Совершенно, потому, прав М. Хайдеггер, «записывающий» ужас в исходные экзистенциалы, т. е. то, что лежит «до» любого результата «сборки» феномена. Но, в отличие, скажем, от заботы, ужас не результируется, он не способен конституировать никакое сущее, никакой феномен, а лишь добавляет феномену определенный «колорит». Однако корректнее говорить не о конституировании феномена в определенной «тональности», а о самой тональности мiра, в которую наш мiр погружает ужас. Феномен – «после» мiра, он уже заражен тональностью ожидания и предчувствия приближающегося нечто неизвестного, но неизбежно вредоносного. Мiр и я сплавлены воедино этим ожиданием. Когда же происходит тематизация ужаса, тогда он уступает место страху, который «имеет» объект своего опасения. Ужас – как стихия, которая лишь «настраивает», а потому, наверное, правильнее было бы говорить о нем как о подлинном «настроении». Подобно любому «настроению», ужас не имеет своего объекта: когда мы просто радуемся, тогда мир становится светлее или доброжелательнее; когда же ужасаемся, тогда окружающее окрашивается в мрачные тона предчувствия неизбежно трагичного и предрешенного. А потому, когда, например, говорят, что люди живут в состоянии страха, то делают это несколько «некорректно». Ситуацию, наверное, правильнее было бы обрисовать следующим образом. Состояние ужаса настраивает процедуры сборки реальности в тревожные, апокалептические и безнадежные тона. Ужас нас охватывает, он пронизывает нас и овладевает. Все случается так, как происходит, когда нами овладевают наваждение, ревность, ярость; когда одержимым овладевают/вселяются бесы, изгнать которых возможно лишь тогда, когда вмешается другая, также овладевающая нами сакральная инстанция. Ужас – не онтологичен, он – онтичен. Ужас безобъектен, у него нет того, «перед чем» он, он просто есть и овладевает. И именно потому, что он безобъектен, с ним ничего нельзя поделать: доводы рассудка и разума бессильны перед ним. В ужасе как раз и раскрываются наша беспомощность, бессилие. «Он отшатнулся в ужасе» – но в том-то и дело, что отшатнуться, убежать невозможно, ибо раз нет объекта, то и бежать некуда, ибо раз нет «ментального топоса» ужаса, то он повсюду и, главное, внутри. Вернее: повсюду. Это «повсюду» предстает как то, что «до» «внутри», «вовне», как то, что, не имея объект, растворяет в себе и любые субъектные структуры. Именно потому ужас раскрывает Ничто. Но не то Ничто, которое служит резервуаром и опорой Индивидуальности и Свободы (ибо в этом случае мы искали бы ужаса, опирались бы на него как на самоутверждение нас), а то Ничто, которое тотально нигилирует нас самих, отдавая нашу самость в бесчувственные и бесчеловечные объятья Судьбы и Рока. Ужас – это трагедия, а катарсис, который захватывает сопереживающего героям трагедии, дарует то очищение, которое приводит не к утверждению самости, но к растворению в стихиях, нас превосходящих и нас же поглощающих.
Еще прихотливее, чем ужас, страх. Здесь развертывается – в отношении сознания, конечно, – интрига вполне в духе Сартровского «Бытия и Ничто». Посмотрим на ситуацию, когда мы мыслим о сознании: мы боимся «оказаться наедине» с нашим сознанием и, одновременно, боимся «отказаться» от него. Мы боимся, прежде всего, той ответственности, которая сразу же начинает тематизироваться, когда мы вступаем в «зону сознания»: мы начинаем подозревать, что для принятия любого, самого маломальского решения мы должны взвесить все за и против и зафиксировать то, что именно мы принимаем именно данное решение, и записать его внятными буквами на «доску почета или позора» своей истории и биографии. Эта ответственность давит, а потому вполне оправдано стремление избежать ее любой ценой, прежде всего, отказаться от этого сознания, которое заставляет нас взвалить на себя груз ответственности и за себя, и за свои поступки, и за свои решения, и за неминуемые последствия. Тематизировав, «зримо зафиксировав» свое сознание, мы одновременно принимаем на себя ответственность, простирающуюся гораздо дальше нашей зоны возможного воздействия, мы взваливаем на себя ответственность за свой мiр (мiр в Хайдеггеровском смысле).
А теперь простой вопрос: а оно нам нужно? Нужно ли взвалить на себя столь неподъемную ношу ответственности, причем той, которая расширяется даже на наш сон, а не только порабощает наше бодрствование? А потому – избежать ее, избежать сознания, избежать любой ценой, ценой тотального забвения. Погрузиться в дела, заботы, хлопоты, привычные асаны обязанностей и ритуальных действий. И – не мыслить, спрятаться от мысли в «зону das Man», довольствовавшись повторением не нами помысленного и продуманного, не нами освоенного и не нами найденного. Именно поэтому мыслить, т. е. принимать ответственность и за помысленное, и за реальность, за которую мы оказываемся ответственными, бесконечно трудно. Речь, понятно, не идет о том, что у нас в сознании ничего не происходит. Нет, в нем постоянно мелькают какие-то образы, мысли, мы планируем что-то, настраиваемся на что-то, стремимся и т. д. Но это все происходит без обращения к сознанию, в режиме «das Man», в режиме автоматизма и бесконечной «легкости», даруемой несобственностью и несамостоянием.
Но как можно мыслить, даже в том убогом стиле повторения несобственности, не подозревая, что за этим неаутентичным мышлением не стоит подлинная стихия мысли и сознания? Не очень получается, и самообман избегания сознания постоянно рассеивается, уступая место постоянной тревоге прорывающегося и преследующего нас ответственного сознания. А потому, как следствие, а скорее, как верный «попутчик» избегания сознания постоянно тревожащий нас страх, заявляющий в своей, вроде как безобъектной, несхватываемости, что сознание есть, что оно никуда не ушло, что любой автоматизм и любой повтор – все равно задействуют то, что хочется больше всего избегнуть, – сознания и той ответственности, которая стоит за спиной сознания. Это именно страх, ибо объект всегда присутствует даже в своем «якобы-отсутствии», даже тогда, когда «зона сознания» нарочито избегается
и как-то съёживается
С позиции сознания жизнь всегда есть что-то внешнее, тогда как, осознавая жизнь, мы совершаем внутреннюю работу, в параметры жизни не вмещающуюся или совмещающуюся с жизнью только частично. Для жизни наши – внутренние – «разборки» с сознанием неинтересны; не клеятся они к ситуациям жизни. Тот, кто входит в сознание, в жизни – вне ее осознания – не участвует.
Факты сознания и факты жизни – это вещи разные. Конечно, могут складываться ситуации пересечения фактичности сознания с фактичностью жизни, но, во-первых, такие ситуации не часты, а во-вторых, их некоторое совпадение обнаруживается из другого места – из «третьей», внешней, точки; внешней по отношению к месту сознания и месту жизни. Такой точкой могут пониматься, например, автор и процесс авторского творения, в процессе которого появляется некий текст, соединяющий сознание и жизнь. Для того чтобы констатация фактов жизни совпала с констатацией фактов сознания, необходим зритель или наблюдатель, который присутствует рядом с происходящим и фиксирует такое «совпадение».
Здесь
и теперь: две точки, позволяющие фиксировать сущее, пригвождающее – как булавка в гербарии прикалывает несчастное насекомое – это сущее к определенному вполне «материальному месту». Но и в этом, вполне зримом случае гербария, булавка в большей степени не столько фиксирует «материальную» систему координат – насекомое в рамке за стеклом, – сколько переводит нас в символический мир, полностью перекодируя это сущее вплоть до полного изменения его как сущего. Поясню: насекомое, парализованное и умерщвленное, перемещается в мир научного познания, навеки становясь «живой» иллюстрацией определенной таксономии. Но эта «жизнь», «новая жизнь» засушенного насекомого, не просто надстраивается и паразитирует «поверх» конкретного прежде живого существа, но она возможна лишь тогда, когда оно, это животное, уже мертво. Это – «эйдос» перекодировки, т. е. предельно обнажающий и разоблачающий самого себя: жизнь в одной системе координат означает смерть в другой (реальное существование насекомого не совместимо с его «жизнью» в качестве иллюстрации в энтомологическом собрании).
Здесь и теперь: точки, в которых пересекаются все символические линии, горизонт символического. Из этого-то горизонта, окружающего нас, который окаймляет нашу систему координат, и «восходят» солнца перекодировки, освещающие через «здесь и сейчас» своим символическим светом нашу реальность, называемую мiром. Ту реальность, которая уже есть «до» любого акта конституирования каждого объекта этого мiра. Здесь и сейчас – не точки, а вход в наш символический мир. У каждой культуры – этот вход свой, уникальный, т. е. свои «здесь и теперь», размечающие по уникальному шаблону наше мiроокружье изначально и
необходимо
акцентировать внимание на том, что объекты сознания могут возникать внутри конкретной направленности сознания и существуют благодаря этой направленности. Без энергии сознания такие объекты угасают и перестают существовать: они именно гаснут, а не распадаются. Распад объектов сознания, если это происходит, возникает тогда, когда в направленность сознания вмешивается иная энергия; энергия иного сознания. Направленность задает ток силы, позволяющей объектам сознания существовать. Можно сказать, что объекты сознания держатся благодаря ей.
Если же вернуться к теме разности фактов сознания и фактов жизни, то стоит добавить еще одно соображение. То, что стало фактом сознания – для того, кто начинает осознавать, – фактически не может быть отменено, разве только этот факт сознания может быть как-то скорректирован другим фактом сознания, но, конечно, не фактом жизни. Факты сознания соотносятся друг с другом, но не с фактами жизни, и потому они могут быть рассматриваемы в виде некоей единой среды или в виде некоего континуума, в пределах которых нет и не находится места и времени для фактов жизни. Фактичность сознания и фактичность жизни можно уподобить отдельным друг от друга параллельным логическим и, соответственно, содержательным горизонтам, внутри которых действуют разные закономерности. И то, что значимо для одного континуума, может совершенно ничего не значить для другого.
Сознательные акты
и то, что принято рассматривать как бессознательные, инстинктивные акты, наконец, автоматизм привычек, позволяющий если не думать, то, по крайней мере, не отдавать себе явный отчет в их совершении, т. е. не «возводить» их в ранг рефлексии (которая, напомню, изменяет непосредственное), – разделение, конечно, довольно условное. В сознании – если его, конечно, рассматривать шире, чем просто рациональную мыслительную деятельность, – много «намешано», смешано и сплавлено. Как и любой феномен нашей человеческой, а потому культурной, реальности, все символично, т. е. представляет собой конденсат (причем вечно изменяющийся и подвижный) бесконечных отсылок, с одной стороны, выбрасывающих нас в иные контекстуальные поля, с другой – эти самые контекстуальные поля связывающих в едином символическом образовании. Конечно, когда мы начинаем рефлексировать, то можем разделить и изолировать в нашей мысли и сознательное, и бессознательное, автоматизм и рефлексивное схватывание, но все эти операции как изолированные в сознании – довольно условны и абстрактны и упрощают реальное обстояние дел. Не говоря уже о том, что рефлексия всегда изменяет первично данное, а потому рациональные операции имеют дело не с реальностью чего-либо, а с преобразованной, вторичной реальностью мысли. Любое сущее, которое конституируется нами, которое проживается нами, которое воздействует на нас, – это сплетение и взаимопроникновение бесконечного числа отсылок. Это же верно и в отношении самого «феномена» сознания, когда мы его изолируем в нашем сознании как объект и подвергаем рефлексии. В любой его акт (а говорить о сознании имеет смысл не как о статичной структуре, а как о динамическом процессе) вплетено слишком многое: в сознание – и бессознательное, и автоматизм, а в жизненные и, кажется, лишенные осознания, действия – вполне рациональный и взвешенный расчет… А потому не столь уж несознательны наши иногда «спонтанные» и неосознаваемые в момент совершения поступки
и реакции
человека сориентированы фактами сознания, но не фактами жизни, так же как и повседневные действия людей обуславливаются именно фактами жизни, а не фактами сознания. Следует понять и принять, что выделенные посредством сознания точки жизни внутри самих жизненных реалий не значимы. Можно сказать, что для жизни они не существенны, т. е. для нее их нет.
Добавим: деятельность сознания может совершенно не совпадать с нашей жизненной потребностью: человек сознательно может ограничивать свои жизненные потребности и, придавая им статус частности, отказываться от них.
Не секрет, что нас съедает работа, т. е. предельная, насколько это возможно, интеграция в среду практических действий. Все существенное мы связываем преимущественно и только с работой, а то, что с ней не связано, включая и размышления о чистом действии или о недеянии, связанном с попаданием в среду теоретической паузы, стремимся последовательно в себе вытравить. В результате все, что не связано с работой и к ней не имеет отношения, приучаемся считать «комплексами» и «фобиями». Следовательно, многое в нас, в первую очередь – своё, не будучи востребованным, деградирует или просто исчезает. С «подмораживанием» своих чувств, вялостью своей мысли и зябкостью своей жизни сталкивается эпизодически или постоянно каждый из нас. Пытаясь взнуздать себя и распрямиться, к каким только средствам мы не прибегаем, но и это не спасает и не греет.
Чувственность человека, разумеется, никуда не девается: ее проявления в виде «вспышек» страстей и экстатических состояний случаются практически с каждым человеком. Однако, будучи загнанной во внутренний мир человека и не находя для себя публично принимаемого выхода, связанного с рациональным к ней отношением, чувственность находит свое разрешение в квазиформах: например, в экстрасенсорике или порнографии.
Сознание же позволяет нам взаимодействовать с чистыми – теоретическими – формами и понимать благодаря этому свою жизнь. Справедливости ради заметим, что, к сожалению, большинство людей либо вообще оказываются не способными приходить в сознание, либо, приходя в него, не способны применять теоретическое знание применительно к своей собственной жизни. Но если это случается, то сознание способно наделять жизненные факты именно «сознательными» характеристиками и качествами. Из жизни теперь уже берется то, что способно войти в состав события.
Так, если человек стремится разобраться в своем чувстве или в чувстве другого человека, а тем более, увидеть во вспыхнувшем чувстве событие, ему не остается ничего другого, нежели сделать его фактом сознания и перестать относиться к нему как к факту жизни. Люди нередко поддаются порыву чувств и тонут в их наплыве: они привыкают жить и ценить «буйство глаз и половодье чувств», считая, что это им «по душе», хотя к душе это отношения не имеет. Важно именно «переварить» чувство, чтобы оно стало своим: впадение человека в чувствительность воспринимается в рамках определяющего рационального отношения как нечто неуместное. В не «переваренном» и не «переработанном» виде любое чувство в нас не помещается и в нас быть размещено не может: оно нами изрыгается, а это – не только не эстетично, но и не физиологично. Стоит обратить внимание, что в спешке человек уже, вроде бы как, и не может обходиться без таких не «переваренных» и потому разлагающихся в нашем существе чувств.
Если мы
остановимся…замрем… если скажем «стоп» потоку жизненной суеты (фактам жизни) и обратимся к мысли (фактам сознания), изолировав в меру философской «испорченности» реальность, то какое эпохэ (Гуссерль) мы получаем в результате? – Чистоту потока сознания, где любое переживание как акт сознания – неизбежно, но от этой неизбежности не менее нелепый скандал. Прежде всего, скандал потому, что в результате изолирования в нашем сознании актов, переживаемых нем, мы получаем переживание, лишенное жизненности, по сравнению с реальным переживанием, а значит – и не переживание вовсе. А то, что переживается, или интенциональный объект, распадается на два «потока»: «что переживается» и «как оно переживается» (ноэзис и ноэма), что также довольно далеко от реально переживаемого акта сознания, в меньшей степени «озабоченного» на «что переживается» и «как оно переживается».
Скандал еще и в следующем: переживание как чистый акт сознания изначально не чисто, ибо заключает в себе ссылки на «нечистый» и чуждый объект сознания. Конечно, это не тот реальный объект, который еще предстоит конституировать, «собрать», но все же нечто иное, нечто чуждое сознанию как таковому, но включенное в сердцевину чистоты самоданности сознания, основная характеристика которого – интенциональность как направленность на… Изолировав внешний мир, мы его же и помещаем внутрь созданной «конструкции» как основной «персонаж» происходящего, причем лишенный, как и само сознание и его переживания, той жизненности, которая остается по причине своей сомнительности (Декарт) вне игры.
То, что замирает, останавливается – это реальный мир, а потому и должно замереть и остановиться само сознание, лишенное своей опоры, своей «пищи». Эпохэ мира – это остановка мира, а потому и остановка реального сознания. Это смерть, ибо «подлинно» замирает и останавливает поток реальности лишь тот, кто уже умер…но он уже не есть. Он перешел в иное, «параллельное». «Мертвые сраму не имают», они выпадают из подвижных и постоянно суетящихся в динамике, развитии, стремлении рядов сущего, подвижного сущего. Они, умершие, – совершенны, ибо уже все совершено и сделано, и интерпретационные потуги вписать их в подвижный горизонт – «Ах, вот он какой на самом деле был…» – их, умерших, в их совершенстве никак не затрагивают.
И дело даже не в том «теоретическом» изъяне, который мы акцентировали в феноменологии, но в том, что этот изъян отражает ту опасность, которая отчасти объясняет «безмыслие» нашего повседневного существования: сознание опасно для жизни в своей потенциальной инфицированности смертью. А потому и вполне понятно желание думая, мысля, стараться все же не думать, не подвергать пусть и не ставшие рефлексивно тематизированными подвижные порядки реальности той смертельной остановке, которая «поджидает» эту реальность со стороны сознания. И это ощущение смерти – избегается вполне экзистенциально и
реально
переживаем некую страсть, это – объективный факт нашей жизни, однако в границах своего ожидания и размерности переживания ее последствий эта страсть предстает фактом нашего сознания. И мы не можем без этого обходиться. Осознание чувства, так же как жизни и смерти вообще, конечно, субъективно, однако это – факты сознания; факты его объективности. Заметим, в частности, что и в интимных отношениях на смену чувственному влечению приходят рационально выстраиваемые сексуальные или брачно-семейные отношения, связанные с осознанием страсти и возникновением фактов осознания человеком своей чувственности.
Сфокусируем внимание на том, что секс, будучи механизмом воспроизводства человека, не только служит деторождению, но и может пониматься в качестве занятия, приносящего человеку удовольствие. Здесь важно подчеркнуть то, что секс обладает избыточным характером, по сравнению с иными механизмами природного размножения.
В поиске друг друга люди вовлекаются в процесс «любовных игр», где могут воспринимать себя уже в качестве одного – единого – тела, в которое они «помещаются», переживая порывы экстатического напряжения. К тому же воспоминания о пережитом продлевают и буквально длят случившееся единение.
Особо следует оговориться, что сексуальные воспоминания являются одними из самых сильных воспоминаний. Они в состоянии вобрать в себя всего человека во всей его целостности. Характерно, что такими воспоминаниями человек предпочитает не делиться, а если и делится ими с кем-либо, то только отчасти. Другими словами, переживание таких воспоминаний демонстрирует задетость – ими – нашей психики. Человек становится тронутым такими воспоминаниями и даже поражен пережитым им в прошлом экстатическим выходом вне себя, оборачивающимся вхождением его целостности в целостность другого. Он тронут и поражен тем, что смог пережить выход за пределы самого себя.
В эпицентре сексуальных переживаний человек в действительности снимает свою пространственно-временную определенность и утрачивает свои конечные очертания. И потому речь здесь должна идти не только и не столько о физиологии, сколько о мета-физиологии или
о метафизике
пола и любви сказано много… куда ж деться от «основного инстинкта»? Окно в иной мир, в бесконечность, путь к Богу; наконец, все помнят «Евангелие» с его Бог есть любовь… Нет чтобы просто ограничиться констатацией «любовь – это немного неприлично, но очень, очень приятно» или тем, что все это – банальный способ продолжения рода… Так нет, надстраивает мысль «редуты» красивых слов, чтобы оправдать и эстетически навести глянец над вполне прагматичной ситуацией воспроизводства, причем, она, мысль, так «понадстроит», что, вместо того чтобы способствовать мультиплицированию населения Земли, она, скорее, приводит к его уменьшению… И все… все… даже в той приземленной версии о любви и поле, который тиражируется «утилитаризмом» и «прагматизмом» обыденности, есть нечто мистическое, ибо даже в этой версии ответа на вопрос о любви всегда заключен вполне прагматичный вопрос: «А зачем?» Ведь проще и без пола, и без любви… Тем более, что в современности пол – дело наживное и «косметологическое», да и, как говорят, ангелы пола не имеют, и воскреснут все отнюдь не «озадаченные генитальными проблемами»; а любовь – лишь шалость юности, еще не осознавшей свое предназначение в накапливании наличности…
Зачем все это? Зачем продолжать род, если мы не будем отвечать, руководствуясь биологической «точкой зрения», или уберем архаические культурно-религиозные доминанты, с необходимостью различаемые в этом вопросе? Ответственность перед ушедшими и грядущими в ситуации, когда все здесь для «конкретно тебя», заканчивается? Да это все пустое и нерациональное.
Зачем, зачем?..
Вопрос, который каждый задает себе и, в меру своей отданности себе и своей мысли, отвечает. Каждый: можно удовлетвориться любой версией ответа. Можно вообще его, вопрос, вроде, не задавать, но на периферии сознания все же отвечать на него. Можно, наконец, поставить здесь и сейчас вопрос о себе и, одновременно, череде других, с которыми ты внутренне, а не внешне сплавлен…
… череда поколений, взламывающих время и прорисовывающих время вечности рода…связь с прошедшими и уже ушедшими, с грядущими поколениями и со своими, рядом идущими по жизни…
Но при чем здесь сознание? Ибо речь ведь сейчас – магистрально – о нем? Сознание – это то, что не просто надстраивается над физиологией и биологией, сознание – это то, что делает пол полом, а любовь любовью. И дело не просто в том, что мы только благодаря сознанию, собственно говоря, и знаем, с чем имеем дело. Хотя, кажется, именно без него, сознания, все и происходит, ибо нехитрое это дело без оного, сознания, «реализовывать» физиологические позывы. Дело, скорее, в том, что только у человека есть возможность не просто преодолевать физиологию или возводить ее в ранг рефлексивной абстракции, но и делать физиологию сознанием, а сознание – физиологией. Мы мыслим телом, но, одновременно, делаем, создаем пол. И это не просто «технологический искус» или «извращение» современности – вопрос о поле и о возможной его смене. Всегда и везде маскулинность или женственность – результат не физиологии, но культурной и социальной дрессуры. Мужественность воспитывается, так же как и утрачивается.
И именно в нашем сознании происходит изначальная идентификация другого как символического пола и определяется наше к нему отношение. Мы собираем и определяем, мгновенно и почти что «инстинктивно», другого как нашу внутреннюю структуру, как горизонт наших действий и совместности, выстраивая символическое поле нашей мироокружности. Не существует для нас физиологии: она – символически инфицирована, а наша жизнь – всегда символическая жизнь, а не просто биологический процесс, который маркируют как