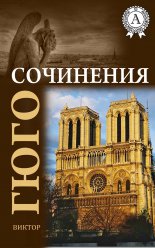Воин Доброй Удачи Бэккер Р. Скотт

– Да! – резко кашлянул Сарл, слышно даже среди поднявшегося шума. Глаза его сузились до щелок от довольной гримасы. – Да!
И в этот момент из глубин Косми донесся вой сотен, тысяч глоток…
Шранки.
Акхеймион резко вскочил на ноги вместе с остальными. Все столпились у южной стены, на которой стоял Клирик, и вперились в лесную опушку в полумиле от крепости.
Но не увидели ничего, кроме удлиняющихся теней и залитых солнцем кустов на опушке. Хор нечеловеческих голосов потонул в какофонии отдельных воплей и криков. Птицы прыснули из-под полога леса.
– Тысячу раз за тысячу лет! – возгласил Клирик.
Он повернулся лицом к Косми, оставшись стоять, как прежде. Акхеймион наблюдал, как его тень, такая же тонкая, как и сам Инкариол, протянулась через все развалины.
– Вы проживаете жизнь, пресмыкаясь, в собственных испражнениях, потея над вашими женами. Проводите жизнь свою в страхе, в молитвах, вымаливая у ваших богов благодать! Вымаливая! – Он говорил теперь гневно, раскачиваясь и подчеркивая слова жестами.
Заходящее солнце окрасило его фигуру алыми штрихами.
Издалека доносились завывание и рев из невидимых глоток – там была вторая конгрегация его проповеди.
– Вы думаете, что в пустяках кроются какие-то тайны, что правда лежит на поверхности, по которой ступаете, под коростой, которую сдираете! Все потому, что вы малы и в незрелости своей кричите: «Откровение! Откровение кроется в незначительном!»
Взгляд черных глаз задержался на Акхеймионе, помедлив миг-другой.
– Это не так.
При этих словах у Акхеймиона все сжалось внутри.
– Откровение катится на хребте истории… – продолжал Клирик, окидывая взглядом нескончаемые мили зарослей, тянущиеся до самого горизонта. – Погоня… Война… Верность… Вот истины, которые правят будущим!
Инкариол взглянул вниз, на собратьев-скальперов, охваченных благоговейным страхом. Даже Акхеймиона, которому приходилось жить среди кунуройцев в виде Сесватхи, охватил страх и мрачные предчувствия. Один Капитан только угрюмо осматривал Космь, не выказывая никакой реакции на его слова.
– Откровение катится на хребте истории, – еще раз вскричал Клирик, склоняя голову перед садящимся солнцем. В его лучах каждое колечко, каждая пластинка на кольчуге сияли так, что нечеловек казался снопом ослепительных искр. – И оно не скрывается…
Инкариол. Было в нем, ишрое и беглеце одновременно, сочетание чудесного и непрочного. Целые эпохи впитались в него и сочились через край, вытесняя его жизнь, его сущность, оставляя в головокружительной глубине только осадок боли.
Солнце, коснувшись далеких пиков, помедлило, не желая заходить, и погрузилось, только когда наблюдатели сморгнули. Оно на секунду закатилось за склон, слепящий металлическим блеском, и скользнуло, как золотая монетка, в высокогорные провалы.
Сумрак окутал все вокруг.
Все взгляды сосредоточились на неровном краю леса, протянувшегося дугой, слух – на затихающем ворчании, что смолкло вдали. И вот из-под сени появились первые шранки, бледные, даже белые в сумерках, как насекомые, почуявшие свежесть ночи… Воздух взорвался от резкого крика, подчеркнутого жалобным и настойчивым стоном рожков.
Натиск начался.
Шранки набросились, как всегда, как и в первый раз, когда их полчища, колыхаясь, проносились по полям Пир-Пахала, когда Древний Мир был еще молод. Они помчались по склону, усеянному поваленными деревьями, просачиваясь меж стволов, скача по их вздыбленным корявым спинам. Ворвались внутрь через ворота из кольев и заполонили древний внутренний двор, по пути нанеся развалинам крепостных стен новые раны зубами и грубым своим оружием. Они все прибывали и прибывали, пока не стали казаться потоком, стремительным и бурлящим, брызжущим бесчисленными стрелами.
Сине-фиолетовое вечернее небо померкло в забвении, уступив место куполу ночи, сияющему звездами. Сверкающий Гвоздь Небес отражался в бешеных глазах, дробился на зазубренном металле. Скальперы сгрудились, выставив те немногие щиты, что остались, и выкрикивая проклятия, а Клирик и колдун стояли во весь рост на неровном гребне стены.
Внизу творился хаос. Однотонное безумие. Люди задыхались от смрада дымящих туш шранков. Они смотрели, сознавая, что наблюдают нечто более древнее, чем языки или народы, колдовство гностика и магию Куйя – поющих невообразимыми голосами Клирика и Акхеймиона, ткущих в широко раскинутых руках раскаленные миражи. Их руки посылали невероятное освобождение. Из ничего появился свет. Множество тел заметалось и, охваченное огнем, сгорело, пока земля не превратилась в ковер потрескивающих углей.
Инкариол сказал правду… Это было мощное зрелище, достойное очищающего огня.
Откровение.
Глава 4
Равнины Истиули
Все веревки оказываются коротки, если их слишком долго тянуть. Всякое будущее заканчивается трагедией.
Сенианская поговорка
И они придали им облик наш, существ низких и гнусных, алкавших только жестокого совокупления. Тварей, которые рассеялись по земле, размножились, невзирая на весь гнев ишроев, охотившихся на них. И вскоре Люди постучались в наши врата, моля об убежище, не в силах сражаться с этими созданиями. «Они приняли облик ваш, – восклицали каявшиеся. – Вы сотворили эту беду». Но мы в гневе прогнали их со словами: «Они не наши Сыны. А вы не наши Братья».
Исуфириас
Весна, Новой Империи Год 20-й (4132 Год Бивня),
Верхняя Истиули
Отряд сционов прокладывал путь по широкой спине Эарвы. Дни проходили один за другим, а продвижения не было заметно. Полученное задание – гнать обнаруженную дичь с юго-восточных равнин по направлению к Армии Среднего Севера – выполнить не удавалось никак. Даже следов дичи не попадалось. Им едва хватало еды, чтобы прокормить себя, не то что армию.
Палящий Ветер дул, не переставая, иссушая кожу, волосы, пальцы, свистя в мертвых ветках кустарника, который топорщился по бесконечной поверхности равнины Истиули. И хотя этот переход имел определенную цель, всем казалось, что их несет ветер, так же как и все обширное пространство вокруг. На этой земле не было ни тропинки, ни направления, а раскинулась она так широко, что Сорвил то и дело ловил себя на том, что сидит в седле, пригнувшись от неясного страха. Он вырос на равнинах, под бескрайним чистым небом, и все же здесь чувствовал свою неприметность и незащищенность. Люди склонны забывать об истинном положении вещей в Мире, полагая, что их ничтожные амбиции способны охватить все вокруг до самого горизонта. В этом дух человеческой расы. Но порой земли, отличающиеся неимоверными подъемами и перепадами, абсолютной пустотой, разбивают это тщеславие в пух и прах, напоминая людям, что они не ровня преградам бескрайнего Мира.
Дозор за дозором Сорвила неотступно мучила эта мысль, то и дело всплывающая в мозгу. Ничто не могло отвлечь настолько, чтобы выкинуть ее из головы, даже Эскелес в худших своих проявлениях. К досаде Сорвила, пухлый адепт настоял на продолжении лингвистических упражнений. Ему было совершенно неважно, кто оказывался в зоне его влияния – чаще других Цоронга и Оботегва. Однажды весь отряд подхватил его напев, выкрикивая числа на шейском на всю округу, а Сорвил взирал на это с отчаянием и отвращением. Эскелес, похоже, находил это представление чрезвычайно потешным, как, собственно, и Цоронга.
Неизвестно, источником чего в большей мере был адепт школы Завета – неловкости или раздражения. Одно его присутствие заставляло Сорвила чувствовать себя школьником, хотя этот человек утверждал, что его приставили в качестве сопровождающего всей их компании, помимо роли наставника ужасающе невежественного Сорвила, короля Сакарпа.
– Святой аспект-император относится к врагам серьезно, – говорил кудесник, бойко подмигивая, – а его враги серьезно относятся к своим детям.
В этих словах было что-то одновременно смешное и тревожное. Эскелес со своей щегольской бородкой, популярной в Трехморье, и тучным телосложением, не говоря уж об отсутствии какого-либо оружия, казался чуть ли не до абсурда незащищенным и мягкотелым, эдакой пивной бочкой. И все-таки у Сорвила не было причин сомневаться в правдивости его слов – что его послали охранять отряд – особенно после того, как он стал свидетелем колдовского разрушения Сакарпа.
Ночью, устремляя глаза к небосводу, усыпанному звездами, Сорвилу почти удавалось убедить себя, что ничего из случившегося не произошло, что приглушенно доносящиеся до него из-за спины голоса принадлежат дяде и отцу, а не выходцам из экзотических стран и королям далеких земель. Это было время Львиной охоты, когда сагландеры засевали поля, а все мужи Дома Варалтов со своими подданными отправлялись в горы на поиски горного льва. Начиная с двенадцатого своего лета, Сорвил выезжал с отцом и дядьями, восхищаясь каждым мигом охоты, несмотря на то, что в силу своего юного возраста вынужден был оставаться в охотничьем лагере вместе с кузенами. И лучше всего было лежать с закрытыми глазами у ночного костра, слушая рассказы отца, чувствуя себя не королем, а равным среди равных.
На охоте он узнал, что отец умел рассказывать по-настоящему смешные истории… и люди искренне любили его за это.
Так он лежал, погрузившись в воспоминания, согретый их теплом. Но даже почти уверовав в них, он чувствовал, что какой-то страх выползает из глубины и всякое притворство улетучивалось, как дым, уступая место неотвратимому пониманию действительности. Цоронга. Аспект-император. И больше всего – ПраМатерь.
Один вопрос занимал его больше прочих, теснившихся в душе. Чего Она хочет? И само слово «Она» страшило больше всего, заполняя беспокойством все внутри. Она. Ятвер. ПраМатерь…
Он провел много бессонных ночей, просто оценивая головокружительную мощь этого явления, занимавшего его мысли. Странно, что, преклоняя колени, даже неистово молясь, люди никогда не размышляют, не стремятся понять, что кроется за древними именами. Ятвер… Что значит этот священный звук? Жрецы Сотни были мрачны и грозны, уподобляясь каждой частичкой строгим Проповедникам Бивня. Они потрясали именами своих Богов наподобие строгих отцов, прибегающих к ремню: послушание – вот все, что они требовали, все, чего ожидали. Остальное вытекало из их сложных толкований путаных писаний. Ятвер всегда представлялась Сорвилу темной и неясной фигурой, некой сущностью, максимально приближенной к первопричине вещей, слишком первобытным божеством, чтобы не нести в себе опасности коварных ударов и роковых падений.
Все дети приближаются к храму с чувством собственной малости, которое жрецы месят и мнут, как глину, придавая ему форму странного примирения-с-ужасом, чем и является религиозное поклонение, чувство обожания чего-то слишком страшного, чтобы с ним смириться, слишком древнего для безоговорочного принятия. Когда Сорвил размышлял о мире, лежащем за пределами видения, ему представлялись бесчисленные тысячи душ, болтающихся на истертых нитях над зияющей чернотой Края, тени, колышущиеся внизу, древние, своенравные Боги, равнодушные, подобно рептилиям, и все покрывающие узоры, столь древние, что в глазах людишек они могли показаться только безумием.
И самой древней, самой безжалостной была ужасная ПраМатерь.
Так она и звалась: детским кошмаром.
Каково оказаться меж ними! Ятвер и аспект-император… Боги и Демоны. Как его затянуло в эти огромные жернова? Ничего удивительного, что ему больше всего хотелось сбежать от грохота Великого Похода! Неудивительно, что мерное покачивание в седле на его пони, Упрямце, обещало какое-то спасение.
Однажды ночью он осторожно изложил этот вопрос Цоронге и его приближенным, стараясь не проявлять собственный жгучий интерес. Огонь, естественно, разводить было нельзя, поэтому они сидели плечом к плечу, повернувшись на юг, глядя то на усыпанный звездами небосклон, то на свои руки: короли и принцы земель усмиренных, но не полностью завоеванных Новой Империей, тоскующие по родным домам, оставшимся далеко за ночным горизонтом. Оботегва скромно сидел позади них, переводя фразы в случае надобности. Если что-то и толкало Сорвила продвигаться скорее в лингвистических штудиях с Эскелесом – это желание снять бремя собственной глупости с плеч старого мудрого облигата.
Они говорили о предчувствиях и предзнаменованиях, знаках, которые все больше очерняли аспект-императора, особенно об упорной засухе. Чарампа больше других был уверен, что гибель династии Анасуримборов неизбежна.
– Стремятся захватить больше, чем способны удержать! Какая самонадеянность! Разве это может пройти безнаказанным, я спрашиваю? Я вас спрашиваю!
Цинь вроде бы соглашался, но, как всегда, никто не мог понять мнение тинурита – была ли его улыбка по этому вопросу ироничной или нет. Цоронга был настроен скептически.
– Что случится, – отважился, наконец, Сорвил, – если мы обманем ожидания Богов просто потому, что не понимаем, чего они требуют?
– Ка сирку алломан… – начал монотонно говорить Оботегва за его спиной.
– Нас ждут вечные муки, – отозвался Цинь. – Богов не заботят наши оправдания.
– Нет, – рявкнул Цоронга, опережая Чарампу, который так и рвался ответить. – Только если нам не удастся воздать должную честь нашим предкам. Небеса похожи на дворцы. И не всем нужно разрешение повелителя на вход.
– П-ф-ф, – громко фыркнул Чарампа, пытаясь отомстить как за то, что его перебили, так и за все остальное. – Я думал, что зеумы более рассудительны, чтобы поверить в эту инритийскую чепуху!
– Нет, это не чепуха. Традиция чествования предков гораздо древнее Тысячи Храмов. А вы, Цини, видно, совсем глупы…
Цоронга обернулся к юному королю Сакарпа.
– Род переживает смерть. Не позволяй этому глупцу убеждать тебя в ином.
– Да… – ответил Сорвил, чутко прислушиваясь к сказанному.
Вот что значит быть покоренным народом: приходится обращаться к чуждым верованиям чужеземцев.
– Но если… если твой род проклят?
Наследный принц оценивающе посмотрел на него.
– Тремпе ус мар… Тогда нужно сделать все, что в наших силах, чтобы узнать, чего хотят Боги. Все.
Хоть Цоронга и не выставлял напоказ свою набожность, Сорвил знал по предыдущим разговорам, что у зеумов был совершенно другой способ понимания мира, не столько через постижение жизни и смерти, сколько через познание себя, что делало их порой похожими на фанатиков. Даже в переводе Оботегвы проявлялись эти особенности: зеумы употребляли два варианта одного и того же слова, когда говорили о жизни и смерти, слова, которое в грубом приближении можно было перевести, как «малая жизнь» и «большая жизнь», обозначая последним смерть.
– А иначе?
Наследный принц взглянул на Сорвила, словно что-то искал.
Основания для веры?
– Иначе мы проиграем.
Утром Мир кажется больше, а люди – меньше. Земля сжималась под восходящим солнцем, ослепительно-белым, отчего казалось, что люди проснулись в самом начале сотворения мира. Поднятые руки прикрывали глаза. Горбы изломленной травы отбрасывали проволочно-черные тени.
Сорвил вырос в этой стране; ее след глубоко отпечатался в душе, так глубоко, что стоило просто взглянуть, и она будто подхватывала его, давая опору душе. До сих пор при мысли о том, насколько далеко они забрались за Край, у него кружилась голова. Он, конечно, был образован и потому знал, чем являлся Край: северной оконечностью владычества Сакарпа, а не гранью, за которой повседневная реальность скатывалась в ночной кошмар. Но предрассудки черни имели особенность подниматься вверх, пропитывая представления более образованной знати. Невзирая на учения наставников, в воображении Сорвила Край оставался некой нравственной границей, чертой, отмечающей угасание добра и накопление злых сил. У него перехватывало дыхание при мысли о расстоянии, отделявшем от его священного города. И совсем неотступным было убеждение, что пытаться преодолеть такое расстояние столь небольшим отрядом – сущее безумие.
Если что-то и могло заглушить эти тревоги, то лишь нарастающее уважение к капитану Харниласу. Поначалу Сорвил не был столь высокого мнения о старом Харни. Подобно многим другим сционам, он старался вызвать в себе ненависть к этому человеку, если не к личности, то к должности его. Унижая других, люди самовозвышаются, но могущество аспект-императора было столь велико, а слава и сила Кидрухила настолько очевидны, что оставалось делать объектом презрения незначительных начальников вроде Харниласа.
Но Капитан ничего бы собой не представлял, если бы не был чертовски хорошо подкован в стратегии и тактике. Резкий. Вечно заросший, хоть он и брился, подобно многим своим нансурским землякам. Там, где лицо его не пересекали морщины, оно было сплошь испещрено шрамами, словно он был клеймен, но тавро виднелось каждый раз иное, в зависимости от освещения. Его явно не заботило, что о нем думают подчиненные, и они волей-неволей почитали его.
– В Зеуме, – как-то сказал Цоронга, – мы называем таких людей нукбару… каменщиками… камнерезами.
После того как Оботегва закончил переводить эту фразу, Наследный принц указал на возглавляющего их маленькую колонну:
– Таких, как наш капитан.
Когда Сорвил поинтересовался, почему, Цоронга, улыбнувшись, сказал:
– Чтобы резать камень, нужно быть тверже камня.
– Или умнее, – добавил Эскелес.
По пути беседы то оживлялись, то смолкали. Порой все принимались громко болтать, будто женщины по дороге домой из храма. Иногда ехали в полной тишине, и непрерывный шум ветра нарушался лишь неровной поступью пони. Чаще же всего разговоры вспыхивали в одном месте и как бы перелетали дальше по цепочке, словно живой дух витал между людьми, облекая мысли одного за другим в слова.
Наутро десятого дня они погрузились в молчание и продолжали так ехать довольно долго.
Перед обедом заметили следы оленей и какие-то широкие разливы на дальних белесых полях. Они доехали до них только под вечер: всадники, вытянувшись узкой колонной, прокладывали путь по долине, побитой тысячами копыт.
Сорвил бранил себя за глупость, испытав огромное облегчение.
Следующий день начался так же, как предыдущие. Оленьи следы вели по дуге на юг, напоминая отпечаток кривого ятагана на траве, но протянувшийся до самого горизонта. Сционы двигались цепочкой посередине этого широкого следа, и тишину нарушало лишь бряцанье оружия и редкие, отрывочные реплики. Даже у Чарампы, похоже, пропала охота говорить. Сорвил, как и остальные, покачивался в седле, слушая порывы ветра, который свистел в ушах, как завывания духов.
С головы колонны раздались крики: по левую руку от нее заметили двух стервятников. Все, выпрямившись на седлах, показывали пальцами в том направлении и вглядывались в неверную линию горизонта на востоке. Казалось, что равнина по мере удаления закручивается, теряясь в пыльной дымке, будто старый ковер у стены. И небо при этом уходило во все более далекую высь.
– Мы нашли свое стадо! – выкрикнул Оботегва, переведя торжествующий возглас Цоронги.
Сорвил моргал и щурился от слепящего солнца. Он заметил две движущиеся точки – даже разглядел полоску крыльев, парящих в восходящих потоках воздуха. И прежде чем сообразил, что делает, пустил Упрямца галопом. Пони скакал с почти щенячьим восторгом. Сционы с изумлением смотрели ему вслед, когда он выдвинулся к самой голове колонны. Капитан Харнилас уже хмуро глядел на Сорвила, когда он натянул вожжи, сдерживая неохотно остановившегося Упрямца.
– Мерус пах веута дже гхасам! – выкрикнул старый кавалерист.
– Капитан! – обратился к нему Сорвил на шейском.
Он махнул рукой, обращая внимание рассерженного Харни на горизонт. И со всей настойчивостью, на которую был способен, произнес одно слово, понятное на всех человеческих языках:
– Шранки.
Выдержав тяжелый взгляд офицера, он заметил уже не в первый раз, что спекшийся шрам на его левой щеке похож на полоску огненной слезы, пролитой капитаном. И впервые разглядел, что на шее у него висит ожерелье из фигурок, вырезанных из мыльного камня: трое держащихся за руки детей выделялись на фоне потемневших лат. Странное чувство узнавания охватило юного короля, понимание, что Харнилас, несмотря на свое чужое обличье и исполненные ярости темные глаза, ничем не отличался от приближенных его отца, что он закрыл свое сердце на замок, подобно многим военным, чтобы не допустить в него жалости. Харнилас любил, как и все люди, несмотря на все трещины и разломы сущего мира, находящегося в состоянии войны.
Эскелес наконец подрысил вслед за ним и мог перевести. Сорвил обернулся к адепту.
– Скажите ему внимательней последить за этими птицами. Скажите, что это аисты – священнейшие из птиц. Скажите, что только аисты следуют за шранками на равнине.
Эскелес в задумчивости нахмурился, после чего передал его слова капитану Харниласу. Бросив быстрый взгляд на мага, он опять перевел глаза на Сорвила.
– Шранки, – повторил капитан.
Он поднял неподвижное лицо и сощурился, пытаясь разглядеть две точки в небе.
Сорвил, сжав губы, кивнул:
– Эта птица священна.
– Твой наставник утверждает, что шранков лучше оставить на его долю, – объяснил старый Оботегва, – чтобы никто не пострадал. Харнилас не согласен. Он считает, что сционам нужна… практика ведения боя, даже ценой жизни. Лучше начать с малой крови, чем с большой.
До вечера они постепенно приближались к высоко кружащим аистам, стараясь держаться против ветра и прячась в складках равнины, чтобы скрыть свое приближение. Если у короля Сакарпа и были некие опасения насчет Харниласа, теперь они полностью улетучились благодаря гибкой тактике и спокойной уверенности, с которыми он отдавал приказания. Определившись с направлением, капитан решил срезать путь: теперь стало ясно, что они преследуют группу числом не более трехсот – слишком малую, чтобы быть мигрирующим кланом. Дважды их чуть не заметили, когда они пересекали гребень холма в тот же момент, что и шранки, но людям все же удалось приблизиться к ним на расстояние мили. Вечернее солнце догорало, опаляя горизонт на западе золотым и алым. Полоса прохладной тени теперь укрывала сционов, наблюдавших, как Эскелес спорит о чем-то с капитаном.
День выдался нелегким, но гораздо азартнее прочих. Если не считать сильвендийца Тинурита, на лицах у всех сционов играли довольные ухмылки. Некое беспокойное веселье овладело ими, прорываясь взрывами негромкого смеха при обмене взглядами, как у детей, скрывающих какую-то каверзу, предпринятую, однако, со вполне серьезными намерениями, и которая вполне может закончиться чьей-то гибелью. Сорвил не ощущал ни малейшего страха, никакого малодушия, которые способны были бы лишить его мужества. Вместо этого его переполняло рвение скакать вперед и разить наповал. И Упрямцу передалось предощущение битвы, которое он с радостью принял.
Но Эскелес, без сомнения, был преисполнен намерения все испортить. Святотатец, подумал о нем Сорвил.
Юноша и понятия не имел, каким влиянием пользовался его наставник; адепты школы Завета считались могущественней Судей, но распространялась ли их сила на поля битвы или только среди кидрухильских отрядов, он не знал. Он мог только надеяться, что их угрюмый старый капитан одержит верх в этом споре. Харнилас не производил впечатления особо расчетливого человека, почему, наверно, и был поставлен начальствовать над сционами. Отец несколько раз говорил Сорвилу, что интриги убивают гораздо больше людей на поле битвы, чем все смертоносные орудия.
Два пожилых человека, размахивая руками, кричали еще несколько минут, после чего Эскелес сказал что-то явно или очень умное или слишком дерзкое. Харнилас, приподнявшись в стременах, обрушил поток ругани на чародея, который сразу сник под яростным напором. Сорвил вместе с Цоронгой и Оботегвой невольно расхохотались.
– Глупец! – выкрикнул Эскелес в негодовании, вернувшись к ним. – Этот человек полный идиот!
– Практика, только практика, – пропел Сорвил, подражая тону адепта, который появлялся у наставника каждый раз, стоило юноше пожаловаться на трудность освоения языковых премудростей. – Ты сам всегда говоришь, что самый легкий путь никогда не бывает правильным.
Цоронга фыркнул, когда Оботегва перевел слова Сорвила. Схоласт бросил на него сердитый взгляд, но затем, собравшись, заставил себя улыбнуться. Он посмотрел на аистов, кружащих высоко в небе над гребнем холма, за которым равнина образовывала широкую чашу. Их раскинутые крылья золотились в свете заходящего солнца.
– Хотелось бы мне, чтобы ты оказался прав, мой Король. Воистину так.
После этих слов будто потянуло холодком.
После принятого решения погоня набрала темп. По командному жесту Харниласа они перестроились клином и поскакали вверх-вниз по склонам, как свободно скрепленный плот, покачивающийся на океанском просторе. Потом пустили лошадей рысью, чтобы дать им передышку. Такая поступь позволяла чуть больше, чем обмен взволнованными репликами, хотя, переваливая через каждый холм, они погружались в сосредоточенное молчание.
– Они не движутся, – сообщил Цоронга через Оботегву. – Почему? Заметили нас?
– Может быть, – отозвался Сорвил, пытаясь справиться с одышкой, сдавливавшей горло. – Или отдыхают… Шранки предпочитают ночь дню. Солнце изнуряет их.
– Тогда почему бы не забраться повыше, где они могли бы выставить стражу?
– Солнце, – повторил он, внезапно охваченный острой болью мрачного предчувствия. – Они ненавидят солнце.
– А мы – ночь… Вот почему мы удваиваем количество дозорных по ночам.
Король сакарпов кивнул.
– Но ведь, если помните, нога человека не ступала по этой земле уже тысячи лет. К чему им стеречься мифов и легенд?
Все его прежнее рвение улетучилось, будто впиталось в землю, просочившись сквозь подошвы сапог. Они взобрались на склон, двигаясь по теневой стороне под углом к ветру, уносившему пыль из-под копыт вбок. Всюду, куда ни кинь взгляд, была видна только земля, и, тем не менее, казалось, что едешь по краю глубокого ущелья. Накатило головокружение, того и гляди с седла свалишься. Ни в чем нельзя быть уверенным, понял Сорвил. На полях брани может произойти все, что угодно.
Что угодно.
В глухой топот копыт вклинился пронзительный вой, будто рвущий глотки, откуда он несся. Аисты зависли в воздухе прямо над ними, сияя девственной белизной в лучах заходящего солнца. Сционы пронеслись сквозь тень неглубокой ложбины и, продравшись сквозь дымку сухого кустарника и травы, вновь погнали коней вверх. И вот вершина холма. Солнечные лучи высекли серебристо-алые блики с пригнувшихся к холкам доспехов людей.
Слитный вой распался на отдельные взвизги и тревожные возгласы.
Шранки заполняли пространство под ними, отвратительные скопления тварей, заполонившие низины меж освещенных солнцем холмов. Тощие белые руки сжимали оружие. Лица искажены злобой. Штандарты клана – человеческие черепа с привязанными бизоньими шкурами – бились на ветру.
Сорвилу не было нужды оглядываться вниз на линию товарищей. И так было ясно, что написано на их лицах. Неверие в происходящее – последняя перегородка, отделяющая юнцов от убийства.
И вот наступил момент, в который не верилось, но о котором Сорвил не раз слышал от старых вояк. Ряд вооруженных копьями всадников, с блестевшими на солнце шлемами и кольчугами, стоял неподвижно, сдерживая играющих пони. Шранки злобно кричали и размахивали руками, но тоже не двигались с места. Обе стороны просто оценивали друг друга, не без колебаний и уж точно не ради точного подсчета. Это было скорее противостояние равнозначных сил, при котором все ждут, когда же монетка, крутящаяся в воздухе, коснется твердой земли, давая разрешение на бойню.
Сорвил, приподнявшись в седле, наклонился вперед и прошептал Упрямцу в самое ухо:
– Мы с тобой – одно целое…
И они ринулись вперед с боевым кличем дюжины варварских народов, уже не сдерживая стремительного бега коней. Летящий клин, ощетинившийся копьями. Судя по рассказам подданных отца, Сорвил ожидал, что каждый удар сердца в такой момент растянется на вечность, но все происходило так быстро – слишком быстро, чтобы успеть ужаснуться или обрести боевой задор, – не было времени ни для чего. Миг – и Шранки явились перед ним спутанным клубком рвущихся в бой тел. Белая кожа, темная, в пятнах грязи броня, занесенные над головой железные дротики. Второй – и Сорвил врезался в гущу тел, словно разрывая ткань. Острие копья, выглядывавшее из-за его щита, пронзило глотку существа, которого он даже не видел, и болтающегося теперь, словно на вертеле. Теперь копье убивало само. Еще миг – он вытащил меч и, придерживая другой рукой Упрямца, стал рубить направо и налево. Вопли, стоны, крики возносились в небо. Страшный лязг войны.
Седьмой или, может, восьмой оглушительный удар сердца – и он с удивлением заметил, насколько легко меч входит в плоть, не труднее, чем в арбузы, на которых отрабатывают удары. Сорвил весь слился с клинком и лошадью, танцуя в месиве бледных теней, неся смерть и разрушение. Темная кровь била струей, орошая сухую траву под ногами.
Затем все слилось в единый пыльный покров искалеченных и умирающих, в какофонию звуков, уносящуюся дальше вперед.
Сорвил пустил Упрямца в погоню, краем глаза заметив широко улыбающегося Цоронгу, который пронесся мимо в седле.
Оставшиеся в живых шранки метались перед неровной линией всадников. Сорвил на ходу выхватил копье, торчащее из земли, и слился в едином порыве с пони. Он быстро обогнал выдохшихся сционов и оказался в передних рядах преследователей. Безумная улыбка застыла на его устах. Он издал громогласный древний боевой клич своего народа, который оглашал бессчетные поля сражений многие века.
Шранки стремительно скакали сквозь сухой кустарник, словно оборотни, постепенно отрываясь от преследователей – лишь самые быстрые нагоняли их.
В гонке был азарт. Сжимающие конские бока бедра и колени слились с телом пони, скачущего стремительным галопом. Земля уносилась назад, словно водная гладь. Рука свободно держала копье, как учили Сорвила с детства, на весу, и оно подрагивало, словно было не копьем, а молнией. Для сына сакарпов – Повелителей Коней – такая скачка была призванием. Сорвил разил без промаха и не задумываясь, и такое безумие казалось священным. Одного – в шею, и тело с раскинутыми руками отлетает в кусты. Второго – в пятку, и бежавший начинал ковылять, завывая, как кошка. Только вперед, не оборачиваясь, оставшееся позади подомнет несущаяся за ним стена.
Шранки рассеялись по склону, а Сорвил все продолжал гонку, – на залитых солнцем равнинах спрятаться было негде. Когда он настигал их, они, дыша древним ужасом и гневом, оборачивали к нему белые лица, на которых горели черные глаза. Их руки и ноги казались зыбкими тенями на устланной травами сухой земле. Они кашляли, задыхаясь от пыли. И с криком падали, кружась, в нее.
В гонке была радость. В убийстве – экстаз.
Одно целое…
Победа была полной. Среди сционов павших было трое, а раненых – девять, включая Чарампу, которому угодили копьем в бедро. Несмотря на мрачные взгляды, которые бросал Эскелес, старина Харни был явно доволен своими юными подчиненными, возможно, даже гордился ими. Сорвил насмотрелся смерти при падении своего города. Ему было известно, что значит глядеть в знакомые лица, испускающие последний вздох. Но он впервые испытал то чувство резкого противоречия между душевным подъемом и сожалением, которое приходит вместе с триумфом на поле боя. Впервые осознал это расхождение, которое омрачает сущность военной славы.
Товарищи приветствовали его возгласами одобрения, хлопали по спине и по плечам. Цоронга даже обнял его, в зеленых глазах его еще не улеглось безумие гонки. Оглушенный, Сорвил поднялся на ближайший пригорок и оглядел невидящим взором равнины. Алое солнце лежало на линии горизонта, пылая сквозь полосу сиреневых облаков, заливая холмы вокруг бледно-оранжевым светом. Сорвил стоял и глубоко дышал. Он думал о своих предках, кочевавших по этим землям и, подобно ему, разивших чужаков. И словно врастал в эту землю сквозь подошвы сапог.
Темнеющее небо было до того широко, что кружилась голова. И сиял Небесный Гвоздь.
И Мир громоздился вокруг.
Этой ночью Харнилас позволил им расслабиться, понимая, что на плечи этих мальчиков легла тяжесть мужских забот. Последняя бутылка айнонийского рома была откупорена, и каждый был вознагражден двумя обжигающими глотками.
Они схватили одного из выживших шранков и пригвоздили его к земле копьем. Поначалу угрызения совести сдерживали их, поскольку среди сционов было немало получивших благородное воспитание. Они только пинали воющую тварь. Но дошло до того, что даже Сорвил, когда настала его очередь, хоть и с отвращением, опустившись на колено у белой головы шранка, вырвал тому глаз. Некоторые из сционов загикали и одобрительно закричали, но большинство в ужасе, даже в гневе оцепенело, говоря, что такое издевательство – просто преступление против джнана. Так они называли свои непонятные законы поведения для неженок.
Юный король Сакарпа с недоверием обернулся к товарищам. Избитое существо металось на траве позади него. Капитан Харнилас широкими шагами подошел к нему, и все выжидательно замолчали.
– Скажи им, – обращаясь к Сорвилу, медленно произнес он, чтобы тот понял. – Объясни им, что они заблуждаются.
Больше восьмидесяти пар глаз воззрились на него, озаренные лунным светом. Сорвил сглотнул и взглянул на Оботегву, который просто кивнул и шагнул к нему…
– Они… они приходят… – начал он, запнувшись при звуках голоса монотонно переводившего Эскелеса. – Они приходят, как правило, зимой, особенно когда земля замерзает настолько, что они не могут выкопать из нее личинок жуков, которые составляют их пищу. Иногда отдельными кланами. Иногда целыми полчищами. Поэтому Башни у Черты сильны, а Повелители Коней сделались несравненными бойцами и рейдерами. Но каждый год, по крайней мере, одна Башня оказывается сломленной. По крайней мере, одна. Мужчин большей частью забивают. Но женщин, а особенно детей, забирают позабавиться. Нам случалось находить их оторванные головы, прибитые к дверям и стенам. Девочек. Мальчиков… Младенцев. Целыми мы их ни разу не видели. И кровь повсюду…выпущенная из них. Но сами мертвецы были не красные, они были вымазаны черным… черным, – и голос его тут дрогнул, – семенем.
Сорвил умолк. Лицо его горело, пальцы дрожали. В четырнадцатую зиму отец взял его с собой в карательную экспедицию на север, чтобы сын увидел их древнего, неумолимого врага собственными глазами. В поисках продовольствия и пристанища они подошли к Башне, называемой Грожехальд, но оказалось, что она полностью разгромлена. Ужасы, представшие его глазам, до сих пор являлись ему во сне.
– Даже если терзать тысячу этих тварей тысячу лет, – сказал ему отец той ночью, – будет отомщена лишь толика мучений, которые они нам причиняли.
Сорвил повторил эти слова сейчас.
Он не привык выступать перед большим скоплением людей, и молчание, которое последовало за его рассказом, воспринял как осуждение. Когда Эскелес продолжил говорить, он просто решил, что Схоласт пытается прикрыть его глупость. Но Оботегва, переводя слова кудесника, пробормотал:
– Король Сорвил говорит столь же красноречиво, сколь и правдиво.
А юноша с потрясением понял, что понимает большую часть слов адепта школы Завета.
– Шус шара кум… У этих тварей нет души. Они состоят из плоти без духа, и отвратительны как никто другой. Каждый из них создает брешь, подрывает самую основу существования. Там, где в нас зарождается любовь и ненависть, где начинаются чувства и переживания, у них пустота! Режьте их. Раздирайте на части. Сжигайте и топите. Вы скорее запачкаетесь, чем согрешите, уничтожая этих мерзких выродков!
Но несмотря на всю решимость, с какой прозвучали эти слова, Сорвил заметил, что большая часть сционов продолжает смотреть на него, а не на адепта, и понял: то, что он принял за осуждение, было на самом деле совсем иным.
Уважением. Даже, пожалуй, восхищением.
Только у Цоронги в глазах читалась тревога.
После этого издевательские забавы продолжились с самым горячим рвением. Громкий смех людей соперничал с нечеловеческими, безумными воплями.
Останки еще подергивающегося существа поблескивали на пропитанной кровью траве.
Выступая на следующий день в путь, они обсуждали удивившее всех отсутствие стервятников. Перед ними раскинулась залитая светом равнина. Вспоминали бой накануне, похвалялись количеством убитых врагов, сравнивали меткость удара и хохотали над промахами. Сционы воображали себя ветеранами, но разговоры их оставались мальчишескими. У легких побед, по словам Повелителей Коней, не бывает бороды.
Они без труда вновь отыскали оленьи следы, идя под полуденным солнцем, которое казалось маленьким на фоне зияющего горизонта. Прежде чем увидеть, они почуяли беду – ветер донес скверный запах. Гниющие останки распространяли вонь широкой волной, от нее было не укрыться. Открывшийся вид вначале поразил широтой равнины, усеянной костями и серо-черными пятнами шкур до самого горизонта и в беспорядке наваленными ближе. Было слишком тихо, слишком спокойно. Сционы, застыв, остановились на гребне невысокого увала, вытянувшись в линию всем своим числом в восемьдесят семь человек. Пони беспокойно мотали головами и били копытами. Их кидрухильский штандарт, черное Кругораспятие с золотым конем, хлопал и развевался на фоне безбрежной синевы. Говорить никто не осмеливался, раздавались только кашель и тихая брань.
Оленьи туши. Черным прахом усеявшие целые поля.
Стервятники склонялись над ними, словно монахи в капюшонах, или с обвиняющим высокомерием поднимали крылья. Каждую секунду очередная дюжина птиц камнем падала с небес и вблизи, и вдали. Их хриплые крики прорезали неумолчный гул и жужжание: мухи, слетевшиеся, кажется, со всего света, тучами клубились в воздухе.
Растерзанная туша оленя лежала недалеко от Сорвила, вытащенные наружу внутренности лежали, как истлевшие тряпки. Дальше виднелись еще три рядышком, ребра торчали из обнажившихся хребтов, как гигантские ловушки. А дальше, на опустошенном пастбище, в кругах крови, еще и еще.
По команде капитана Харниласа отряд строем спустился по склону, разделяясь только для того, чтобы обойти туши. Стервятники при их приближении хрипло вскрикивали – древняя ярость хищников – и поднимались на крыло. Сорвил с тревогой следил за ними, понимая, что по такой примете их местоположение будет заметно на многие мили вокруг.
– Что это за безумная бойня? – пробормотал рядом Цоронга.
Перевода не требовалось.
– Шранки, – глухо произнес Схоласт. – Полчище…
Перед внутренним взором Сорвила мелькнули твари, разрубающие животных, рвущие на куски, добивающие еще живых и совокупляющихся с зияющими ранами.
Пронзительная картина.
– В древние времена, – продолжил наставник, – до прихода Не-Бога шранки неизменно отступали перед войсками, слишком неодолимыми для одиночных кланов. Отступавшие скапливались и скапливались, множество кланов. Пока голод не заставлял их вступить в бой, пока они не заполоняли все кругом…
– И что тогда? – спросил Сорвил.
– Тогда они шли в атаку.
– Значит, все это время…
Эскелес угрюмо кивнул.
– Кланы расступались перед Великим Походом и молвой о ней… Как волна, вздымающаяся перед носом челна…
– Полчище… – повторил Сорвил, взвешивая на языке это слово. – А Харни знает об этом?
– Скоро узнаем, – отозвался тучный Схоласт.
Больше не говоря ни слова, он припустил пони, чтобы догнать кидрухильского капитана.
Сорвил перевел взгляд вперед. Но куда ни глянь, перед глазами проплывали струи крови на щебне, кучи раздробленных костей, черепа с высосанными пустыми глазницами и мордами, обглоданными до ноздрей. Куда бы ни падал взгляд, он натыкался на очередную кровавую сцену.
Повелителям Коней приходилось сражаться с большими кланами, но даже самый большой насчитывал не больше нескольких сотен шранков. Бывало, что особо жестокий и коварный вождь шранков захватывал соседей в рабство, разжигая войну вдоль линии Черты. Легенды изобиловали историями о шранках, расплодившихся до целого народа и нападавших на Дальние Оплоты. Сакарп сам пять раз оказывался в окружении со времен Разрушителя.
Но эта… бойня.
Такое под силу только еще более мощному полчищу.
Мясо сочилось под прямыми солнечными лучами. Над травой и кустарником роились мухи. Поблескивали хрящи, не залитые кровью. Вонь стояла такая, что впору было завязывать рот и нос платком.
– Эта война настоящая, – заметил Сорвил с горьким изумлением. – Аспект-император… Его война настоящая.
– Похоже… – ответил Цоронга после перевода Оботегвы. – Но из каких соображений?
– Иначе все потеряно…
Так говорил Цоронга.
Несмотря на недавнюю победу, эти слова то и дело всплывали в беспокойной душе молодого короля. Не было причин сомневаться в них. При всей его юности Цоронга обладал тем, что сакарпы называли «тиль», солью.
Одно оставалось фактом: Ятвер, покровительница слабых и обездоленных, выбрала его, хоть он с пяти лет и верно служил ее брату, Гильгаолу, хоть в его жилах и текла кровь воинов, хоть он и был тем, кого ятверианцы называют «верйильд», Захватчик, грабитель до мозга костей. Возмущаясь дикостью ее выбора, сгорая от стыда, Сорвил не мог не признать, что заслужил такое унижение. Он избран. Нужно только понять, зачем.
Иначе…
Ответ напрашивался сам собой – Порспериан. Теперь казалось ясным, что его раб – какой-то тайный жрец. Сорвил всю жизнь полагал, что только женщины служат мирским интересам этой Праматери, но почти ничего не знал о людях низшего сословия собственного народа, не говоря уже о дальних странах. Чем больше он размышлял, тем больше сознавал, каким же глупцом он был, что не понял этого гораздо раньше. Порспериан пришел к нему с этим тяжким бременем. Пришел поведать о том, что это за бремя и куда его нести.
Конечно, если Сорвилу наконец удастся овладеть шейским, чтобы язык не вяз, а уши распознавали слова без ошибки.
Той ночью, пока все спали, юный король Сакарпа ворочался на своей подстилке и, пытаясь унять тревогу, рвал травинки подле себя. Порспериан – со щеками, похожими на пожухлое яблоко, и черными глазами, словно влажные осколки обсидиана, – все время маячил перед его внутренним взором: жгуче плюющий на ладонь, размазывающий грязь по щекам…
Только коснувшись голой земли, Сорвил очнулся: он понял, что его рука лепит лицо ужасающей богини точно так же, как Порспериан в тот день, когда аспект-император провозгласил его Наместником. Безумная игра, когда живот подводит от страха, но нет сил перестать хохотать.
Земля не поддавалась, как в руках шигекийского раба, поскольку была слишком суха, поэтому Сорвил, сложив руки в пригоршню, собрал пыль холмиками, слепив щеки, и дрожащими кончиками пальцев сделал нос и брови. Он дышал осторожно и часто, чтобы не испортить свое творение неровным выдохом. Тщательно трудился над ним, даже прочертил ногтем мелкие детали. Работа просто заворожила его. Закончив, он прилег на согнутую руку и смотрел, не сводя глаз с темного профиля, стараясь избавиться от ощущения его безумной невозможности. На какой-то момент она показалась целым Миром, протянулась на все мили нелегкого похода, во всех направлениях, телом того лица, что лежало перед ним.
Лица короля Харвила.
Сорвил крепко сжал плечи руками, как борец, вцепившийся в противника, в попытке подавить рыдания, что рвались наружу.
– Отец? – вполголоса вскрикнул он.