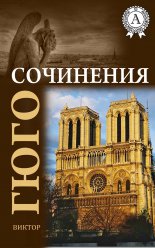Воин Доброй Удачи Бэккер Р. Скотт

В этом чувствовался дунианин.
И сам Великий Поход, и его неустанное продвижение на север казались чудом. Какие бы преграды ни встречались на пути, как бы ни голодали люди, Армия Среднего Севера упорно продвигалась вперед, растянувшись, как оползни, по склонам, оставляя за собой клубящиеся столбы пыли. И если раньше в этой картине чувствовалось какое-то великолепие, то теперь они просто раздувались от собственной значимости, воспоминаний о пережитом и зловещего предчувствия того, что ожидает впереди.
Несмотря на понесенные потери в Походе, Полчище так и не было уничтожено полностью. Оно отступило, уменьшившееся, зализывая тяжелые раны, слишком быстрое и аморфное, чтобы можно было его догнать. Дважды Сорвилу с Цоронгой поручали доставить послания к передним заставам, одно из них было адресовано самому Анасуримбору Моэнгусу. Они вдвоем поскакали вперед, отпустив поводья, радуясь освобождению от пыли и напряженно всматриваясь в желтоватую дымку на горизонте. Отделившись от войска, они изо всех сил гнали лошадей по пустынной равнине, остро ощущая свою свободу и в то же время сознавая, что необозримые множества шранков стеной стоят на севере. Цоронга рассказывал Сорвилу о своем двоюродном брате, который был капитаном военной галеры, о том, как он любил – и ненавидел – больше всего на свете плавание в океане накануне бури.
– Только моряки, – объяснил наследный принц, – знают, где окажутся по милости своего Бога.
Все школы к этому времени были полностью мобилизованы, и потому, когда пыль от Полчища поднималась вверх, внизу, у самой земли, проглядывали полосы света, яркие проблески, пробивающиеся сквозь мрачные завесы пыли. Цоронга с Сорвилом пригнули головы, перевели глаза с вершин, ярко освещенных солнцем, к обманчивому сумраку внизу и ряду адептов, которые побивали и умерщвляли шранков. Школы. Народы. Племена скверные и сияющие. И они поняли, что даже короли и принцы не имеют никакой важности, когда на чашу весов обрушиваются такие массы.
Они в оцепенении поехали дальше, пока не показалась первая застава, отряды, отмеченные султанами пыли, клубящейся до самого неба. Найдя Моэнгуса, который к этому времени уже успел прославиться своими подвигами, они поскакали дальше, пока солнце не превратилось в бледное пятно, а отдаленное завывание Полчища не выросло в оглушительный рев.
– Скажите-ка мне! – крикнул принц-империал, стараясь перекричать вой и указывая покрытым пятнами крови мечом на затянутое дымкой небо над головой. – Что видят глаза неверных, когда смотрят на врага моего отца?
– Гордость! – отозвался Цоронга прежде, чем Сорвил остановил его. – Безумную напасть!
– Ба! – расхохотался Моэнгус. – Это, друзья мои, то место, где ад уступает место раю! Большинство людей пресмыкаются потому, что так поступали их отцы. Но вы! Просто взгляните сюда, и вы узнаете, зачем вы молитесь!
И вдали Сорвил увидел их, Лазоревок, шествующих над низко нависшей тьмой и взрывающих землю. Ожерелье из блестящих и опасных бусинок, растянувшееся на мили и разящее шранков наповал.
Горящая день за днем земля становилась похожа на стекло.
И там же была величайшая колдунья, Анасуримбор Серва, казавшаяся чудом красоты среди потрепанных походом мужчин. Она скакала на буланом жеребце с лоснящейся шерстью, высоко подняв одно колено в нильнамешском седле, ее льняные волосы обрамляли прекрасное лицо, а под простой накидкой, которую она надевала, когда не раздувала клубы света вокруг себя, угадывалось тонкое, почти невесомое тело. Больше она с Сорвилом не заговаривала, хотя и проводила много времени рядом с братом. Колдунья лишь иногда бросала на него взгляд, а он никак не мог избавиться от ощущения, что из всех, кто ее окружал, она рассматривала его с особым пристрастием. Ее красота очаровывала не только Сорвила. Порой он больше времени проводил, наблюдая, как остальные бросают украдкой взгляды в ее сторону, чем сам смотрел на нее. Но Сорвил не поклонялся ей, как заудуниане. Он не видел в ней дочь бога. И хотя все его существо отказывалось это признавать, его пугало страстное томление – а порой и откровенное вожделение, – которое она вызывала у него. И, как водится у мужчин, он часто негодовал и даже испытывал ненависть к ней.
Все безумие заключалось в том, что он ощущал в себе потребность ненавидеть ее. Если бы он был нариндари, небесным палачом, избранным Сотней, чтобы освободить мир от аспект-императора, тогда то божественное, что поражало его в противнике, должно было быть демоническим – должно было, а иначе он был просто марионеткой в руках демона. Пророком-нариндаром, слугой Айокли, дьявола о четырех рогах.
Когда Сорвил был ребенком, Добро и Зло всегда упрощали неуправляемый, беспорядочный мир. А теперь дьявольское и божественное начала в нем так смешались, что попытки отделить одно от другого приносили одни мучения. Порой он проводил целые ночи без сна, в попытках пожелать Серве зла и очернить ее прекрасный образ. Но воспоминания каждый раз переносили его к волнующимся под ними толпам шранков, вызывая чувство безопасности и немой благодарности.
И он все думал о своем убийственном замысле, который вынашивал под коркой грязи, покрывавшей лицо, и о Хоре, которую носил в старинном мешочке на поясе, и впадал в отчаяние.
Порой, во время мрачных трапез с Цоронгой, он осмеливался задавать вопросы, которые его мучили, и под рев Полчища они старались искренне обсуждать все, что видели.
– Голготтерат – это не миф, – отважился сказать Сорвил как-то вечером. – Великий Поход выступает против реального врага, и этот враг – зло. Мы видели его своими собственными глазами!
– Но что это значит? – возразил Цоронга. – Зло сражается против зла, тебе следует почитать анналы моего народа, конник!
– Да, но только когда противники преследуют одну и ту же цель… Что хочет аспект-император от этих походов?
– Все ради ненависти. Ради нее.
Сорвил хотел было спросить, что может вызвать такую ненависть, но решил согласиться с этим утверждением, поскольку уже знал, что скажет наследный принц, последний аргумент, к которому он прибегал, обрекая Сорвила на бессонную ночь.
– А Сотня? Почему Богиня заносит именно тебя как нож?
Если аспект-император – не демон.
Он чувствовал себя червем, мягкотелым, слепым и беспомощным. Обратив лицо к небу, он и вправду ощущал великую работу Ужасной Праматери, которая взбивает пыль на горизонте и слышится в голосах людей. Он чувствовал, что его несет волна ее эпического замысла, чувствовал себя жалким червем…
Пока воспоминания об отце были живы.
«Отец! Отец! Мои кости – твои кости!»
Думая о последнем дне накануне падения Сакарпа, Сорвил каждый раз вздрагивал. Спустя столько времени горестные события стали казаться стеклянными осколками. Но он все чаще возвращался к ним в памяти, удивляясь, что острые края затупились, словно сточенные водой. Он все никак не мог постичь смысл появления аиста за секунды до приступа инритийцев, который отделил его от отца. И почему отец отпустил его, успев спасти ему жизнь.
И Богиня ли выбрала его.
Но больше всего он размышлял над этим последним моментом, проведенным вместе, до того, как на стены залезли атакующие, когда отец и сын стояли, греясь над вражескими углями.
– На свете много глупцов, Сорвил, которые мыслят простыми, безусловными понятиями. Они нечувствительны к внутренней борьбе, они насмехаются над сомнениями, раздуваясь от гордости. А когда ими овладевают страх и отчаяние, у них не хватает духу поразмыслить… и тогда они просто ломаются.
Король Харвил знал это, еще тогда знал. Отец знал, что его город и его сын обречены, и хотел, чтобы сын, по крайней мере, понял, что страх и трусость неизбежны. Каютас сам говорил об этом: чувство – это игрушка страсти. В ту ночь, когда на Рабский Легион напали шранки, Цоронга сбежал, не ответив на призыв Сорвила, потому что остановка казалась верхом безумия. Он просто делал то, что считал разумным, и оказался в тени безрассудной отваги своего друга.
Но сам Сорвил остановился на том темном поле. Против всякого инстинкта и благоразумия он бросил свою жизнь на алтарь необходимости.
«…у них не хватает духу поразмыслить…»
Все это время он оплакивал свое мужество, высоко подняв флаг своего унижения. Все это время его приводило в замешательство отсутствие уверенности, силы и чести. Но он был сильным – теперь он это знал. Понимание своего незнания просто сделало его силу гораздо более осторожной.
«…и они ломаются».
Мир, как всегда, был лабиринтом. И его смелость была непростой.
– Ты же не такой глупец, Сорвил?
Нет, отец.
День за днем воины Великого Похода шли вперед, призванные колоколом Интервала, пока, наконец, не кончились все запасы. Несмотря на свою величину, Истиули не были неиссякаемыми.
Проснувшись, они впервые заметили, что просторы отличаются от тех, что они привыкли видеть. Земля была пустынна, будто вытоптанная отступающим Полчищем, а вокруг не виднелось ни дичи, ни какой-либо растительности, а почва стала другой. Овраги стали глубже, вершины – острее, как будто войска перешли какой-то возрастной рубеж, от гладкой юности к морщинам средних лет. Голые скалы все чаще появлялись в торфе. Змеившиеся коричневые реки, которые раньше несли свои теплые воды медленно и лениво, здесь ускоряли бег, вскипая белой пеной и взрезая все более глубокие ущелья.
Западная Армия, войско под командованием эксцентричного короля Коита Саубона, подошла к руинам Суонирси, торгового пакгауза, некогда известного как канал связи между Высоким норсираем Куниюри и Белым норсираем Акксерсии. Воины Похода были поражены. После многих месяцев трудного пути они пошли по забытым дорогам, изумляясь, как время превращает каменистую почву в болото. Они взирали на руины, задаваясь вопросом, почему некоторые стены превратились в пыль, а другим было даровано бессмертие скал. Впервые, сопоставив слухи и сказки, в которых говорилось о том, как раздобыть циркумфикс из вытоптанной земли под ногами, они смотрели на своих уставших товарищей, и трагедия ушедших веков вставала у них перед глазами.
Земля утратила свою анонимность. Отныне она, несмотря на все свое запустение, несла на себе печать давно умерших идей. Там, где Высоты Истиули были бесплодны, земля оставалась глуха к поколениям, оказавшимся на ней, но северо-восточные границы были пропитаны человеческой историей. Руины торчали на скалах, как обломки зубов, окружали маловодные долины. Знающие рассказывали истории о шенеорах, последнем из трех народов, разделенных между сыновьями первого короля из династии Анасуримборов, Нанор-Уккержоя I. Об именах спорили у огня. Судьи взывали к ним в своих проповедях. Их выкрикивали в проклятиях и молитвах. Куда бы ни упал взгляд, воинам Похода повсюду мерещились видения прошлого, призраки предков, тянущих руки, склонившихся под ношей. Если б им только удалось расшифровать послания земли, взглянуть на нее глазами древних, то ее можно было бы освоить во имя людей.
Но она проходила сквозь них, вызывая лишь трепет и чувство родства нового поколения с древними.
А голод становился жестоким, немалое число поддавшихся слабости пало. Реки были слишком быстрыми, чтобы их воды удержали грязь отступающего Полчища, и порой просто кишели рыбой. Сети ставили в узких местах все, от сиронжийцев до нронов и сингулатов, складывая на людных берегах улов: щук, окуней, судаков и других рыб. Люди ели их сырыми, настолько сильным был голод. И никак не могли наесться. И неважно, насколько замедлялось продвижение вперед, но большего сделать для голодающего войска они не могли.
А Полчище тем временем отступало и скапливалось.
День и ночь адепты нападали на их собирающиеся массы, погружаясь в серые и охристые облака пыли, сжигая и взрывая хрипло кричащие тени, бегущие под ними. Адепты школы Алых Шпилей шагали сквозь дымку со своими головами драконов, нанося удары по опустошенной земле. Вокалатай действовали с коварством волков, загоняя отбившихся тварей в ловушки золотого пламени. Маги школы Завета и сваяльские ведьмы растянулись протяженными рядами, как нити, унизанные звездами, неся смерть и разрушение скребницами слепящего гностического света.
Бойня была жестокой, но так и не уничтожила полностью шранков, которые, при всей своей примитивности, обладали инстинктивной хитростью. Они слышали сквозь терзающий душу рев, как адепты распевают свои заклинания, сотрясая землю колдовскими напевами, и рассеивались, мчались, как обезумевшие от огня лошади, взбивая пыль, чтобы скрыться в ней от неприятеля и приглушить накал вмешательства свыше.
Люди на заставах стали называть их Отбросами. Каждый вечер рыцари возвращались с историями о жестокой резне, которую было видно издалека, и люди удивлялись и радовались.
Имперские математики подсчитывали потери, сопоставляя полученные результаты с неумолимым скоплением кланов, но им было известно лишь то, что прибывает больше, чем убывает, независимо от того, насколько хитрую тактику применяют или насколько мощно колдовство. Полчище росло и раздувалось, собираясь в визжащие толпы, заполняя все больше и больше пространства на горизонте, пока весь Север не был охвачен криками.
Единственное, что математики знали точно, – число погибших адептов.
Первый кудесник из Алых Шпилей, адепт по имени Ирсальфус, пропал по чистой случайности. Среди людей господствовало предположение, что шранки, даже если им как-то удастся завладеть Хорой в бурном наплыве кланов, не догадаются о ее предназначении. Но после смерти пятого адепта люди поняли, что ошибались. То ли какие-то кланы сохранили артефакты (с неким пониманием, как ими пользоваться), то ли, что было более правдоподобно, в Полчище проник Консульт, запустив к ним уршранков. А может, просто пустил слух о Хоре и как ею пользоваться.
Это допущение не вызвало никаких прений в советах аспект-императора. Херамари Айокус, слепой гранд-мастер школы «Алых Шпилей», утверждал, что адептам следует покинуть поле боя.
– Иначе, – сказал он, – нас останется вполовину меньше, прежде чем мы достигнем ворот Голготтерата.
Но король-регент Высокого Айнона Нурбану Сотер, рассмеявшись, сказал, что в Великом Походе вряд ли вообще кто-нибудь сможет дойти до моря Нелеоста, не то что Голготтерата, пока адепты продолжают биться.
– Сколько еще битв? – выкрикнул он слепому гранд-мастеру. – Сколько еще contests вроде последнего мы сможем вынести? Два? Четыре? Восемь? Вот в чем вопрос.
Отбросы были такими живучими, утверждал Святейший ветеран, потому, что замедляли отступление Полчища, оттягивали голод и нападение. Оставить их означало вызвать новые несчастья.
– С каждой битвой мы бросаем жребий, – резко сказал старик с бессердечными темными глазами, ставшими такими во время Первой Священной Войны. – Можем ли мы все рисковать собой ради нескольких дюжин колдунов?
Вспыхнули споры, что редко случалось в присутствии Анасуримборов. Схоласты в основном выступали против, а высшая знать – за Отбросы. В конце концов, аспект-император провозгласил, что сражения с Отбросами будут продолжаться, но адептам следует объединиться в цепочки, чтобы сократить потери до минимума. Нападая все вместе, объяснил он, они будут представлять такую силу, что ни один шранк с Хорой не выдержит, если только кому-то удастся вынести ее из Полчища.
– Во всех делах мы должны стараться сохранить себе жизнь и в то же время жертвовать собой, – наставлял он. – Мы должны быть акробатами и канатоходцами душой и рассудком. Гораздо более сложные дилеммы встают перед нами, братья. И решения бывают гораздо более жестокие.
Так Полчище откатывалось назад, сжимаясь под острыми лучами тысячи огней. И четыре армии шли по опустошенной земле, сулившей им вечное бдение, по земле, пропитанной ужасом и славой Святых Саг.
Двигались во мрак Древнего Севера.
Король Нерсей Пройас собирался обсудить вопросы вооружения, опасных позиций на поле и стратегии их преодоления. А его Верховный Повелитель вместо этого спросил, обернувшись к нему:
– Когда ты смотришь на себя, заглядываешь внутрь, много ли ты видишь?
– Я вижу… то, что вижу.
Экзальт-генерал провел много бессонных часов на своей походной кровати, размышляя над их беседами, прислушиваясь к ночной жизни лагеря и его затихающему шуму. Воспоминания долгих лет преданной службы кружились у него перед глазами, жизнь, проведенная в бесконечных войнах, и возникало пугающее чувство, будто что-то изменилось, что эти разговоры, беспримерные по содержанию, стали свинцово тяжелыми в своей ужасающей определенности. Дивясь этой привилегии – сидеть рядом и беседовать о простых истинах с живым пророком! – он не меньше страшился скрытого смысла, таящегося в этих разговорах.
Анасуримбор Келлхус побывал не на одной войне, понял Пройас. Одна лежала далеко за пределами понимания ограниченного интеллекта его последователей. Другую он вел на полях сводящей с ума абстракции…
– Но ты же видишь. Я имею в виду, у тебя есть внутреннее зрение.
– Полагаю…
Аспект-император, улыбнувшись, погладил бороду, как плотник, оценивающий сложную для обработки древесину. На нем была простая белая накидка, та же, что и всегда, в которой он, вероятно, и спал. Айнонийский шелк был настолько тонок, что сминался в тысячу складок на каждом суставе, напоминая в тусклом свете восьмиугольного очага ветвящуюся лозу.
Пройас сидел в полном имперском обмундировании, его золотая броня врезалась в бедра, синий плащ по церемониальной моде был обмотан вокруг пояса.
– А ведь у кого-то такого зрения и нет, – заметил Келлхус. – И некоторые не видят ничего, кроме контуров своих страстей, не понимая происхождения этих каракулей. Большинство слепы. Могут ли они знать столько же?
Пройас смотрел, не отрываясь, на мерцающее пламя, тер щеки, вспоминая его колдовской жар. Люди невосприимчивы к своей душе… За всю свою жизнь он встречал много таких людей, стоило только задуматься на эту тему. Столько глупцов попадалось на пути.
– Нет, – задумчиво произнес он. – Они считают, что видят все, что можно увидеть.
Келлхус улыбнулся в подтверждение его слов.
– А почему так?
– Потому что они не знают ничего иного, – ответил Пройас, осмелившись поднять глаза на своего соверена. – Нужно увидеть больше, чтобы узнать, что тебе ведомо недостаточно.
Келлхус поднял деревянный сосуд, чтобы наполнить опустевшую чашу Пройаса.
– Очень хорошо, – заметил он, наливая анпоя. – Значит, ты понимаешь разницу между собой и мной.
– Я?
– Ты слеп там, где я вижу.
Пройас задумался, отхлебнув из чаши. Резкий запах нектара, острота ликера. Во времена, когда простая вода стала роскошью, пить анпой казалось непристойным излишеством. Но, в конце концов, в этой комнате все было пропитано привкусом чуда.
– Вот… вот почему Акхеймион говорил правду?
Один этот вопрос вызывал тошноту. Само обсуждение личности старого учителя и его ереси стесняло Пройаса, а тот факт, что Келлхусу были известны мысли этого непокорного, волновал его еще больше. Пройас не столько предал забвению Друза Акхеймиона, сколько повернулся к нему спиной, как к людям, от которых ждут слишком резких поступков, чтобы честно с ними считаться. Он вырос в обществе колдуна, постоянно находясь в тени критического взгляда, постоянно цепляясь за него, блуждая в тумане нелегких вопросов. Каждый раз, думая о нем, он испытывал острое волнение из-за некой духовной незащищенности, в голове звучал его мягкий, обходительный голос: «Да, Проши, но как ты это узнал?»
А теперь, спустя двадцать лет после его публичного заявления и последующей ссылки, Келлхус по непонятным причинам вызывает призрак этого человека и вспоминает его вопросы. Почему?
Пройас был там. От стыда он стиснул зубы, прищурил глаза, чтобы слезы не потекли по щекам, наблюдая, как колдун обвиняет первого истинного пророка за тысячу лет! Обвиняет Святейшего аспект-императора во лжи…
Только остались ли до сих пор, когда грядет апокалипсис, его слова правдой?
– Да, – сказал Келлхус, глядя на него с обезоруживающей концентрацией.
– Значит, даже сейчас вы… манипулируете мной?
Экзальт-генерал едва мог поверить, что задал этот вопрос.
– Для меня не существует другого варианта в общении с тобой, – ответил аспект-император. – Я вижу то, что ты не можешь разглядеть. Источники твоих мыслей и чувств. Пределы твоего страха и амбиций. Тебе ведом только фрагмент Нерсея Пройаса, которого вижу я. С каждым словом, которое я говорю тебе, ты упускаешь большую часть.
Вот оно что – каждый раз проверка… Келлхус прощупывает его, готовит к какому-то испытанию.
– Но…
Аспект-император осушил чашу одним глотком.
– Как случилось, что ты почувствовал себя свободным думать и говорить все, что твоей душе угодно?
– Да! Я никогда не чувствовал себя так свободно, как с вами! Везде, куда бы я ни пошел, я ощущал зависть и осуждение. А с вами я знаю, что у меня нет причин для осторожности или беспокойства. С вами я сам себе судья!
– Но единственный человек, которого ты хорошо знаешь, – Пройас Меньший. А я знаю Пройаса Большего, которого держу в железных оковах. Я дунианин, мой друг, как и заявлял Акхеймион. Нужно быть рабом, чтобы всего лишь стоять в моем присутствии.
Возможно, в этом и заключался глубочайший смысл, вся соль этих мучительных уроков. Понять, как мало он из себя представляет…
И это открытие не ужаснуло и не ошеломило его.
– Но я ваш добровольный раб. Я выбрал жизнь в оковах!
Он не чувствовал никакого стыда за сказанное. С самого детства он ощущал восторг в повиновении. Быть рабом истины значит быть хозяином над людьми.
Аспект-император отклонился назад, окруженный неземным сиянием. Вихрящееся пламя в очаге рисовало на стенах позади него неясные образы страшного суда. Экзальт-генерал мог бы поклясться, что в какой-то момент увидел бегущих детей…
– Выбор, – улыбнулся его Верховный Повелитель. – Воля…
– Твои оковы сделаны из того же самого железа.
Сорвил с Цоронгой запросто сидели в пыли у входа в палатку, которую они теперь делили на двоих, поглощая свой паек. Избавившись от роскошного павильона наследного принца. От ритуальных париков. Отказавшись от пышных подушек, узорного убранства. Отпустив рабов, которые несли на себе всю эту бессмысленную роскошь.
Нужда, как писал прославленный Протат, создает бриллианты из ничего и обращает нищету в золото. Для воинов Похода богатство теперь измерялось отсутствием ноши.
Они сидели рядом и, не веря своим глазам, взирали на фигуру, которая, покачиваясь, приближалась к ним, по колено окутанная пылью. Они сразу узнали, кто это, хотя сердце отказывалось верить тому, что было не в силах вынести. Руки и ноги, похожие на черные веревки. Белые, как небо, волосы. Он шел, шатаясь, явно уставший от долгой дороги, ноги заплетались, пройдя не одну тысячу шагов. Только взгляд оставался неподвижным, словно все, что осталось от него, сконцентрировалось в зрении. Он ни разу не моргнул, пока подходил.
Пошатываясь, он остановился перед ними.
– Я думал, что ты умер, – сказал Цоронга, поднимая на него полные ужаса глаза.
Голос его дрожал от смятения и признательности.
– Мне сказали… – проскрежетал Оботегва, растянув губы в подобие улыбки, что моя смерть… это твой долг…
Сорвил попытался уйти, но наследный принц окликнул его, попросив остаться.
– Прошу тебя… – произнес он. – Пожалуйста.
Сорвил проводил старика в палатку, потрясенный до тошноты его легкостью. Потом смотрел, как Цоронга пережевывает еду и предлагает получившуюся массу Оботегве. Затем он приподнял его ноги, чтобы омыть их, но окатил водой только голени, потому что мыски и пятки были изъедены язвами. Он слушал, как Цоронга что-то тепло шептал больному слуге на их родном языке. Сорвил ни слова не понимал, но любовь, благодарность и раскаяние превосходят всякие различия в языках даже на разных концах света.
Сорвил видел, как из глаз Оботегвы выкатились две слезы, словно они были последними, и он как-то сразу понял, почему так: этот человек слишком долго жил только для того, чтобы получить разрешение умереть. Облигат сунул дрожащие пальцы под тунику и извлек маленький золотой цилиндр, который Цоронга сжал с торжественным видом, не веря в происходящее.
Сорвил смотрел, как его друг провел ножом по запястьям старика.
И масло, которое поддерживало в Оботегве огонь жизни, потекло на землю, пока все пламя его не угасло. Сорвил смотрел на безжизненное тело, и оно казалось сухим, как сама земля.
Цоронга издал крик, словно освободился от слишком долгого и мучительного обязательства быть сильным. Он плакал, и в горе его слышались гнев, и стыд, и скорбь. Сорвил обнял его, чувствуя, как рыдания сотрясают его сильное тело.
После, когда ночь растянула свое холодное покрывало над миром, Цоронга поведал одну историю, как в восемь лет он без всякой видимой для него причины начал завидовать своему старшему кузену за то, что у того есть боевой пояс, причем настолько сильно, что проник к нему и украл его.
– Все сверкает в глазах ребенка, – произнес он опустошенно, словно только что осиротел. – Блестит больше, чем подобает…
Считая себя весьма неглупым, он позаботился спрятать его в пристройке к своей комнате, где жил Оботегва, положив в свою сумку с книгами. Естественно, учитывая церемониальную важность Пояса, как только была обнаружена пропажа, поднялся шум и крик. По некой зловещей прихоти фортуны его вскоре нашли среди вещей Оботегвы, и Облигат был взят под стражу.
– Конечно, все понимали, что виновником был я, – объяснил Оботегва, уставившись на свои преступные ладони. – Это старый обычай, бытующий среди моего народа. Способ содрать кору, как говорят. Кого-то другого обвиняют в твоем преступлении, и, пока ты не сознаешься, ты будешь вынужден наблюдать его наказание…
Охваченный стыдом и ужасом, которые так часто делают из детей марионеток, Цоронга ни в чем не признался. Даже когда Оботегву высекли, он ничего не сказал, и, к своему вечному стыду, Облигат также не проронил ни слова.
– Представь… весь двор смотрит, как его секут, отлично зная, что во всем виноват я один!
И он поступил так, как большинство детей, загнанные в угол какой-то неудачей или слабостью: он заставил себя поверить. Он убедил себя, что пояс украл Оботегва, из злобы, поддавшись соблазну – кто знает, что движет малыми детьми?
– Я был ребенком! – выкрикнул Цоронга тонким, как у восьмилетнего мальчишки, голосом.
Прошел день. Два. Три. А он так и не сказал. Весь мир, казалось, был оплетен его страхом. Отец прекратил разговаривать с ним. У матери в глазах постоянно стояли слезы. Но этот фарс продолжался. На каком-то уровне сознания он понимал, что всем известно, но упрямство не позволяло уступить. Только Оботегва обращался с ним точно так же, как раньше. Только Оботегва, весь исполосованный, продолжал с ним играть.
Потом отец позвал его вместе с Оботегвой в свои апартаменты. Сатакхан был в такой ярости, что пинал светильники, рассыпая горячие угли по полу. Но Оботегва, верный своему нраву, оставался любезным и спокойным.
– Он заверил отца, что мне стыдно, – признался наследный принц с опустошенным взглядом. – Призвал его вспомнить мои глаза и скрепить сердце, чтобы пережить боль, которую ему пришлось наблюдать. Учитывая это, мое молчание должно быть причиной гордости, ибо горе тому правителю, который вынужден нести бремя постыдных тайн. «Только слабые правители признаются в слабости, – сказал он. – Только мудрые правители могут вынести все бремя своих преступлений. Крепитесь, ибо ваш сын силен и мудр…»
После этих слов Цоронга на время умолк. Он взглянул на темное тело у своих ног и заморгал, не в состоянии поверить в случившееся. Сорвил совершенно точно знал, что он чувствует, – когда теряешь гораздо больше, чем отдельный голос или взгляд в переполненной людьми жизни. Он знал, что в жизни Цоронги есть вещи, которые касаются только его и Оботегвы, – мир, который они делили между собой, мир, который канул в небытие.
– И что ты думаешь? – решился спросить Сорвил.
– Что я был глупцом и слабаком, – сказал Цоронга.
Они еще долго говорили об Оботегве, и этот разговор казался неотличимым от разговоров о жизни. В их словах перемежались мудрость и глупость, как часто в речах молодых, образованных людей. Наконец, когда усталость и горе взяли верх, Цоронга поведал королю Сакарпа, как Оботегва настаивал, чтобы он подружился с Сорвилом, как престарелый Облигат всегда верил, что он когда-нибудь удивит их всех. А наутро наследный принц поведал ему, что добавит имя Харуила в список предков.
– Брат! – потрясенно прошептал Цоронга. – У Сакарпа теперь брат в Зеуме!
Они спали рядом с мертвым, по обычаю Высокосвященного Зеума. Их глубокое дыхание, соответствующее ритму жизни, венцом обрамляло бездыханное тело.
Проснувшись до Интервала, они похоронили Оботегву, не оставив никакого знака на могиле, вырытой в серой, безотрадной земле.
Сорвил с Цоронгой держались на краю свиты генерала, отупевшие от бессонницы и расхода чувств. Солнце перевалило за полдень, отбрасывая тени на восток. Линии земли, монотонным полукругом лежавшей перед ними, ломались и множились. Невысокие холмы тянулись низкими грядами. Камешки осыпались со склонов. Армия Среднего Севера немедленно заполонила весь горизонт за ними, их несметные флаги казались не больше теней в клубящейся пыли. Воины скакали, как всегда в это время дня, сдвинув брови под яркими лучами солнца, мысли их блуждали в полуденной скуке.
Сорвил первым заметил пятнышко, низко зависшее над горизонтом на западе. Он заимел привычку изучать и рассматривать, прежде чем сообщать, поэтому он не сказал ничего, пока не убедился, что действительно видит какой-то знак. Был ли это еще один аист, прилетевший передать необъяснимое?
Но он быстро отказался от этой мысли. Что бы это ни было, но оно висело в воздухе, напоминая скорее шмеля, чем птицу, слишком тяжелое для полета…
Он смотрел, прищурившись скорее потому, что не верил своим глазам, чем от яркого солнца. И увидел черных лошадей – четверку лошадей. А потом – колеса…
Колесница, догадался он. Летящая колесница.
Какое-то время он просто смотрел, пораженный, покачиваясь в седле в ритме крупной рыси.
Хор сигналов тревоги прорезал воздух. Колонный эскорт генерала перестроился ближе к флангам, поблескивая золотистым оружием и зелеными туниками. Лазоревки во главе с Сервой выкрикнули в унисон заклинание, выпустили волны света, взметнувшись в небо.
Волшебная колесница двигалась по невысокой дуге над пыльным ландшафтом. Солнечный свет вспыхивал на ее бортах, украшенных затейливой резьбой. Сорвил заметил три бледных лица, покачивающихся над золоченым бортом – от одного из них, растянувшего в крике уста, исходил свет.
Каютас, со своей стороны, не проявил никакого удивления или поспешности.
– Тишина! – крикнул он своему ближайшему окружению. – Соблюдайте приличия!
А потом, не объяснив ни слова, рванулся с места, пуская лошадь галопом и оставив за собой длинный плюмаж пыли.
Ведьмы неподвижно зависли в воздухе, их световые волны вились и колыхались вокруг них.
Эскорт, который обычно скакал неплотной массой, растянулся серпом, когда знать и офицеры вырвались вперед. Сорвил с Цоронгой наблюдали из центра толпы. Небесная колесница, накренившись в сторону принца-империала, повернула к земле. Копыта четверки врезались в обнаженный торф, и крылья пыли и гравия взметнулись по бокам. Колеса, горевшие золотом, пестрели невидимыми спицами. Центральная фигура отклонилась назад, изо всех сил натягивая вожжи.
Привстав в стременах, Каютас поскакал навстречу, привлекая их внимание поднятой рукой.
Три незнакомца одновременно повернулись к нему.
– Это не люди, – заметил Цоронга.
Голос его звучал неровно, но это было не от усталости. Он звучал, как у человека, у которого переполнился запас удивления чудесам. Которому приходится заставлять себя верить.
Кидрухильский генерал остановил своего пони, обмениваясь таинственными приветствиями. В сухом воздухе ничего не было слышно. Затем, через мгновение, он развернул коня на месте и вернулся к своей изумленной команде. Небесная колесница позади него накренилась, катясь по земле…
И почему-то из всех явлений, внушающих благоговейный трепет, виденных Сорвилом, ничто не приковывало большее внимание, чем золоченая колесница, катящаяся в открытое небо. Он понял, почему тон Цоронги был таким умоляющим, у него самого в душе царило смятение.
Нелюди.
Столько чудес. Все они говорили о том, что у истоков их происхождения стоит его враг.
По причинам, которые он едва был способен постичь, экзальт-генерал задумался об осаде и нападении на Шиме в последнюю ночь Первой Священной Войны, когда вышел прогуляться от своего шатра к черным силуэтам Амбилика. Спасаясь бегством на улицах Святого города, он влез на фронтон древней мануфактуры, откуда смотрел, как аспект-император сражается с последним варваром-сишауримом. Их было пять, более могущественных, несмотря на грубость их искусства, чем самые совершенные адепты. Пять нечеловеческих фигур, парящих высоко над пылающим городом, глаза которых были устроены так, что они видели Воду-бывшую-Светом, были мертвым Анасуримбором Келлхусом.
Такова была сила человека, создавшего новый культ. Таково было его могущество. Тогда как он позволяет сомневаться в своей вере? Почему надежда и непоколебимая решимость обращаются в дурные предчувствия и грызущую тоску?
Воины Похода окликнули его, как всегда, когда он шел по внутренним проходам в лагере, но на этот раз он не ответил на их приветствия. Пройас буквально сбил с ног лорда Кураса Нантиллу, генерала сенгемийцев, на входе в Амбилику, настолько глубоко задумался. Вместо извинения он сжал ему плечо.
Наконец равнины отступили. И Великий Поход, итог его надежд и нелегкого труда, наконец-то ступил на легендарные земли, о которых говорилось в Святых Сагах. Наконец они вошли в тень мерзостного Голготтерата – Голготтерата!
После всех пережитых опасностей и лишений наступило время ликования. Ибо кто во всем мире мог бы противостоять мощи Анасуримбора Келлхуса?
Никто.
Даже мертвый Консульт в Мог-Фарау.
Тогда почему так колотится сердце?
Он решил задать этот вопрос. Решил забыть о собственной гордости и обнаружить все свои опасения…
Решил спросить Пророка, как он сам мог сомневаться в нем?
Но на этот раз аспект-император был в своей комнате не один. Он стоял, раскинув руки в стороны, пока два раба хлопотали вокруг него, одевая в пышные церемониальные одежды: костюм короля-завоевателя народа кетья из глубокой древности. Он состоял из длинной накидки, которая была завязана у щиколоток. Золотые наручи доспеха охватывали его предплечья, соответствуя таким же на голенях. На латах, прикрывающих грудь, поблескивали стоящие друг против друга киранейские львы. Высокий, сияющий, он будто сошел с древнего рельефа, если не считать двух голов демонов, висящих у него на поясе…
– Ты чем-то обеспокоен, – сказал Келлхус, широко улыбнувшись экзальт-генералу. – При всех своих стремлениях, при всей своей верности, ты остаешься прагматиком, Пройас.
Рабы продолжали свою бесшумную работу, затягивая ремни и шнурки. Аспект-император оглядел свой наряд, словно предлагая самого себя в качестве ничтожного образца.
– У тебя не хватает терпения овладеть инструментами, которыми ты не в состоянии немедленно воспользоваться.
Когда Пройас был ребенком, одной из его обязанностей было нести шлейф матери на публичных церемониях. Он запомнил из этого фарса только то, что все время наступал на длинный шлейф, спотыкался, сжимал его в руках, а он то и дело выскальзывал, потом снова ковылял следом за ним, а весь конриянский двор ревел от хохота вокруг него. И Келлхус также всеми возможными способами заставлял его чувствовать себя дураком, вечно спешащим вдогонку, вечно оступающимся…
– Если я оши…
Келлхус прервал его, положив теплую руку на плечо.
– Прошу тебя, Пройас. Я просто говорю, что мы сегодня вечером пытаемся разрешить земные вопросы…
– Земные вопросы?
Широкая улыбка показалась среди льняных кудрей бороды и усов на лице аспект-императора.
– Да. Правитель Нелюдей наконец ответил на наш призыв.
Земные, задумался Пройас, не означает низкие.
– Даже сейчас их посол ожидает здесь, в Амбилике, – продолжал Верховный Лорд. – Мы примем его в Палате Одиннадцати Вех…
Через несколько мгновений Пройас оказался поглощенным организационной суетой, которая всегда сопровождает жизнь под покровами власти. Рабы вымыли ему руки, почистили щеткой и надушили доспехи, смазали маслом и причесали волосы и бороду. Отчасти он всегда находил замечательной ту степень координированности действий, которая присутствует даже в самых простых и неподготовленных государственных делах. Имперский евнух, украшенный знаками отличия со всего Трехморья, провел его в проветренную Палату Одиннадцати Вех. Келлхус уже стоял на низком помосте, раздавая обычные инструкции небольшой группе приближенных. Эккину, волшебный гобелен, обрамлявший трон, поблескивал золотом на черном фоне. Заметив Пройаса, Келлхус жестом приказал ему встать рядом.
Мысли в голове у экзальт-генерала завертелись, когда он занял свое место рядом с троном и убедился, что ощущает, как исходящие от Эккину флюиды закручиваются в сложный, символический узел у него за спиной. Он никогда не мог постичь все значение Нелюдей для Похода, особенно после их распада, поскольку, какую бы силу они ни представляли сейчас, она была всего лишь осколком былой славы, и едва ли что-нибудь могло сравниться с мощью Великого Похода, по крайней мере, по его скромному, человеческому мнению. Но Келлхус сотнями, если не тысячами отправлял людей на смерть в своих беспрестанных попытках наладить контакт с Ниль’гиккасом: небольшие флотилии отчаливали от берегов Трех Морей к Зеуму, а оттуда шли в туманный Океан, направляясь к легендарным берегам Инжор-Нийаса.
Все ради того, чтобы заключить союз с королем, возраст которого перевалил за тысячу лет.
Еще один вопрос для нелегкого обсуждения.
Пройас посмотрел вверх, в сумрак высокого шатра. Горели только три светильника, казавшиеся маленьким островком света среди настолько погруженных в тень знамен, стен и панелей, что они казались призраками здания.
Рабы и распорядители удалились, унеся с собой ощущение суеты. Если не считать стоявших в тени стражников, расставленных по периметру палаты, они остались вдвоем.
– Я отправил в гарем бусы, – сказал Келлхус. – А ты считаешь моих жен безобразными…
Экзальт-генерал от ужаса зашелся в кашле.
– Что?
– Твой вопрос, – посмеиваясь, произнес Келлхус.
Он говорил странно теплым тоном друга, который всегда останавливается за несколько шагов на пути к покою, который приносит истина.
– Ты хочешь узнать, как можно допускать сомнения после стольких лет служения и стольких чудес.
– Я… не уверен, что понимаю.
– Вот причина, по которой люди предпочитают, чтобы их пророки были мертвы, Пройас.
Келлхус искоса посмотрел на экзальт-генерала, с любопытством приподняв одну бровь, словно спрашивая: «Понимаешь?»
И Пройас понял, осознал то, что и так всегда предполагал. Его осенило, что вопрос, который он хотел задать, был не вопросом, а прошением. Он не столько сомневался, сколько тосковал.
По простоте незамысловатой веры.
– Мы начинаем верить с детства, – продолжал Келлхус. – И делаем правилом жизни наши детские ожидания, мерилом того, что должно быть священным…
Он показал на орнамент – скромный, но затейливый.
– Простота. Симметрия. Красота. Это только внешнее выражение святости – позолота, которая вводит в заблуждение. А то, что за пределами понимания она трудна и неприятна, не видно никому, кроме Бога.
Вошедший сенешаль объявил о прибытии гостей.