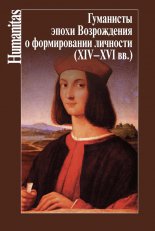Сочинения Штайнер Рудольф
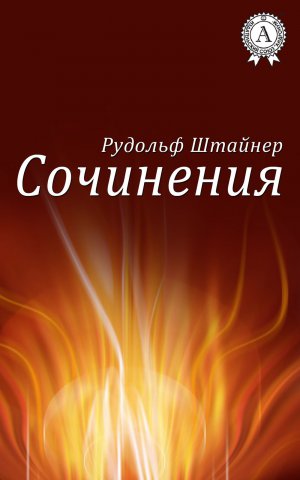
– Зачем вы меня?… – сказал Калист и не докончил.
Красивая горячая рука Камиль Мопен коснулась его руки и прервала его.
– Природа изменила для меня свои законы и дала мне еще пять, шесть лет молодости. Я отвергла вас из эгоизма. Рано ли, поздно ли, разница в возрасте принудила бы нас расстаться. Мне и так на тринадцать лет больше, чем ему: и этого довольно.
– Вы и в шестьдесят лет будете прекрасны! – геройски воскликнул Калист.
– Дай Бог! – с улыбкой отвечала она, – к тому же, дорогое дитя мое, я хочу любить его. Несмотря на его холодность, на отсутствие всякой творческой фантазии, на его трусливую беззаботность и зависть, мучащую его, я убеждена, что под этими лохмотьями скрывается величие духа, я надеюсь, что смогу наэлектризовать его, спасти его от самого себя и привязать ко мне. Увы! У меня здравый ум, но слепое сердце.
Она до ужаса ясно видела свой внутренний мир. Она страдала и анализировала свое страдание, вроде того, как Кювье и Дюпюнтрен объясняли своим друзьям роковой ход своих болезней и постепенное приближение смерти. Камиль Мопен так же хорошо знала чувство любви, как двое ученых – анатомию.
– Я приехала сюда, чтобы хорошенько изучить его: он уже стал скучать. Ему не хватает Парижа, я говорила ему это: у него болезненная потребность критиковать кого-нибудь; а тут нельзя ни отделать автора, ни осудить какую-нибудь систему, ни повергнуть в отчаянье поэта; к тому же здесь он не смеет предаться разгулу, который освободил бы его от тяжелого наплыва мыслей. Увы! Может быть, и моя любовь к нему недостаточно искренна, чтобы заставить его отрешиться от умственной жизни. Я недостаточно заставляю его терять голову! Напейтесь оба с ним сегодня вечером, а я скажусь больной и не выйду из своей комнаты: тогда я и узнаю, права я, или нет.
Калист покраснел, как вишня, от подбородка до волос, даже уши его загорелись.
– Боже мой! – воскликнула она, – ведь я нисколько не подумала о том, что развращаю тебя, ведь ты невинен, как молодая девушка. Прости меня, Калист! Когда ты полюбишь, то узнаешь, что можно даже взяться зажечь Сену, только бы доставить хотя небольшое удовольствие своему предмету, как любят выражаться ворожеи на картах.
Она на минуту замолчала.
– Бывают на свете люди с гордым и строго последовательным характером, которые в известном возрасте говорят: «Если бы мне пришлось начать жизнь сызнова, то я поступил бы точно так же!» А я хотя и не считаю себя малодушной, говорю: «Я хотела бы быть такой женщиной, как ваша мать, Калист!» Иметь такого Калиста, какое это счастье! Будь мой муж величайшим глупцом, я все-таки была бы ему покорной и смиренной женой. А между тем я не знаю за собой никакой вины по отношению к обществу: в жизни я вредила только сама себе. Увы! дорогое дитя мое, женщина не может прожить одна в обществе.
«Привязанности, которые не находятся в полной гармонии с социальными и естественными законами, привязанности необязательные – не прочны. Страдать, чтобы страдать – нет, лучше хоть кому-нибудь быть полезной. Что мне за дело до моих кузин Фокомб, которые уже перестали быть Фокомбами, которых я не видела в течение двадцати лет и которые вдобавок вышли замуж за негоциантов! Вы для меня сын, не доставивший мне неприятных обязанностей материнства, я оставлю вам свое состояние, и вы будете счастливы, по крайней мере, в этом отношении благодаря мне, вы, дорогое воплощение красоты и прелести, которого не должна коснуться никакая перемена, никакая порча.
Сказав это прочувствованным тоном, она опустила свои длинные ресницы, чтобы он не мог ничего прочесть в ее глазах.
– Вы ничего не захотели от меня, – сказал Калист, – и я отдам ваше состояние вашим наследникам.
– Дитя! – сказала Камиль низким голосом и по щекам ее потекли слезы. – Неужели ничто не спасет меня от меня самой!
– Вы хотели мне рассказать одну историю и письмо… – сказал великодушный юноша, желая отвлечь ее от охватившей ее грусти.
Но он не докончил, она прервала его речь.
– Вы правы, прежде всего, надо быть честной женщиной. Вчера уже было слишком поздно, ну, а сегодня, по-видимому, много есть свободного времени впереди, – с горькой иронией заметила она. – Чтобы исполнить мое обещание, я сяду таким образом, чтобы видеть далеко вдаль по берегу.
Калист повернул ей большое готическое кресло и открыл окно. Камиль Мопен, разделявшая восточные вкусы знаменитой писательницы, взяла великолепный персидский кальян, подаренный ей посланником. Она положила пачули в жаровню, вычистила мундштук, надушила перышко, которое она употребляла только один раз, подожгла желтые листья, поставила сосуд с длинным, покрытым синей эмалью и золотом, горлышком, составлявший главную часть этого красивого, созданного для наслаждения изобретения и, позвонив, велела подать чаю.
– Может быть, вы выкурите папиросу? Ах! Я все забываю, что вы не курите. Ведь так можно редко встречать такого чистого юношу! Чтобы коснуться атласного пушка, покрывающего ваши щеки, по-моему, нужно руку Евы, только что вышедшей из рук Бога.
Калист покраснел и сел на табурет, не заметив глубокого смущения, от которого Камиль вся покраснела.
– Особа, от которой я получила вчера это письмо, и которая, может быть, завтра приедет, маркиза де Рошефильд, – начала Фелиситэ. – Выдав свою старшую дочь за знатного португальского вельможу, навсегда поселившегося во Франции, старый Рошефильд, который уступает вам в древности рода, пожелал через сына породниться со старинным дворянством, чтобы доставить сыну пэрство, которое не удалось ему получить самому. Графиня де Монткорне указала ему в департаменте Орна на мадемуазель Беатрису-Максимилиенну-Розу де Кастеран, младшую дочь маркиза де Кастеран, который не хотел давать приданого за своими двумя дочерьми, чтобы оставить все состояние своему сыну, графу де Кастеран. Кастераны, по-видимому, доводят свою родословную до Адама. Беатрисе, которая родилась и выросла в замке Кастеранов, было тогда – брак этот состоялся в 1828 году – лет двадцать. Она отличалась тем свойством, которое вы, провинциалы, называете оригинальностью, но которое только доказывает возвышенность воззрений, некоторую восторженность, любовь ко всему изящному и художественному. Поверьте опытности женщины, которая сама была на этом скользком пути – для женщины нет ничего опаснее таких вкусов: удовлетворяя им, можно дойти до того состояния, в каком нахожусь теперь я и до чего дошла маркиза… до падения в пропасть. Одни мужчины всегда имеют при себе палку, с помощью которой они удерживаются на краю пропасти, у них есть сила, которой у нас нет, и которая делает из нас чудовищ, если она у нас только есть. Старая бабушка ее, вдовствующая де Кастеран, была очень довольна, что она вышла за человека, которого она превосходила по благородству и по своим воззрениям. Рошефильды повели себя прекрасно по отношению к ней, и Беатриса могла только хвалить их. Точно так же и Рошефильды были вполне довольны Кастеранами, так как те, благодаря своему родству с Вернелями, с д’Эгриньонами и Труавилями, доставили пэрство своему зятю во время щедрой раздачи пэрства Карлом X, которая была признана недействительной во время июльской революции. Рошефильд довольно глуп, но, тем не менее, он начал с того, что заполучил себе сына и так как он слишком скоро успел надоесть своей жене, то она скоро отдалилась от него. Первые дни брачной жизни часто составляют камень преткновения, как для неумных людей, так и сильной любви. Будучи очень недалек, Рошефильд неопытность жены в сердечных делах принял за холодность и поставил Беатрису в разряд лимфатических и холодных. Она блондинка – на этом основании он счел себя вполне в безопасности и стал вести холостую жизнь, вполне полагаясь на воображаемую холодность маркизы, на ее гордость и на открытую жизнь, которая создает тысячу преград для парижанки. Вы поймете, о чем я говорю, когда побываете в этом городе. Те, кто хотел извлечь выгоду из его беззаботного спокойствия, говорили ему: Как вы счастливы, у вас такая холодная жена, что она неспособна влюбиться, она вполне довольствуется тем, что блистает в свете, все ее прихоти чисто артистические, все ее желания и ревность удовлетворены будут, если она себе создаст салон, где будут собираться остроумные люди, она готова устроить шабаш музыки, целую оргию литературы». А муж был в восторге от этих шуточек, которыми в Париже одурачивают глупцов.
Впрочем, Рошефильд не совсем обыкновенный глупец: у него тщеславия и гордости столько же, сколько у умного человека, с тою только разницей, что умные люди надевают на себя личину скромности и обращаются в кошек, которые ласкаются к вам, чтобы и вы их приласкали; а самолюбие Рошефильда очень откровенно и грубо, и очень любит восторгаться сам собой. Тщеславие его было низменного свойства и, помести его в конюшню, он и тут нашел бы пищу для самохвальства. Бывают у людей такие недостатки, о которых знают только близкие люди и которые появляются только в скрытой от всех интимной жизни; в свете же, по отзыву общества, такие люди слывут за приятных людей. Рошефильд по всем данным должен был стать нестерпимым, едва только в нем явилось бы подозрение, что его семейному очагу грозит опасность: его ревность мелочна и труслива; будучи застигнут врасплох, он способен стать зверем; он будет трусливо таить свою ревность в течение шести месяцев и совершит убийство на седьмой месяц. Он думал, что очень ловко обманывает жену, и вместе с тем боялся ее: два повода к деспотизму, раз он заметить, что маркиза из милости делает вид, что совершенно равнодушно смотрит на его неверность. Я нарочно разбираю его характер, чтобы объяснить вам поведение Беатрисы. Маркиза искренно восхищалась мной; но от восхищения до зависти – один шаг. Моя гостиная считается одной из самых интересных в Париже: ей захотелось устроить у себя такой же салон, и она всячески переманивала от меня моих знакомых. Я никогда не умею удерживать тех, кто имеет намерение отойти от меня. У нее стали собираться разные поверхностные люди, которые от скуки сходятся со всеми; входя в гостиную, они уже думают, как бы уйти; но кружка ей не удалось создать. В этот период она, по-моему, жаждала стать известной. Она всегда отличалась величием души, царственной горделивостью; в ее уме постоянно зарождались новые мысли; она удивительно легко схватывала и понимала всевозможные сведения: сейчас она будет говорить с вами о метафизике и музыке, сейчас о богословии и живописи. Вы увидите ее теперь вполне сложившейся женщиной, но в ней произошло мало перемены с тех пор, как мы ее видели молодой новобрачной. В ней заметна некоторая аффектация: она слишком старается показать, что знает разные трудные вещи – китайский и еврейский языки, что она имеет понятие об иероглифах и может прочесть содержание папирусов, которыми обернуты мумии. Беатриса – светлая блондинка, перед которой покажется негритянкой светлокудрая Ева. Она очень тонка и пряма, как свечка, бела, как хлеб для причастия; овал ее лица довольно длинный и острый; цвет лица очень изменчив: сегодня она бела, как полотно, а завтра лицо ее вдруг делается смуглым и все точно покрывается подкожными точечками, как будто в одну ночь кровеносные шарики покрылись пылью; у нее чудный, но несколько вызывающий лоб; зрачки глаз бледно-зеленые, глазное яблоко совершенно белого цвета; брови мало заметны; веки точно отяжелели. Под глазами часто бывают круги. Нос ее, изогнутый, с узкими ноздрями, говорит об ее хитрости и придает ей суровое выражение. Рог у нее австрийский, верхняя губа толще нижней, которую она часто презрительно отставляет. Она всегда бледна и делается розовой только от сильного волнения. Подбородок ее довольно толст; мой также не тонок и, может быть, мне не следовало бы поэтому говорить вам, что женщины с жирным подбородком очень требовательны в любви. Я редко встречала такую красивую талию, как у нее; спина ее ослепительно бела; прежде она была слишком плоска, а теперь, говорят, она округлилась, пополнела, но бюст и руки остались худощавы, не пополнели, как плечи. Вообще у нее такая фигура и такие непринужденные манеры, что они заставляют забыть об ее недостатках и рельефно выдвигают ее красоту. Природа наделила ее той царственной осанкой, которую приобрести нельзя и которая так идет ей, выставляя на вид благородство ее происхождения; все в ней гармонично, и несколько худые, но красивой формы бедра, и чудная ножка, и роскошные, ангельские, точно залитые сиянием, волосы, которые особенно любил рисовать Жироде. Не будучи безупречной красавицей, она, если захочет, может произвести сильное, неизгладимое впечатление. Ей стоит только одеться в бархат вишневого цвета, с кружевами, вколоть в голову красные розы, и она становится божественно красивой. Если бы каким-нибудь чудом она могла бы одеться в костюм тех времен, когда женщины носили лифы с массой лент, кончающиеся узким мысом и переходящие в широкие, торчащие складки парчовых юбок; когда женщины окутывались в сложенные крупными складками фрезы, прятали руки в рукава с прорезами и кружевными буфами, так что видны были только концы пальцев, точно пестик в чашечке цветка; когда они сверх завитых в букли волос надевали перевитый драгоценными каменьями шиньон – вот тогда Беатриса могла бы с успехом соперничать с такими идеальными красавицами, каких вы здесь видите.
Фелиситэ указала Калисту на прекрасную копию с картины Миериса, где изображена женщина в белом атласном платье, которая стояла с нотами в руках и пела брабантскому знатному вельможе; негр наливает в стакан на ножке старое испанское вино, а старая экономка укладывает печенье.
– Блондинки, – продолжала она, – имеют над нами, брюнетками, то преимущество, что они более разнообразны: есть блондинки ста разных оттенков, а брюнетки все похожи друг на друга. Блондинки женственнее нас; мы, француженки-брюнетки, больше похожи на мужчин. Неужели, – сказала она, – вы не влюбитесь в Беатрису после нарисованного мною портрета, как это сделал какой-то принц в «Тысяче одном дне»? Но и тут ты опять опоздал, бедное дитя мое. Но утешься. Ведь всегда первому достаются кости!
Это было сказано ею с известной целью. Восторг, написанный на лице юноши, больше относился к портрету, чем к художнику, труды которого, таким образом, не достигали цели.
– Хотя Беатриса и блондинка, – продолжала она, – но она не так воздушна, как ей бы следовало быть; черты лица очень строги, она изящна, но в ней есть что-то жесткое; оклад лица ее несколько суховат; можно подумать, что она способна запылать тропическим знойным огнем. Она похожа на ангела, который пылает и сохнет. Глаза ее точно вечно томятся жаждой. Когда она смотрит прямо, она всего лучше; а в профиль ее лицо кажется точно сплюснутым между двумя дверями. Вы сами увидите, права ли я. Вот из-за чего мы стали близкими подругами. Беатриса в течение трех лет, с 1828 года до 1831-го, веселилась на последних пирах Реставрации, бывала в свете, при дворе, служила украшением костюмированных балов Елисейского дворца Бурбонов и судила о людях, о вещах и о событиях очень осмысленно и умно. Ум ее был занят. Насколько ошеломленная бурным потоком светской жизни, она не жила сердцем, оно молчало, так как ей пришлось познакомиться с прелестями брака: явился ребенок, роды, одним словом, все эти материнские обязанности, которые я так не люблю. Я не выношу детей: они доставляют только одно огорчение и вечное беспокойство. Я всегда находила, что для нас имеет неоцененное значение свобода, предоставленная нам в наше время и утраченная нами благодаря этому лицемеру Жан-Жаку, свобода делаться матерью или нет, смотря по желанию. Не я одна так думаю, но высказываю это я одна. Беатриса провела бурный год от 1830–1831 года в имении мужа и скучала там, как праведники в раю. Вернувшись в Париж, маркиза не без основания решила, что революция, которая, по мнению некоторых, имела только политическое значение, произведет и нравственный переворот. Тот мир, к которому она принадлежала, не смог возродиться за время неожиданного пятнадцатилетнего торжества Реставрации и поэтому он должен неминуемо искрошиться в мелкие куски под ударами тарана, который быль в руках буржуазии. Она слышала великие слова г-на Лене: «Короли сходят со сцены!» Мне кажется, этот переворот сильно отразился на ее последующей жизни. Она принялась изучать новые доктрины, которые возникали целыми массами в трехлетний промежуток, следовавший за июльской революцией: все эти новые учения роились одно за другим, точно мошкара на солнечном лугу, и увлекли многих женщин. Но, как и все дворяне, она, хотя находила все эти новые идеи превосходными, но все же хотела спасти дворянство. Видя, что личные качества не ставятся ни во что, видя, что знатнейшие фамилии держатся того же молчаливого протеста, который они оказывали Наполеону, и этим ограничивается вся их роль в эпоху великих событий и деяний, а подобная роль во время нравственного переворота равносильна подаче в отставку; сознавая все это, Беатриса предпочла счастье этому молчаливому недовольству. Когда мы вздохнули свободнее, маркиза встретила у меня человека, с которым я надеялась провести всю остальную жизнь – Женнаро Конти, талантливого композитора, неаполитанца по происхождению, но родившегося в Марсели. Конти очень умен, талантливый композитор, хотя он никогда не мог бы составить себе первоклассную известность. Не будь Мейербера и Россини, он, может быть, и прослыл бы гением. Но он имеет над ними большое преимущество: он в вокальной музыке занимает то же место, что Паганини на скрипке, Лист на рояле, Тальони в танцах, и место знаменитого Гара, которого он напоминает. Это не голос, друг мой, это сама душа! Когда пение может затронуть некоторые душевные струны и отвечает тому необъяснимому настроению, которое в данную минуту охватывает женщину, то она погибла. Услыхав пение Женнаро, маркиза безумно влюбилась в него и похитила его у меня. Хотя это пахнет провинцией, но вполне свойственно натуре человека. Она снискала мое уважение и дружбу своим дальнейшим поведением относительно меня. Она считала меня за женщину, которая будет защищать свою собственность, а не знала того, что для меня смешным становится человек, из-за которого ведется борьба. Она приехала ко мне. Эта гордая женщина была так влюблена, что поведала мне свою тайну и отдала свою судьбу в мои руки. Она была очаровательна и осталась одновременно женщиной и маркизой в моих глазах. Я должна вам сказать, друг мой, что женщины часто поступают дурно, но у них есть скрытое величие души, которое никогда не оценят мужчины. Итак, теперь, когда в виду близящейся старости я могу уже писать свое завещание, я скажу вам, что была верна Конти и осталась бы таковой до смерти, но все-таки я хорошо узнала его. Он принадлежит к числу людей, которые очаровательны на вид, но в действительности отвратительны. Он большой шарлатан в сердечных делах. Бывают мужчины, как, например, Натан, о котором я вам говорила, они обманывают женщин вполне искренне: они лгут сами себе. Поднявшись на ходули, они воображают, что стоят на собственных ногах и вполне простосердечно проделывают разные фокусы. Тщеславие у них в крови; они так и родились комедиантами, хвастунами, с разными вычурами, точно китайская ваза; они готовы смеяться сами над собой. Но они очень великодушны и, благодаря этому, притягивают к себе опасность, точно блестящее царственное одеяние Мюрата. Но мошенничество Конти узнает только его любовница. В нем скрывается знаменитая итальянская ревность, заставившая Карлоне убить Пиолу и нанесшая Паэзиелло удар кинжалом. Это ужасное чувство он скрывает под видом самого любезного дружелюбия. Конти не отваживается смело признаться в своем пороке: он улыбается Мейерберу и говорит ему комплименты, когда в душе разорвал бы его на клочки. Сознавая свою слабость, он притворяется сильным; его тщеславие так велико, что он изображает разные напускные чувства, которых вовсе нет в его сердце. Он выдает себя за артиста, вдохновляемого небом. Для него искусство, говорит он, святая и священная вещь. Он делается фанатиком в разговоре со светскими людьми, хотя в душе издевается над ними; он говорит так красноречиво, что можно подумать, что он глубоко убежден в этом. Это какой-то ясновидящий, какой-то демон, бог, ангел. И все-таки, Калист, хотя бы вы и были предупреждены, вы подпадете под его очарование. Этот южанин, этот пламенный артист в действительности холоден, как лед. Послушайте его: артист – это миссионер, искусство – это религия, которая имеет своих жрецов и должна иметь своих мучеников. Вступивши на эту почву, Женнаро доходит до самого беспорядочного пафоса, на который только способен в своей аудитории какой-нибудь профессор немецкой философии. Вы восхищаетесь его убежденностью, а он не верит ни во что. Возвышая вас до небес своим пением, которое вливает вам в душу сладостный нектар любви, он бросает на вас восторженные взгляды, но в то же время взвешивает силу вашего восторга, и спрашивает себя: «Кажусь ли я им богом?» В то же время он мысленно добавляет: «Я съел слишком много макарон». Вы думаете, что он вас любит, а он вас ненавидит, а вы не знаете почему. Но я-то это знала: он вчера увидал какую-нибудь женщину, к которой почувствовал влечение и издевался надо мной, расточая лицемерные ласки, фальшивые уверения в любви, дорого заставлял платить меня за вынужденную верность. Он ненасытен в своей жажде рукоплесканий, он смеется над всем, все копирует, одинаково хорошо может изобразить и горе и радость, но достигает при этом блестящего результата: он, если захочет, может понравиться, может заставить восхищаться собой, любить себя. Когда я рассталась с ним, он ненавидел свой голос, а между тем своим успехом он обязан гораздо больше ему, чем своему композиторскому таланту, а ему хотелось бы больше быть гениальным творцом вроде Россини, чем таким исполнителем, как Рубини. Я сделала большую ошибку, привязавшись к нему, но раз это случилось, я решилась венчать лаврами своего кумира до конца. Конти, как и многие артисты, большая лакомка, он любит комфорт, удовольствия, он очень кокетлив, вылощен, франтовато одет, и я поощряла в нем все эти вкусы, я любила эту слабую, лживую натуру. Мне завидовали, а я иногда с сожалением улыбалась. Я уважала в нем его мужество, он храбр, а храбрость, говорят, единственная чуждая лицемерия добродетель. В путешествиях я раз подвергла его храбрость испытанию, он действительно рисковал жизнью, которую так любит, но, странное дело, в Париже он часто совершал поступки, которые я называю трусостью ума. Друг мой, я все это знала и потому сказала бедной маркизе: «Вы не знаете, в какую пропасть вы готовы броситься. Вы, как Персей бедной Андромеды, освобождаете меня от утеса. Если он вас любит, тем лучше; но я сомневаюсь в этом, он любит только себя одного». Женнаро был на седьмом небе от гордости. Я не была маркизой, рожденной Кастеран, и он меня забыл в один день. Я доставила себе жгучее наслаждение исследовать до мелочей этого человека. Зная заранее развязку, мне любопытно было видеть, как будет Конти изворачиваться. Бедное дитя мое, мне пришлось за неделю быть свидетельницей разных диких чувств, разных безобразных комедий. Я ничего не скажу вам об этом, вы увидите этого человека здесь. Но теперь, так как он знает, что я его хорошо поняла, он ненавидит меня. Если бы он мог меня зарезать без опасности для себя, то я не прожила бы и двух секунд. Беатрисе я не говорила ни слова. Последнее оскорбление, которое Женнаро до сих пор наносит мне, это – думать, что я способна поделиться своими грустными наблюдениями с маркизой. Он стал теперь вечно озабоченным, задумчивым, потому что не верит ни в чью порядочность. До сих пор по отношению ко мне он разыгрывает роль человека, который не может утешиться, что покинул меня. Он обращается со мной самым нежным, вкрадчивым образом; он ласков, относится ко мне по-рыцарски. Для него всякая женщина – мадонна. Надо долго прожить с ним, чтобы разгадать его фальшивое простодушие и понять невидимую причину этой мистификации. Сам Бог поверил бы ему, такой у него искренний вид. Он обойдет вас своими кошачьими манерами, так что вы ни за что не поверите, что в его уме происходит самая тщательная математическая выкладка. Оставим его. Я простерла свое равнодушие до того, что принимала их у себя. Благодаря этому, самое проницательное в свете парижское общество ничего не узнало об этой интриге. Женнаро, хотя и опьяненный гордостью, считал, вероятно, необходимым играть перед Беатрисой роль: он ничем не выдал себя. Я очень удивилась его поведению, мне все казалось, что он пожелает скандала. Сама маркиза компрометировала себя через год счастья, подвергавшегося всяким превратностям и случайностям парижской жизни. Она несколько дней сряду не видала Женнаро. Я его пригласила к себе обедать, а она должна была приехать вечером. Рошефильд ничего не подозревал; но Беатриса так хорошо знала своего мужа, что, по ее словам, она предпочла бы испытать всякие несчастья скорее, чем выносить ту жизнь, которая ждала ее, если он будет иметь право презирать или мучить ее. Я выбрала тот день, когда по вечерам собирались гости у нашей близкой приятельницы графини де Монкорне. Видя, что мужу подали кофе, Беатриса вышла из столовой, чтобы идти переодеваться, хотя обыкновенно она не принималась так рано за свой туалет.
– Ведь ваш куафер еще не пришел, – заметил Рошефильд, узнав, почему она собирается уходить.
– Меня причешет Тереза, – отвечала она.
– Да куда же вы едете? Ведь не к г-же де Монкорне вы собираетесь забраться с восьми часов.
– Нет, – отвечала она, – но я хочу прослушать первый акт у итальянцев.
Болтливый судья в «Грубияне» Вольтера сойдет за немого по сравнению с праздными мужьями. Беатриса убежала, чтобы избежать дальнейших вопросов и не слышала слов мужа:
– В таком случае мы поедем вместе.
Он сказал это спроста, не имея никакого подозрения на счет своей жены, ведь она пользовалась такой свободой! Он старался ни в чем не стеснять ее, он считал это согласным с чувством собственного достоинства. К тому же поведение Беатрисы не давало никакой пищи для самой строгой критики. Маркиз собирался поехать в другое место, может быть, к своей любовнице. Он оделся еще до обеда, и ему оставалось надеть шляпу и перчатки, когда он услыхал стук кареты, поданной к подъезду. Он прошел к ней и нашел ее совсем готовой; она крайне удивилась при виде его.
– Куда вы? – спросила она.
– Разве я не сказал вам, что поеду с вами к итальянцам?
Маркизе удалось побороть в себе чувство неудовольствия, но щеки ее так покраснели сразу, точно она нарумянила их.
– Так поедем, – сказала она.
Рошефильд пошел за ней, не заметив, что голос ее дрогнул от волнения и от охватившего ее гнева.
– В Итальянскую оперу! – сказал муж.
– Нет! – воскликнула Беатриса, – к мадемуазель де Туш. Мне надо ей сказать несколько слов, – добавила она, когда дверцы захлопнулись.
Карета покатилась.
– Если хотите, – продолжала Беатриса, – я завезу вас сначала к итальянцам, а потом уже поеду к ней.
– Нет, зачем же, – возразил маркиз, – если вам надо только сказать ей несколько слов, то я подожду в карете; теперь только половина восьмого.
Если бы Беатриса сказала мужу: «Поезжайте к итальянцам и оставьте меня в покое!», то он спокойно повиновался бы. Как умная женщина, она побоялась возбудить в нем подозрение, чувствуя за собой вину, и покорилась участи. Когда она уехала из оперы ко мне, муж поехал с ней. Она вошла, вся красная от гнева и нетерпения. Подойдя во мне, она с самым спокойным видом сказала мне на ухо:
– Милая Фелиситэ, завтра вечером я еду с Конти в Италию. Попросите его сделать все нужные приготовления и быть здесь с каретой и паспортом.
Затем она уехала в сопровождении мужа. Всякая сильная страсть жаждет свободы. Беатриса целый год терзалась тем, что так редко и с такими затруднениями видалась с Женнаро, с которым считала себя связанной навсегда. Поэтому я ничему не удивлялась. Будь на ее месте я с моим характером, я поступила бы точно также. Она решилась на огласку, не будучи в состоянии вынести, что муж совершенно невольно вошел наперекор ее планам. Она предотвратила несчастье еще большим несчастьем. Конти был так счастлив, что привел меня в отчаянье: его тщеславие было польщено.
– Вот это называется быть любимым! – восклицал он среди взрывов восторга. – Много ли найдется женщин, готовых пожертвовать своей жизнью, состоянием, уважением общества!
– Да, она вас любит, – сказала я ему, – а вы ее не любите.
Он пришел в бешенство и сделал мне сцену: принялся ораторствовать, ссориться со мной; описывал свое чувство к ней и уверял, что он никогда не считал себя способным на такую сильную любовь. Я стояла на своем, но ссудила его деньгами на путешествие, застигнувшее его врасплох. Беатриса оставила Рошефильду письмо и на другой день вечером уехала в Италию. Там она оставалась два года, несколько раз писала мне самые очаровательные дружеские письма: бедное дитя привязалось ко мне, единственной женщине, которая поняла ее. Она уверяла, что обожает меня. Нуждаясь в деньгах, Женнаро написал оперу, не находя в Италии той материальной поддержки, какую видят композиторы в Париже. Вот письмо Беатрисы, вы сумеете понять его теперь, если только в ваши года можно браться судить о серьезных делах, – сказала она, протягивая ему письмо.
В эту минуту вошел Клод Виньон. И Калист, и Фелиситэ, пораженные его неожиданным появлением, на минуту замолкли: она от удивления, он – от смутной тревоги. Огромный, высокий лоб этого молодого человека, уже лысого в тридцать семь лет, казалось, заволокли грозные тучи. Решительный, умный рот выражал холодную иронию. У Клода Виньона был очень внушительный вид, несмотря на рано увядшее лицо с багровым цветом кожи: прежде оно было редкой красоты. В возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет он несколько напоминал божественного Рафаэля, но с годами нос его, черта, которая всего легче меняется, заострился, лицо, благодаря неведомому внутреннему процессу, огрубело, контуры сделались слишком аляповаты, кожа приняла свинцовый оттенок, все лицо казалось сильно утомленным. Причина этого утомления была неизвестна – может быть, оно было плодом горького одиночества или злоупотребления умственным трудом. Он ежеминутно анализирует чужие мысли, без всякой цели и системы, и острие его критики все разрушает, никогда ничего не создавая. Поэтому и утомление его не усталость архитектора, а просто рабочего. Глаза, бледно-голубые, были когда-то очень блестящими, а теперь померкли от скрытого горя, потускнели от мрачной печали. Кутежи провели под глазами черные круги; виски потеряли свежесть; подбородок, очень изящной формы, стал двойным и потерял свое благородное очертание. Голос, довольно глухой от природы, стал еще слабее; хотя он и не пропал совсем и не стал хриплым, но представляет нечто среднее между одним и другим. Под бесстрастным выражением этого красивого лица, под пристальным взором скрывается его полная нерешительность и слабость характера, которую выдает умная и насмешливая улыбка. Слабость эта касается действий, а не ума; лоб его говорит об его энциклопедическом уме; о том же говорит все его лицо, детское и мужественное в одно и то же время. Странность его характера проявляется еще в одной подробности: он высокого роста, но уже немного согнулся, как все люди, живущие в области мышления. Такие большие, длинные люди никогда не отличаются ни энергией, ни творческой деятельностью. Карл Великий, Нарзес, Велизарий и Константин представляют резкие исключения из этого правила. Клод Виньон вообще очень загадочная личность. Во-первых, он и прост, и хитер одновременно. Хотя он, точно куртизанка, способен предаваться всяким излишествам, но способность мыслить никогда не покидает его. Люди с таким направлением умственного развития, при всем своем таланте критически разбирать искусство, науку, литературу, политику, не способны заботиться об условиях своей жизни. Клод вечно погружен в царство мысли и относится к своей внешности с беспечностью Диогена. Довольствуясь тем, что он все постигает, он презрительно относится к материальным вещам; но едва только он собирается создать что-нибудь, как его начинает обуревать сомнение, он, не замечая красот, видит одни препятствия и только раздумывает, как бы приступить к делу, так что в результате не двинет пальцем. Он своего рода турок; его ум находится в полудремоте от вечных мечтаний; критика – его опиум; гарем уже написанных другими книг внушил ему отвращение к собственному творчеству. Будучи совершенно равнодушен как к важным, так и к ничтожным вещам, он, благодаря весу мозга, неминуемо должен предаться разгулу, чтоб хотя бы на несколько мгновений отрешиться от рокового тяготения своего всемогущего анализа. Он слишком поглощен внутренним, умственным миром, поэтому понятно, что Камиль Мопен так стремилась вернуть его на прямую дорогу. Эта задача имела свою прелесть. Клод Виньон считал себя политиком, таким же великим, каким он был, как писатель. Но этот маленький Маккиавели в душе смеялся над честолюбцами: зная свои силы, он инстинктивно строил свое будущее, соображаясь со своими способностями; он сознает свою мощь, замечает препятствия, видит глупость выскочек, иногда пугается, иногда испытывает чувство отвращения, и, ни за что не принимаясь, спокойно следит за течением времени. Как и Степан Лусто, фельетонист, как и Натан, знаменитый драматический писатель, как и Блонде, тоже журналист, он вышел из буржуазной среды, подобно большинству наших великих писателей.
– Как вы прошли? – спросила мадемуазель де Туш, краснея от удовольствия и неожиданности.
– Через дверь, – сухо отвечал Клод Виньон.
– Но, – воскликнула она, пожимая плечами, – я отлично знаю, что вы не из тех людей, которые входят через окно.
– Такой способ вхождения своего рода почетный орден для любимой женщины.
– Довольно, – сказала Фелиситэ.
– Я вам мешаю? – спросил Клод Виньон.
– Мосье, – наивно заметил Калист, – это письмо…
– Оставайтесь с ним, я ни о чем не спрашиваю; в наш возраст пора понимать такие вещи, – насмешливо прервал он Калиста.
– Но, мосье… – негодующе воскликнул Калист.
– Успокойтесь, молодой человек, я очень снисходителен к чувствам других.
– Милый Калист, – начала Камиль.
– Милый? – прервал ее Виньон.
– Клод шутит, – сказала Камиль Калисту, продолжая начатую фразу; – это неуместно по отношению к вам, так как вы совершенно не посвящены в шутливый парижский тон разговора.
– Я и не думал шутить, – серьезно возразил Виньон.
– По какой дороге пришли вы? Вот уже два часа, как я, не отводя глаз, смотрю в сторону Круазига.
– Вы не все время смотрели туда.
– Вы невыносимы с вашими шутками.
– Я шучу?
Калист встал.
– Вам здесь не так плохо, чтобы надо было уходить, – сказал Виньон.
– Наоборот, – сказал горячий юноша; Камиль Мопен протянула ему руку и он, вместо пожатия, поцеловал ее, оставив на ней жгучую слезу.
– Я желал бы быть на месте этого маленького юноши, – сказал критик, усаживаясь и принимаясь за кальян. – Как он будет любить!
– Слишком, и значит, его не будут любить, – сказала мадемуазель де Туш. – Сюда едет г-жа де Рошефильд.
– Ну, – сказал Клод. – Вместе с Конти?
– Останется она у меня одна, он только довезет ее.
– Произошла ссора?
– Нет.
– Сыграйте мне сонату Бетховена, я ничего не знаю из его фортепианных вещей.
Клод принялся накладывать турецкий табак в жаровню дымившегося кальяна, гораздо пристальнее наблюдая за Камиль, чем она думала; его занимала одна ужасная мысль: ему казалось, что эта женщина вполне убеждена, что провела его. Для него такое положение вещей было ново.
Калист, уходя, совершенно забыл и о Беатрисе Рошефильд, и об ее письме, он был взбешен на Клода Виньон, возмущался его – как ему казалось – неделикатностью и жалел о бедной Фелиситэ. Бак можно, будучи любимым этой несравненной женщиной, не молиться на нее, стоя на коленях, как не поверить одному ее взгляду, улыбке? Будучи свидетелем горя, которым терзалась Фелиситэ, ожидая его возвращения, видя, как она постоянно оборачивалась в сторону Круазига, Калисту захотелось разорвать этот бледный, холодный скелет, как выразилась про него Фелиситэ; он действительно совершенно был незнаком с изворотливостью ума, которым отличаются остряки прессы. По его мнению, любовь должна быть своего рода религией для человека. Увидав Калиста, мать не могла сдержать радостного крика, а мадемуазель де Геник немедленно свистнула Мариотту.
– Мариотта, наше дитя дома, можешь добавить еще блюдо.
– Я его видела, мадемуазель, – отвечала кухарка.
Мать, немного встревоженная при виде облава печали на челе Калиста, не подозревая, что оно вызвано воображаемым дурным обхождением Виньона с Фелиситэ, принялась за вышивание. Старая тетка взялась за вязанье. Барон уступил свое кресло сыну, а сам принялся ходить по зале, разминая ноги перед прогулкой по саду. Ни на одной фламандской или голландской картине не найдете вы домашней обстановки с такими темными тонами, с такими гармоничными, подходящими к общему фону человеческими фигурами. Этот красивый юноша в черном бархате, эта еще красивая мать, эти два старца в этой старинной обстановке представляли умилительную, вполне гармонирующую с общей картиной, семейную группу. Фанни очень хотелось расспросить Калиста, но он вынул из кармана письмо Беатрисы, которой, быть может, суждено было разрушить счастье этого достойного семейства. Пока он развертывал его, в живом воображении Калиста отчетливо представилась маркиза, в той фантастической одежде, в какой ее описывала Камиль Мопен.
Письмо Беатрисы к Фелиситэ
Генуя, 2 июня.
«Я не писала вам, дорогой друг мой, с тех пор, как мы были во Флоренции. Но Венеция и Рим всецело поглощали мое время, и к тому же, как вы знаете, счастье немало занимает места в жизни. Мы не будем считаться письмами. Я немного устала. Мне хотелось все видеть, а когда душа ваша не слишком легко испытывает чувство пресыщения, то частая смена наслаждений, наконец, вызывает утомление. Друг наш имел большой триумф в театре Скала, в Ренисе и недавно в Санто-Карло. Три итальянских оперы за два года! Вы не можете сказать, что любовь располагает его к лени. Нас везде великолепно принимали, но я предпочла бы уединение и молчание. Это, по-моему, единственные условия жизни, возможные для женщины, которая разорвала со светом? Я думала, что все так и будет. Любовь, дорогая моя, властелин еще более требовательный, чем брак: но повиноваться ему так сладко! Отдав всю свою жизнь любви, я не думала, что мне придется хотя бы мельком бывать в свете и любезный прием, оказанный мне, только растравил мои раны. Я не могла, как прежде, стоять на равной ноге с высокопоставленными дамами. Чем больше внимания мне оказывали, тем более подчеркивали мое ничтожество. Женнаро не понял этих тонкостей; но он был так счастлив, что мне было бы стыдно не пожертвовать своим мелким самолюбием для такого важного дела, как жизнь артиста. Мы, женщины, живем одной любовью, а мужчины живут и любовью и своей деятельностью; иначе они не были бы мужчинами. Тем не менее, для нас, женщин, есть много неприятного в том положении, в которое я себя поставила и которого вы избежали: вы остались на высоте своего положения перед судом общества, которое не имело никаких прав на вас. Вы сохранили свободу воли, а я ее утратила. Я говорю это исключительно о сердечных делах, а не об общественных вопросах, от которых я совершенно отказалась. Вы можете быть кокетливой, капризной, вы сохранили всю привлекательность женщины, которая свободна и может по желанию все дать или во всем отказать; вы сохранили за собой привилегию капризничать, в интересах самой вашей любви и любви того человека, который вам нравится. Одним словом, до сих пор сохранили полную независимость; а я утратила свободу сердца, что, по-моему, составляет одно из очарований во всякой любви, даже когда страсть сильна до бесконечности. Я не имею больше возможности ссориться полушутя: мы не даром так дорожим этим приемом. Разве это не лучшее средство выведать тайну сердца? Я не могу грозить, я должна заковать всю мою привлекательность в броню безграничной кротости и покорности, я должна заслужить уважение силой своей любви. Я предпочту скорее умереть, чем покинуть Женнаро, потому что все мое искупление состоит в святости моей любви. Я не колебалась ни минуты между общественным уважением и моим уважением к самой себе, которая составляет тайну моей совести. Хотя у меня и бывают минуты меланхолии, которые пробегают тучками по ясному небу и которым мы, женщины, любим отдаваться, но я прогоняю их, я не хочу, чтобы это походило на сожаления. Боже мой, я так хорошо поняла обширность моих обязанностей, что вооружилась полной снисходительностью, но до сих пор Женнаро не возбуждал моей ревности, которая вечно настороже. Я не вижу, в чем может провиниться мой чудный гений. Я, ангел мой, немного напоминай тех набожных людей, которые ведут беседу с Богом; ведь, разве не вам я обязана своим счастьем? Поэтому будьте уверена, что я часто думаю о вас. Я увидела Италию, наконец-то увидела так, как и вы ее видели и как надо ее видеть, с душой, освещенной любовью, как и Италия освещена чудным солнцем и произведениями искусства. Мне жаль того, кто должен один восхищаться ее красотами, кто не имеет никого, кому бы он мог в минуту восторга пожать руку, с кем мог бы поделиться избытком волнующих вас чувств, которые, нисколько не слабея от этого, делаются несколько спокойнее. Эти два года составляют всю мою жизнь и дадут обильную жатву для моих воспоминаний. Не строили ли вы, как и я, планы останься в Киавари, купить дворец в Венеции, домик в Сорренте, виллу во Флоренции? Разве все любящие женщины не боятся людей? А я, выброшенная за борт, могу ли пожелать на век погрести себя в этом чудном пейзаже, среди цветов, у этого красивого моря или в долине, которая равняется красоте моря, как, например, долина, видимая из Физоля? Но, увы! Мы бедные артисты, и деньги призывают в Париж двух цыган. Женнаро не хочет, чтобы я пожалела об утраченной мной роскоши и едет в Париж репетировать свое новое произведение, большую оперу. Вы, ангел мой, так же, как и я, понимаете, что я не могу показаться в Париже. Несмотря на всю мою любовь, я не могла бы перенести презрительного взгляда мужчины или женщины – я скорее готова совершить убийство. Да, я разрубила бы на куски того, кто удостоил бы меня сожаления и милостиво обошелся бы со мной: восхитительная Шатонеф некогда, кажется, при Генрихе III, растоптала лошадью парижского городского главу за подобное преступление. Я вам пишу с тем, чтобы известить вас, что не замедлю присоединиться к вам в Туше и в вашем монастыре буду ожидать нашего Женнаро. Вы видите, как я смело обращаюсь с моей благодетельницей и сестрой! Но тягость благодеяния не приведет меня, как некоторых, к неблагодарности. Вы мне так много говорили о трудности сообщения, что я постараюсь приехать в Круазиг морем. Эта мысль мне пришла, когда я узнала здесь, что маленькое датское судно, нагруженное мрамором, едет к вам за солью, возвращаясь к себе, на Балтийское море. Таким образом, я избегала утомления и издержек переезда на почтовых лошадях. Я знаю, что вы не одна и очень довольна этим: посреди моего счастья у меня иногда являлись угрызения совести. Вы единственный человек, с которым я могу остаться одна, без Конти. Может быть, и для вас будет приятно видеть около себя женщину, которая поймет ваше счастье и не будет завидовать ему? Итак, до скорого свидания. Ветер попутный, я отправляюсь, мысленно послав вам поцелуй».
– И она тоже любит, – сказал себе Калист, с грустным видом складывая письма.
Эта печаль отозвалась в сердце матери, точно внезапный свет озарил для нее черную пропасть. Барон только что вышел.
Фанни заперла на засов дверь башенки и облокотилась на спинку кресла, где сидел ее сын, точно сестра Дидоны на картине Герена; она поцеловала его в лоб со словами:
– Что огорчает тебя, мой Калист? Ты мне обещал объяснить твои частые визиты в Туш; я должна, говоришь ты, благословлять владелицу его?
– Да, конечно, – отвечал он; – она доказала мне, дорогая матушка, всю неполноту моего образования в наш век, когда дворянство должно себе приобрести личные заслуги, чтобы воскресить свое имя. Я так же был далеко от века, как Геранда от Парижа. Она была матерью моего ума.
– За это я не буду благословлять ее, – сказала баронесса, с глазами, полными слез.
– Матушка! – воскликнул Калист, на голову которого, как жемчужины, скатились две жгучие слезинки огорченной матери, – матушка, не плачьте, я сегодня собирался, чтобы услужить ей, обойти весь наш берег от таможенной будки до местечка Батца, а она мне сказала: «Как стала бы беспокоиться ваша мать!»
– Она сказала это? За одни эти слова я многое могу простить ей, – сказала Фанни.
– Фелиситэ желает только моего блага, – продолжал Калист; – она часто удерживает резкие и двусмысленные выражения, которые в ходу у артистов, чтобы ничем не поколебать во мне веры: она не знает, что моих верований поколебать нельзя. Она рассказывала мне, как живут в Париже молодые дворяне, такие же провинциалы, как и я, как они оставляют семью, не располагая никакими средствами в жизни и понемногу составляют себе большое состояние, благодаря своей твердой воле и уму. Я могу сделать то же, что барон де Растиньяк, служащий теперь в министерстве. Она дает мне уроки музыки, итальянского языка, она знакомит меня с разными социальными вопросами, о которых никто и не думает в Геранде. Она нс наделила меня главным сокровищем – своей любовью, но зато делится со мною своими обширными знаниями, богатством своего таланта и ума. Она хочет быть для меня не утехой, а светочем; она не оспаривает ни одной из чтимых мной святынь: она верит в благородство дворянства, она любить Бретань, она…
– Она переменила нам нашего Калиста, – прервала его старая слепая, – потому что я не могу понять его слов! У тебя есть хороший дом, мой прекрасный племянник, есть старые родные, которые боготворят тебя, есть добрые старые слуги; и ты можешь жениться на славной молодой бретонке, на религиозной, вполне хорошей девушке, которая сделает тебя счастливым. А честолюбивые планы прибереги для твоего старшего сына, который будет втрое богаче, чем ты теперь, если только ты сумеешь прожить спокойно и экономно, под Божьим благословением, и если ты выкупишь заложенные родовые земли. Все это так же бесхитростно, как и сердце бретонца. Ты не так скоро, но зато верно, сделаешься богатым дворянином.
– Тетка твоя права, ангел мой, она так же горячо заботится о твоем счастье, как и я. Если мне не удастся женить тебя на мисс Маргарите, дочери твоего дяди, лорда Фитц-Вилльяма, то мы почти уверены, что мадемуазель де Пен-Холь отдаст все свое состояние той племяннице, которую ты выберешь себе в супруги.
– Да и дома наберется несколько экю, – сказала таинственным, тихим голосом старая тетка.
– Мне, жениться в мои года? – сказал он, бросая на мать взгляд, перед которым не может устоять холодная практичность матери. – Неужели я буду лишен чудных, безумных увлечений? Не буду трепетать, волноваться, дышать, ложиться спать, думая лишь о том, как бы смягчить ее неумолимый взор? Неужели я не узнаю прелесть свободы, прихоти души, облачка, пробегающего по лазури счастья и рассеивающегося от дуновения радости? Я, значит, не буду блуждать по окольным тропинкам, мокрым от росы? Не буду стоять под дождем, не замечая его, как влюбленные у Дидро? Не буду брать, как герцог де Лорьен, горячие угли в руку? Не буду взбираться по шелковым лестницам? Висеть на старой, перегнившей решетке, не ломая ее? Не буду прятаться в шкафу или под постелью? Неужели я в женщине узнаю только супружескую покорность, в любви – ровный свет лампы? Неужели любопытство мое будет пресыщено раньше, чем оно родилось? Значит, я проживу, не узнав сердечных бурь, которые укрепляют силы мужчины? Буду супругом-затворником? Нет! Я уже вкусил плода парижской цивилизации. Неужели вы не видите, что вы сами, со своими чистыми, чуждыми всех вопросов, семейными нравами подготовили пожирающий меня огонь, и я погибну, не узнав, где мой кумир, который я вижу повсюду – и в зеленой листве, и в облитых солнцем песках, и в каждой красивой, благородной и изящной женщине, описываемых в книгах и поэмах, которые я поглотил у Камиль! Увы! в Геранде есть только одна такая женщина – вы, матушка! Все мои волшебные мечты навеяны Парижем, или дышат страницами лорда Байрона, Скотта: это Паризина, Эффи, Минна! Это та герцогиня королевской крови, которую я видел в ландах, через вереск и терновник, сидя на коне, при виде которой вся кровь приливала мне к сердцу!
Баронесса гораздо яснее, поэтичнее и рельефнее представила себе мысленно все то, что здесь читает читатель, и во взгляде сына прочла все его мысли, сыпавшиеся, как стрелы из опрокинутого колчана помышления. Хотя она никогда не читала Бомарше, но сейчас же поняла женским чутьем, что женить этого херувима было бы преступлением.
– Ах! Дорогое дитя мое, – сказала она, прижимая его к себе и целуя его чудные волосы, еще всецело принадлежавшие ей, – женись, когда хочешь, только будь счастлив! Цель моей жизни не в том, чтобы мучить тебя.
Мариотта стала накрывать на стол. Гасселен отправился выводить лошадь Калиста, который уже два месяца, как перестал ездить верхом. Все три женщины: мать, тетка и Мариотта с обычной женщинам хитростью старались ублажать Калиста, когда он обедал дома. Бретонская скудная обстановка, с помощью детских привычек и воспоминаний, всячески старалась соперничать с парижской цивилизацией, которую можно было видеть в Туше, в двух шагах от Геранды. Мариотта старалась сделать своего молодого господина равнодушным к искусной кухне Камиль Мопен, а мать и тетка друг перед другом старались окружать его заботами, чтобы опутать его сетями нежности и сделать всякое сравнение немыслимым.
– У вас сегодня будет рыба, господин Калист, бекасы и блинчики, каких вы нигде никогда не найдете, – сказала Мариотта с торжествующим, лукавым видом, любуясь убранством стола.
После обеда, когда старая тетка снова принялась за вязанье, когда пришли священник и шевалье дю Хальга на обычную партию в карты, Калист отправился в Туш, под предлогом возвратить письмо Беатрисы.
Клод Виньон и мадемуазель де Туш еще не обедали. Великий критик имел некоторую склонность к гастрономии, и недостаток этот усердно поощряла Фелиситэ, знавшая, что ничем так женщина не может к себе привязать мужчину, как угодливостью. Столовая, в которой за последний месяц она сделала еще несколько важных приспособлений, ясно говорила о том, как быстро может женщина постичь характер, вкусы и наклонности того человека, которого она любит или хочет любить. Стол был убран с необыкновенно утонченной роскошью и со всеми новейшими изобретениями этой отрасли.
Бедные, благородные Геники не знали, с каким противником им приходилось соперничать. Они и не подозревали, какое надо было иметь состояние, чтобы тягаться с подновленным в Париже серебром, привезенным мадемуазель де Туш, с фарфором, который она считала еще годным для деревни, с этим чудным столовым бельем, с позолоченными украшениями, красовавшимися на столе и, наконец, с искусством повара.
Калист отказался от предложенного ему ликера, налитого в великолепные графинчики из ценного дерева, похожие на дарохранительницы.
– Вот ваше письмо, – сказал он с наивной настойчивостью, взглянув на Клода, который медленно отхлебывал из рюмки привозный ликер.
– Ну, что же вы скажете о нем? – спросила мадемуазель де Туш, перебрасывая через стол письмо Виньону, который принялся его читать, прихлебывая ликер.
– Но… я скажу, что женщины в Париже очень счастливы, у всякой есть какой-нибудь гениальный человек, которого они боготворят и который их любит.
– Ну, так вы совершенно деревенский простак, – смеясь, возразила Фелиситэ. – Как! Вы не заметили, что она его уже меньше любит и что…
– Это несомненно, – сказал Клод Виньон, который успел пробежать только первую страницу. – Разве, когда любишь, можно анализировать свое положение? Разве можно вдаваться в такие тонкости, как маркиза? можно разве взвешивать, различать что-нибудь? Только гордость привязывает Беатрису к Конти, она осуждена любить его во что бы то ни стало.
– Бедная женщина! – сказала Камиль.
Калист пристально, ничего не видя, смотрел на стол. Красавица в фантастической одежде, как ее сегодня утром описывала ему Фелиситэ, предстала перед ним в своей лучезарной красе; она улыбалась ему, обмахивалась веером, а другая белая ручка выглядывала из-под кружевной фрезы, вишневого бархата и терялась в буфах роскошного платья.
– Вот вам занятие, – сказал Калисту, сардонически улыбаясь, Клод Виньон. Калиста покоробило от слова «занятие».
– Не вбивайте в голову этому милому ребенку мысли о такой интриге, вы не знаете, как опасны такие шутки. Я знаю Беатрису, у нее слишком много благородства, чтобы меняться, к тому же, Конти будет здесь.
– А! – насмешливо заметил Клод Виньон, – это что-то похоже на ревность?..
– Вы можете так думать? – гордо спросила Камиль.
– Вы более прозорливы, чем иная мать, – отвечал Клод.
– Разве это может быть? – сказала Камиль, показывая на Калиста.
– Однако, – возразил Виньон, – они очень подходили бы друг к другу. Ей на десять лет больше, чем ему, и он в данном случае будет играть роль молодой девушки.
– Молодая девушка, мосье, уже два раза была под выстрелами в Вандее. Если бы нашлось еще двадцать тысяч таких девушек…
– Я сказал вам это в похвалу, – сказал Виньон, – и мне это было гораздо легче сделать, чем вам побрить бороду.
– У меня есть шпага, которой я могу побрить бороду тому, у кого она слишком длинна, – отвечал Калист.
– А я прекрасно могу писать эпиграммы, – улыбаясь, заметил Виньон, – мы оба французы, дело можно сладить.
Мадемуазель де Туш бросила на Калиста умоляющий взгляд, который сразу охладил его пыл.
– Почему, – спросила Фелиситэ, – молодые люди, как мой Калист, любят всегда женщин известного возраста?
– Нет ни одного чувства, которое было бы так наивно и вместе благородно, – ответил Виньон, – оно вытекает из отличительных свойств очаровательной юности. Кроме того, чем, как не такой любовью могут кончить старые женщины? Вы молоды, красивы и останетесь такой еще лет двадцать, поэтому я могу говорить об этом при вас, – сказал он, бросив хитрый взгляд на мадемуазель де Туш. – Во-первых, полупожилые женщины, на которых обращают свое внимание молодые люди, умеют гораздо лучше любить, чем молодые женщины. Юноша слишком имеет много общего с молодой женщиной, чтобы она могла ему нравиться. Такое увлечение напоминает мне о Нарциссе. Кроме того, мне кажется, их разделяет обоюдная неопытность. Поэтому-то сердце молодой женщины легче понимают те мужчины, у которых за искренней или притворною страстью скрывается известная опытность. По этой же причине, если не принимать во внимание различие умственного развития, женщина средних лет легче может увлечь юношу: он прекрасно сознает, что будет у нее иметь успех, а женское тщеславие с другой стороны бывает очень польщено его преследованием. Юношество любит набрасываться на плоды, а женщина в осенний расцвет свой представляет чудный, сочный плод. Как много значат взгляды смелые и сдержанные, а когда нужно, томные, взгляды сладостные, горячие, озаренные последними лучами любви! А искусство говорить, а роскошные золотистые плечи, красивые, полные формы, руки с ямочками, свежая упругая кожа, а лучезарное чело с печатью глубоких дум и чувств, а волосы, так искусно положенные, так заботливо охраняемые, волосы, с тонкой линией пробора, где белеется нежная кожа. А эти воротники, сложенные в красивые складки, а разные ухищрения, благодаря которым особенно рельефно и вызывающе оттеняется белизна кожи на затылке, там, где кончается прическа, точно этим контрастом женщины хотят подчеркнуть пленительную силу жизни и любви? В эти года и брюнетки чаще всего принимают более светлый оттенок, цвет янтаря. Женщины и улыбкой, и словами показывают свое уменье жить в свете: они отлично умеют разговаривать, чтобы заставить вас улыбнуться, они готовы вам рассказать, что угодно; они умеют напустить на себя необыкновенное достоинство и гордость, могут притворно испускать крики отчаяния, от которых, кажется, душа рвется на части; они посылают последнее прости любви, но только пользуются им, чтобы разжечь страсть. они молодеют, усердно играя роль наивных простушек; они заставляют говорить себе самые горячие уверения в уважении, кокетливо распространяясь о своем падении; опьянение, которое доставляет им их торжество, действует заразительно; преданы они бесконечно: они будут вас слушать, любить, они цепляются за любовь, как приговоренный к смерти цепляется за жизнь, они похожи на адвокатов, которые умеют, не надоедая суду, горячо отстаивать свое дело; они пользуются всевозможными средствами и только у них можно узнать, что такое безграничная любовь. Я не думаю, чтобы их можно было бы забыть когда-нибудь, как не забывается ничто великое, недосягаемое. У молодых женщин есть тысяча развлечений, а у этих женщин нет их вовсе; у них нет более ни самолюбия, ни суетности, ни мелочности; их любовь – это Луара у своего истока: она бесконечно велика, она разрослась из всех разочарований, из всех жизненных притоков, и вот почему… моя дочь нема, – докончил он, видя экстаз мадемуазель де Туш, которая с силой сжимала руку Калиста, вероятно, желая поблагодарить его за то, что он был невольной причиной этого лестного панегирика, за которым она не видела никакой западни.
Весь вечер Клод Виньон и Фелиситэ блистали необычайным остроумием, рассказывали анекдоты и описывали парижское общество Калисту, который был теперь совершенно очарован Клодом: на людей с нежным сердцем всегда неотразимо действуют умные люди.
– Я нисколько не удивлюсь, если завтра приедут маркиза де Рошефильд и Конти, который, по всем вероятиям, сопровождает ее, – сказал Клод уже поздно вечером, – когда я уходил из Круазига, моряки заметили маленькое судно, датское, шведское или норвежское.
Его слова вызвали краску на лице спокойной Камиль. В этот вечер г-же дю Геник пришлось своего сына прождать опять до часу утра; она никак не могла понять, что он делает в замке Туш, когда он сам сказал ей, что Камиль не любит его.
– Он им только мешает, – говорила себе эта чудная мать. – О чем вы там говорили? – спросила она его, когда он вошел.
– Ах, матушка! Я никогда еще так восхитительно не проводил вечера. Великая, чудная вещь – талант. Отчего ты меня не наделила им? Люди талантливые могут выбрать себе любимую женщину, никто не устоит перед ними.
– Но ты красив, мой Калист.
– Красота только в ваших глазах имеет значение. Клод Виньон к тому же красив. У гениальных людей всегда лучезарное чело, глаза блестят и метают молнии, а я, несчастный, только и умею, что любить.
– Говорят, что этого довольно, ангел мой, – сказала она, целуя его в лоб.
– Правда?
– Мне говорили так, сама я этого никогда не испытала.
Калист с благоговением поцеловал у матери руку.
– Я буду тебя любить и заменю всех тех, которые могли бы преклоняться перед тобой, – сказал он ей.
– Дорогое дитя! Это отчасти твой долг, я отдала тебе все мое сердце. Не будь же неосторожен, постарайся любить только достойных женщин, если уж тебе суждено любить.
Какой молодой человек, полный любви и рвущийся к жизни, не возымел бы победную мысль пойти в Круазиг, чтобы видеть, как приедет г-жа де Рошефильд и рассмотреть ее инкогнито? Калист неприятно поразил отца и мать, ничего не знавших о прибытии красавицы маркизы, тем, что вышел из дому с утра и не захотел завтракать. Ноги молодого бретонца едва касались земли: Его точно влекла какая-то неведомая сила, он чувствовал себя замечательно легким и проскользнул мимо стен Туша, чтобы не быть замеченным. Очаровательный ребенок стыдился своего пыла, а, может быть, всего больше боялся вышучивания: Фелиситэ и Клод Виньон были так проницательны! Обыкновенно, молодые люди в подобных случаях думают, что их лоб делается прозрачным, что мысли их могут прочесть все. Он шел по дороге, между лабиринтом соляных болот, дошел до песков и, несмотря на палящий солнечный зной, миновал их в одно мгновенье. Затем он дошел до края откоса, который выложен камнями для прочности; внизу находится дом, где путешественники находят приют от бури, сильного морского ветра, дождя и урагана. Не всегда бывает возможно переправиться через узкий морской рукав, не всегда здесь бывают лодки, а пока они приедут из гавани, иногда бывает необходимо поставить в крытое место лошадей, ослов, товар или багаж пассажиров. Отсюда видно открытое море и город Круазиг; отсюда Калист вскоре увидал приближающиеся две лодки, нагруженные вещами, пакетами, сундуками, несессерами и ящиками, всем своим видом говорившими местным обитателям, что в них находятся разные необыкновенные вещи, которые могут принадлежать только привилегированным путешественникам. В одной из лодок сидела молодая женщина, в соломенной шляпе с зеленой вуалью, и с ней мужчина. Их лодка пристала первая. Калист вздрогнул; но, увидав их, он разглядел, что это лакей и горничная и не осмелился обратиться к ним с расспросами.
– Вы в Круазиг, господин Калист? – спросили матросы, знавшие его, но он отрицательно покачал головой, сконфуженный тем, что его имя было произнесено.
Калист пришел в восторг при виде большого ящика, затянутого засмоленным полотном, на котором было написано: «Г-жа маркиза де Рошефильд». Эта фамилия блеснула перед ним, как талисман, в ней ему почудилось что-то роковое. Он ни минуты не сомневался, что полюбит эту женщину: малейшие подробности, касавшиеся ее, уже интересовали его, занимали и возбуждали его любопытство. Почему? Молодость, полная беспричинных и безграничных кипучих желаний, со всей силой отдается власти чувства, вызванного в ней первой встретившейся на пути женщиной. Беатриса получила по наследству любовь, которую отвергла Фелиситэ. Калист смотрел за разгрузкой, не покидая надежды увидать лодку, выходящую из гавани, увидеть, как она подойдет к маленькому мысу, около которого ревут морские волны, и покажет ему Беатрису ставшей для него тем же, чем была Беатриче для Данте – бессмертной, мраморной статуей, которую он хотел бы увенчать цветами и гирляндами. Скрестив руки, он погрузился в мечтательное ожидание.
Мы мало обращаем внимания на один факт, который стоит того, чтобы его заметили: мы часто заставляем наши чувства подчиняться одному желанию и точно иногда заключаем сами с собой договор, который решает нашу судьбу; случай играет здесь гораздо меньшую роль, чем мы думаем.
– Я не вижу лошадей, – сказала горничная, усаживаясь на чемодан.
– А я не вижу проложенной дороги, – сказал лакей.
– А между тем сюда подъезжали лошади, – сказала горничная, указывая на их следы. – Сударь, – сказала она, обращаясь к Калисту, – будьте добры сказать мне, та ли это самая дорога, которая ведет в Геранду?
– Да, – отвечал он. – Кого вы ждете?
– Нам сказали, что за нами приедут из Туша. Если они промедлят, то я не знаю, как будет одеваться маркиза, – сказала она лакею. – Вам следовало бы пойти к мадемуазель де Туш. Какая дикая страна!
У Калиста явилось смутное предчувствие, что он попал в фальшивое положение.
– Ваша госпожа едет в Туш? – спросил он.
– Барышня увезла ее сегодня утром в семь часов, – отвечала она. – А! Вот и лошади…
Калист бросился к Геранде с быстротой и легкостью серны, сделав большой крюк, чтобы не быть узнанным прислугой из Туша; но на узкой дороге, между болот, он все-таки столкнулся с двумя слугами.
– Войти? Или нет? – думал он, завидевши вдали сосны Туша.
Но он не решился войти и весь сконфуженный и растерянный вернулся в Геранду и, прогуливаясь по главной аллее, продолжал раздумывать. Увидав Туш, он весь вздрогнул и принялся разглядывать флюгера на доме.
– Она не подозревает о моем волнении, говорил он себе.
Эти мысли точно острием кололи его прямо в сердце, и в нем все глубже внедрялся образ маркизы. Калист не испытал по отношению к Камиль ни этих преждевременных страхов, ни радостей: он встретил ее, когда она ехала верхом, и в нем сразу разгорелось влечение к ней, как при виде красивого цветка, который ему захотелось бы сорвать.
Чувство нерешительности, охватившее его теперь, составляет своего рода поэму робких людей. Они раздувают в сердце искру, заброшенную туда их собственным воображением, начинают волноваться, то раздражаются, то успокаиваются и наедине сами с собой доходят до апогея любви, еще ни разу не видав объекта своих треволнений. Калист заметил издали шевалье дю Хальга, гулявшего с мадемуазель де Пен-Холь; услыхав свое имя, он спрятался. Шевалье и старая барышня, думая, что они одни, говорили громко.
– Так как Шарлотта де Кергаруэт приезжает, – говорил шевалье, – удержите ее здесь три-четыре месяца. Как ей пококетничать с Калистом? Она никогда не остается здесь достаточно долгое время, чтобы приняться за это; если же они будут видаться каждый день, то наши милые дети, в конце концов, почувствуют друг к другу сильную страсть, и вы их пожените будущей зимой. Если вы скажете Шарлотте два словечка о ваших планах, то она не замедлит сказать Калисту четыре, и шестнадцатилетняя девушка, конечно, без труда одержит победу над женщиной сорока с лишком лет.
Оба старика повернули назад; Калист не слышал больше ничего, но он проник в планы мадемуазель де Пен-Холь. Это имело роковые последствия при его настоящем душевном состоянии. Молодой человек, влюбленный, полный надежд, может ли согласиться взять в жены навязываемую молодую девушку? Калист, до сих пор относившийся к Шарлотте де Кергаруэт совершенно равнодушно, чувствовал, что теперь в нем поднимается к ней неприязненное чувство. Его не интересовали денежные соображения, так как он с детства привык к скромной жизни в родительском доме, да к тому же он и не подозревал, какое большое состояние у мадемуазель де Пен-Холь, видя, что она ведет такую же бедную жизнь, как и дю Геники. Вообще молодой человек такого воспитания, как Калист, главным образом обращает внимание на чувство, а он всеми своими помышлениями стремился к маркизе. Что такое ничтожная Шарлотта в сравнении с тем образом, который нарисовала ему Камиль? Она была для него подругой детства, с которой он обращался, как с сестрой. Домой он вернулся только к пяти часам. Когда он вошел в залу, мать с грустной улыбкой протянула ему письмо от мадемуазель де Туш.
«Дорогой Калист, красавица маркиза Рошефильд приехала, и мы рассчитываем на вас, чтобы отпраздновать ее приезд. Клод, вечный насмешник, уверяет, что вы будете Беатриче, а она Данте. Честь Бретани и дю Геников требует, чтобы урожденная Кастеран была хорошо встречена. Итак, до скорого свидания».
Ваш друг Камиль Мопен».
«Приходите без церемонии, в чем сидите; а то мы покажемся смешными».
Калист показал письмо матери и ушел.
– Кто такие Кастераны? – спросила она барона.
– Это древняя нормандская фамилия в родстве с Вильгельмом Завоевателем, – отвечал он. – Их герб – лазурное поле с красными и желтыми пятнами и на нем серебряная лошадь с золотыми подковами. Красавица, из-за которой был убит мой друг в 1800 году, в Фужере, была дочь одной из Кастеран, которая после того, как ее покинул герцог Вернель, постриглась в монахини в Сееце и стала там настоятельницей.
– А Рошефильды?
– Я не знаю этой фамилии, надо бы посмотреть их герб, – сказал он.
Баронесса несколько успокоилась, узнав, что маркиза Беатриса де Рошефильд принадлежит к старинному роду; но все же ей было странно, что сын подвергается новому искушению.
Калист по дороге испытывал сладостное и вместе жгучее чувство, горло его сжималось, сердце билось; голова отказывалась работать, его била лихорадка. Ему хотелось идти медленнее, но неотразимая сила увлекала его вперед.
Этот подъем всех чувств, вызванный мелькающей вдали смутной надеждой, испытывают все юноши: в такие минуты в душе ярким пламенем горит огонь и распространяет вокруг них сияние; вся природа кажется лучезарной, а вдали в сиянии лучей, точно священное изображение, рисуется светлый образ женщины. И сами юноши, как и прежние святые, разве не полны веры, надежды, горячего пыла, душевной чистоты? Молодой бретонец нашел все общество в сборе в маленькой гостиной на половине Камиль. Было около шести часов; солнце озаряло окна красноватым светом, ослабляемым деревьями; в воздухе стояла тишина; в гостиной царил полумрак, который так любят женщины.
– Вот представитель Бретани, – с улыбкой сказала своей приятельнице Камиль Мопен, указывая на Калиста, когда тот приподнял портьеру на двери; – он аккуратен, как король.
– Вы узнали его шаги? – спросил Клод Виньон у мадемуазель де Туш.
Калист низко поклонился маркизе, ответившей ему наклоном головы; он не взглянул на нее. Затем он взял протянутую руку Клода Виньона и пожал ее.
– Вот тог великий человек, о котором мы только что так много говорили, Женнаро Конти, – сказала ему Камиль, не отвечая Клоду.
Она указала Калисту на человека среднего роста, тонкого и худощавого, с каштановыми волосами, красноватыми глазами, с белым, покрытым веснушками лицом. Вообще он необыкновенно напоминал Байрона, только с более горделивой посадкой головы. Конти очень гордился этим сходством.
– Я очень счастлив, что мне удалось увидеть вас в мое кратковременное, однодневное пребывание в Туше, – сказал Женнаро.
– Я должен был бы сказать это вам, – довольно развязно возразил Калист.
– Он красив, как ангел, – сказала маркиза Фелиситэ.
Калист, очутившийся между диваном с одной стороны и двумя дамами с другой, смутно расслышал эти слова, хотя они были сказаны шепотом и на ухо. Он сел в кресло и бросил украдкой взгляд на маркизу. В приятном свете вечернего солнца он увидал белую, гибкую фигуру, точно рукой ваятеля брошенную в грациозной позе на диван; у него потемнело в глазах. Сама того не подозревая, Фелиситэ оказала хорошую услугу приятельнице своим описанием. Беатриса в действительности была лучше, чем тот неприкрашенный портрет, который нарисовала ему вчера Камиль. Не для гостя ли отчасти воткнула Беатриса в свою прическу букет васильков, от которого много выигрывал светлый цвет ее вьющихся волос, буклями спускавшихся по щекам. Под глазами от усталости были темные круги, кожа была беда и прозрачна, точно самый чистый перламутр; цвет лица был так же ослепителен, как и блеск ее глаз. Сквозь белую кожу, тонкую, как кожица яйца, сквозили синеватые жилки. Черты лица были удивительно тонки. Лоб казался прозрачным. Вся головка, чудно изящная и воздушная, красиво сидела на длинной красивой формы шее; выражение лица было необыкновенно изменчиво. Талия была так тонка, что ее можно было охватить десятью пальцами, и отличалась очаровательной гибкостью. Открытые плечи блестели в тени, как белая камелия в темных волосах. Бюст был полуоткрыт, и изящные очертания груди сквозили сквозь легкую косынку. На маркизе было надето белое муслиновое платье с голубыми цветами, с большими рукавами, с корсажем, оканчивавшимся мысом и без пояска; на ногах были туфли, формой похожие на древние котурны, перекрещивавшиеся на фильдекосовом чулке: все обличало большое уменье одеваться. Серебряные филиграновые серьги, чудо генуэзского ювелирного искусства, которые теперь, наверное, будут в моде, вполне гармонировали с воздушной прической ее белокурых волос, украшенных васильками. Калист одним жадным взглядом оценил все эти прелести и запечатлел их в своем сердце. Белокурая Беатриса и брюнетка Фелиситэ представляли контраст, столь ценимый в кипсэках английскими художниками. С одной стороны сила, с другой слабость – настоящая антитеза. Эти две женщины никогда не могли быть соперницами, каждая имела свою область: очаровательная барвинка, лилия, около роскошного, блестящего и красивого мака, бирюза около рубина. В одну минуту Калист был охвачен жгучей любовью, явившейся результатом его тайных надежд, его страхов и колебаний. Мадемуазель де Туш разбудила его чувственность, а Беатриса зажгла его сердце и ум. Молодой бретонец вместе с тем ощутил в себе силу все победить, ничего не пощадить. Поэтому он бросил на Конти взгляд, полный зависти, ненависти, мрачный и боязливый взгляд соперника, каким он никогда не глядел на Клода Виньона. Калист должен был употребить всю свою анергию, чтобы сдержаться, но он невольно подумал, что турки правы, запирая своих женщин, что надо было бы запретить этим красивым созданиям показываться во всеоружии раздражающего кокетства перед взглядами юношей, пылающих любовью. Но сердечная буря мгновенно стихала в нем, как только устремлялись на него глаза Беатрисы и раздавалась ее тихая речь; бедное дитя уже благоговело перед ней, как перед Богом. Раздался звонок к обеду.
– Калист, предложите руку маркизе, – сказала мадемуазель де Туш, взяв под руку Конти с правой стороны и Виньона с левой и пропуская вперед молодую парочку.
Сходить по старинной лестнице под руку с маркизой стоило не мало труда Калисту: сердце у него замерло, язык отказывался слушаться, холодный пот выступил на лбу и мороз пробежал по спине; рука его так сильно дрожала, что на последней ступени маркиза спросила его:
– Что с вами?
– Я, – отвечал он сдавленным голосом, – никогда во всю мою жизнь не видал женщины красивее вас, за исключением моей матери, и я не могу совладать со своим волнением.
– Разве у вас нет здесь Камиль Мопен?
– Ах! Какая разница! – сказал наивно Калист.
– Хорошо, Калист, – шепнула ему на ухо Фелиситэ, – я вам говорила, что вы меня сейчас же забудете, как будто бы я никогда не существовала. Садитесь здесь, направо от нее, а Виньон сядет налево. А что касается до тебя, Женнаро, ты останешься со мной, – добавила она со смехом, – мы будем смотреть, как он кокетничает.
Особенное ударение, с которым Камиль произнесла это, поразило Клода, который бросил на нее подозрительный, но притворно рассеянный взгляд, которым он всегда прикрывался, когда желал наблюдать за кем-нибудь. Он продолжал следить за мадемуазель де Туш во все время обеда.
– Кокетничать, – отвечала маркиза, снимая перчатки и показывая свои красивые руки, – есть, по крайней мере, с кем. У меня с одной стороны, – сказала она, показывая на Клода, – поэт, а с другой – сама поэзия.
Женнаро Конти бросил на Калиста взгляд, полный одобрения.
При освещении Беатриса казалась еще красивее. Белый свет свечей играл на ее лбу, зажигал огоньки в ее глазах газели и играл на ее шелковистых, отливавших золотом локонах. Она грациозным жестом отбросила газовый шарф и открыла свою чудную шею. Калист увидал белый, как молоко, изящный затылок, красивой мягкой линией сливавшийся с плечами замечательной красоты. Эта легкая перемена в костюме проходит почти незаметно в глазах светского человека, всем пресыщенного, но на новичка, подобно Калисту, производит огромное впечатление. Шея Беатрисы, совершенно другой формы, чем у Камиль, говорила о совсем другом характере. В этих очертаниях сказалась горделивость расы, некоторое упорство, свойственное родовитым людям; в посадке шеи было что-то жесткое, точно в этом сказалось последнее проявление наследственности от предков-завоевателей.
Калист употреблял много усилий, чтобы делать вид, что ест; он был в таком нервном состоянии, что есть ему вовсе не хотелось. Как у всех молодых людей, каждый фибр его души был затронут и объят трепетом, который всегда предшествует первой любви и благодаря которому она так глубоко запечатлевается в душе. В его годы сердечный пыл вступает в спор с нравственным чувством и этим объясняется долгая почтительная нерешительность, глубокая нежность и отсутствие всякого расчета, особенно привлекательное в молодых людях, жизнь и сердце которых вполне чисты. Украдкой, чтобы не возбуждать подозрений ревнивого Женнаро, он подробно, до мелочей, разглядывал благородную красоту маркизы де Рошефильд. Калист был совершенно подавлен величественной красотой любимой женщины; он чувствовал себя таким маленьким перед этой женщиной с гордым взглядом глаз, с величавым выражением тонкого, аристократического лица, с необычайно грациозными движениями и жестами: все это было вовсе не так заучено-пластично, как можно было бы подумать. Все эти мельчайшие изменения женской физиономии всегда соответствуют душевным движениям и тончайшим внутренним ощущениям. Ложное положение, в котором находилась Беатриса, заставляло ее зорко следить за собой и, стараясь не казаться смешной, принимать важный вид: великосветские женщины всегда умеют достигнуть своей цели, что никогда не удается заурядным женщинам.
Во взгляде Фелиситэ Беатриса прочла восхищение, которое чувствовал к ней ее сосед; ей показалось недостойным себя поощрять это чувство и, улучив удобную минуту, она бросила на него один-два холодных взгляда, которые обрушились на него, как снежный обвал. Несчастный юноша пожаловался мадемуазель де Туш, бросив на нее взгляд, красноречиво говоривший, сколько усилий стоило ему сдержать слезы. Фелиситэ ласковым голосом спросила его, почему он ничего не ест; Калист принялся насильно за еду и сделал вид, что принимает участие в разговоре. Его мучила невыносимая мысль, что он навязчив и не нравится ей. Ему сделалось еще более не по себе, когда за стулом маркизы он увидал лакея, которого он утром видел на морском берегу и который, наверное, расскажет об его любопытстве. Но г-жа де Рошефильд не обращала никакого внимания на своего соседа, на его радости и печаль. Мадемуазель де Туш навела разговор на ее путешествие по Италии, и она сумела очень остроумно рассказать о моментальной страсти, которую она удостоилась внушить одному русскому дипломату во Флоренции и зло подсмеялась над юношами, бросающимися на женщин, как кузнечики на зелень. Она рассмешила Клода Виньона, Женнаро и саму Фелиситэ; но ее насмешки уязвили до глубины души Калиста, так что в голове и в ушах у него поднялся такой шум, что до него доносились только отдельные слова. Бедный юноша не давал себе клятвы, как некоторые упрямцы, что он будет обладать этой женщиной во что бы то ни стало; нет, он не сердился, он страдал.
Увидав, что Беатриса хотела унизить его перед Женнаро, он подумал: «Хоть чем-нибудь ей быть полезным!» и с кротостью агнца позволял ей дурно обращаться с собой.
– Вы такая поклонница поэзии, – сказал маркизе Клод Виньон, – почему же вы так плохо встречаете ее? Это наивное восхищение, так мило проявляющееся, чуждое всякого расчета, полное преданности, разве это не поэзия сердца? Сознайтесь, что оно производит на вас приятное, умиротворяющее впечатление.
– Правда, – сказала она, – но мы считали бы себя очень несчастными и, главное, очень низко падшими, если бы всегда отвечали на чувство, которое мы вызываем.
– Если бы вы не выбирали, – сказал Конти, – то мы перестали бы гордиться вашей любовью.
– Когда же меня изберет и отличит какая-нибудь женщина? – спросил себя Калист, едва сдерживая сильное волнение.