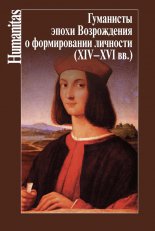Сочинения Штайнер Рудольф
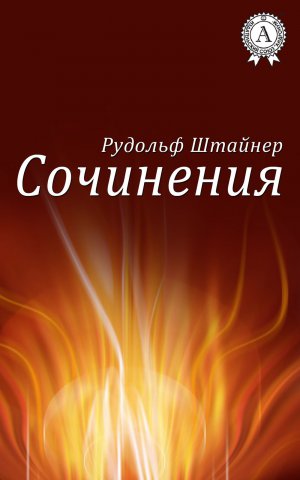
– Ах, Максим! Ты мне многого наговоришь! Но голубь не хочет лететь…
– А он безобразен; со щетиной вместо усов, с багровым цветом лица, он имеет вид вепря, несмотря на свои глаза хищной птицы. Это будет лучший председатель в мире. Не беспокойся, через десять минут он пропоет тебе арию Изабеллы из четвертого акта «Роберта-Дьявола»: «Я у ног твоих!..» Но ты берешься возвратить Артура Беатрисе…
– Трудно, но при старании возможно…
Половина одиннадцатого гости вошли в гостиную пить кофе. При тех обстоятельствах, в каких находились теперь Аврелия, Кутюр и Ронсере, разговор, который Максим вел с Кутюром в углу комнаты, вполголоса, но так, чтобы Ронсере мог все слышать, произвел огромный эффект на честолюбивого нормандца.
– Дорогой мой, если вы хотите быть благоразумным, вы не откажетесь получить в каком-нибудь отдаленном департаменте должность главного сборщика податей, а это может устроить вам маркиза Рошефильд. С миллионом Аврелии вам легко будет внести залог и, женясь на ней, вы, конечно, выдвинетесь, сделаетесь депутатом, если сумеете хорошо повести свои дела, и в награду за мою услугу дадите мне ваш голос в Палате.
– Сочту за честь быть одним из ваших солдат.
– Ах, дорогой, вы чуть было не упустили ее. Представьте, она влюбилась в этого нормандца из Алансона, просит сделать его бароном, председателем суда в том городе, где она будет жить, и кавалером ордена Почетного легиона. Но дурачок не мог оценить Аврелии, и вы обязаны вашим счастьем его глупости. Не давайте ей времени на размышление, я же буду ковать железо, пока горячо.
И Максим оставил счастливого Кутюра, говоря Ла Пальферину: – Хочешь ехать со мною, сын мой?
В одиннадцать часов Аврелия осталась с Кутюром, Фабиеном и Рошефильдом. Артур дремал в кресле, Кутюр и Фабиен старались безуспешно выпроводить друг друга. Шонц покончила эту борьбу, обратившись к Кутюру: «До завтра, мой друг!», что он объяснил в свою пользу.
– Вы заметили, – сказал тихо Фабиен Аврелии, – что я задумался, когда вы косвенно сделали мне предложение, не примите это за колебание с моей стороны; но вы не знаете моей матери: она никогда не согласится на этот брак…
– Вы уже в таком возрасте, когда не требуется разрешения родителей, – заносчиво отвечала Аврелия, – а если вы трусите матери, то вы мне не нужны.
– Жозефина, – нежно проговорил «наследник», смело обнимая мадам Шонц за талию, – я думал, вы любите меня!
– И что же?
– Может быть, возможно смягчить мою мать и добиться ее согласия.
– Каким образом?
– Если вы согласитесь употребить ваше влияние…
– Чтобы сделать тебя бароном, кавалером ордена Почетного Легиона, председателем суда? не так ли?.. Слушай же, я в своей жизни обделала столько дел, что могу быть и добродетельной. Я могу быть хорошей, честной женой и могу поднять моего мужа очень высоко, но я хочу также, чтобы он меня любил, чтобы его взгляды, мысли, и даже намерения принадлежали мне… Согласен ты на это?.. Не связывай себя неосторожно; дело идет о твоей жизни, мой милый.
– С такой женщиной, как вы, я решусь на все, очертя голову, – отвечал Фабиен, опьяненный ее взглядами и ликерами.
– Ты никогда не раскаешься в этих словах, мой песик; ты будешь пэром Франции… Что же касается этого бедного старичка, – продолжала она, смотря на спящего Рошефильда, – с сегодняшнего дня ни-ни, все кончено!
Это было так хорошо, так мило сказано, что Фабиен схватил Аврелию и поцеловал ее под наплывом страсти и радости. Голова его кружилась от любви и вина, и весь он был полон счастья и честолюбия.
– Старайся, мой дорогой, вести себя хорошенько с твоей женой, не корчи влюбленного, дай мне сухой выйти из воды. Кутюр уже воображает себя богачом, главным сборщиком податей.
– Я ненавижу этого человека, – сказал Фабиан, – и мне бы так хотелось не видеть его больше здесь.
– Я перестану принимать его, – ответила куртизанка с видом неприступной женщины, – мы сговорились, мой Фабиен, уходи, теперь уже час.
Эта маленькая сцена изменила счастливую до сих пор жизнь Аврелии и Артура. Семейная война означает всегда какое-нибудь тайное намерение одного из супругов. На другой день, когда Артур проснулся, мадам Шонц уже вышла из комнаты. Она была с ним так холодна, как только умеют быть холодными женщины подобного сорта.
– Что-нибудь случилось в эту ночь? – спрашивал за завтраком Рошефильд, смотря на Аврелию.
– В Париже все так, – отвечала Аврелия, – заснешь в сырую погоду, а на другой день проснешься и все уж так сухо, что пыль летит, не нужна ли вам щетка?
– Что с тобою делается, мой друг?
– Отправляйтесь к вашей жене, к этой длинной кляче.
– К моей жене!.. – воскликнул бедный маркиз.
– Вы думаете, я не поняла, зачем вы привели Максима? Вы хотите сойтись с маркизой Рошефильд; возможно, что она хочет вами прикрыть незаконного ребенка. Я посоветовала вам отдать ее состояние, не даром вы называете меня хитрой. О, ваш план мне понятен! За пять лет я приелась вам, сударь. Я полна, Беатриса худа, перемена всегда приятна. Есть ведь любители скелетов. Ваша Беатриса, впрочем, хорошо одевается, а вы из тех мужчин, которые любят вешалки; потом вы хотите удалить барона дю Геник. Это победа!.. Вы составите себе репутацию, об этом будут говорить, вы станете героем.
Несмотря на все опровержения Артура, Аврелия осыпала его насмешками до двух часов дня. Она сказала, что приглашена обедать, и предоставила своему «изменнику» ехать без нее в Итальянскую оперу, сама же она отправлялась на первое представление в Ambigu-Comique, где рассчитывала познакомиться с одной прелестной женщиной, мадам Ла Бордей, любовницей Люсто. Артур предлагал, в доказательство своей вечной привязанности к Аврелии и своего отвращения к жене, ехать завтра же в Италию и жить там, как муж с женой, или же в Рим, Неаполь, Флоренцию, одним словом, куда хочет Аврелия, и давал ей в ее полное распоряжение капитал в шестьдесят тысяч инков дохода.
– Все это одно только притворство, – говорила Шонц, – и это нисколько не помешает вам сойтись с вашей женой, и хорошо сделаете. Артур и Аврелия расстались после этой сцены. Он уехал обедать и играть в клуб, она же стала одеваться, чтобы провести вечер с Фабиеном.
В клубе, встретив Максима, Рошефильд начал жаловаться ему, как человек, который чувствует, что из сердца его вырывают его счастье, так глубоко вкоренившееся в нем. Максим слушал сетование маркиза, как умеют слушать воспитанные люди, думая совсем о другом.
– В этих случаях, друг мой, я могу дать хороший совет, – отвечал он, – поверь, что ты поступаешь неправильно, показывая Аврелии, насколько она тебе дорога. Разреши мне познакомить тебя с Антониа, это редкое сердце; при сравнении с ней Шонц теряет все прелести женщины. Твоей Шонц тридцать семь лет, а мадам Антониа не больше двадцати шести. Ах, какая женщина! и сколько в ней ума! Впрочем, это моя ученица. Если Шонц начала важничать, знаешь, что это значить?
– Конечно, не знаю, – отвечал маркиз.
– Она, вероятно, хочет выйти замуж, и что же мешает тебе бросить ее. После шестилетней связи с тобою она имеет, впрочем, на это полное право; но если ты послушаешь меня, то можешь устроиться гораздо лучше. В настоящее время твоя жена в тысячу раз интереснее всех Шонц и Антоний квартала С.-Жорж. Победа эта, конечно, трудная, но все же возможная; теперь ты будешь с ней счастлив, как Оргон! Во всяком случае, если ты не хочешь остаться в дураках, то надо сегодня же поехать ужинать в Антониа!
– Нет, я слишком люблю Аврелию, и мне хочется остаться по отношению к ней безупречным, – сказал маркиз.
– Ах, мой друг, что за существование готовишь ты себе!.. – воскликнул Максим.
– Уже одиннадцать часов, теперь она должна возвратиться из Ambigu, – говорил, уходя, Рошефильд. – И он раздраженно приказал кучеру ехать в улицу Ла Брюйер.
По данному распоряжению мадам Шонц, хозяин мог войти, как будто был в самых мирных отношениях с хозяйкой; но предупрежденная о его приходе Аврелия устроила, чтобы он слышал стук двери в ее кабинетик, которую быстро захлопнули, как делают, когда застают врасплох. Забытая с намерением на рояле шляпа Фабиена была убрана горничной очень неловко во время разговора барина с барыней.
– Ты не поехала в Ambigu? – спрашивал маркиз.
– Нет, – отвечала Шонц, – я предпочла заняться музыкой.
– Кто у тебя? – продолжал добродушно маркиз, видя, как горничная уносила шляпу.
– Никого нет. – При таком явном обмане, Рошефильд «пустил голову; доверие его было подорвано. Настоящая любовь бывает робка. Артур держал себя по отношению к мадемуазель Шонц, как Сабина к Калисту, как Калист в Беатрисе.
Неделю спустя произошло превращение личинки в бабочку, с молодым, умным и красивым Эдуардом, графом Рюстиком де Ла Пальферин, героем книги, под заглавием «Принц богемы» (см. сцены из «Парижской жизни»). Это дает возможность не изображать его портрета и характера. До сих пор он жил бедно, покрывая свой дефицит дерзкими выходками наподобие Дантона; теперь же он уплатил долги; потом по совету Максима он приобрел низенькую каретку, был принят в жокей-клубы и клуб улицы Граммон и сделался необыкновенно изящным, наконец, он напечатал в «Journal des Debats» рассказ, доставивший ему в несколько дней такую славу, какой не достигают и настоящие писатели целыми годами труда и успеха. Все это эфемерное имеет наибольший успех в Париже. Натан, уверенный, что граф больше ничего не напечатает, так расхвалил милого и дерзкого юношу у Беатрисы, что она, заинтересованная рассказами поэта, выразила желание видеть у себя этого молодого «царька» повес хорошего тона.
– Он будет очень рад прийти сюда, он так влюблен в вас, что готов на всякие безумства.
– Да, он уже все их проделал, насколько я слышала.
– Все, нельзя сказать, – проговорил Натан, – остается одна: он еще не любил честной женщины.
Спустя несколько дней после заговора, составленного на итальянском бульваре между Максимом и обворожительным графом Карлом Эдуардом, этим молодым человеком, которому природа, конечно, в насмешку, дала чарующую меланхолическую наружность, он явился в первый раз в гнездо голубки, в улице Курсель, где для приема его выбран был вечер, когда Калист должен был ехать с женою в свет. Если вам встретится Пальферин или вы дойдете до «Принца богемы» в третьей книге этой истории наших нравов, вам вполне будет понятен успех, достигнутый в один вечер таким блестящим умом, особенной вдохновенностью, при содействии такого ловкого помощника, который старался поддержать его в этом дебюте. Натан был хороший товарищ, он показал молодого человека во всем блесне, как золотых дел мастер, выставляя на продажу парюру, старается показать весь блеск бриллиантов. Ла Пальферин ушел скромно первый, оставив Натана с маркизой. Он рассчитывал на сотрудничество знаменитого автора, который был восхитителен. Заметив впечатление, произведенное Пальферином на маркизу, Натан прибавил жару разного рода недомолвками и этим возбудил в ней такое любопытство, какого она и не подозревала за собой. Натан дал ей понять, что вовсе не ум Пальферина был главной причиной его успеха у женщин, а особенное уменье любить и, таким образом, сильно возвысил Пальферина в глазах Беатрисы. Здесь можно констатировать великий закон контрастов, который определяет кризисы человеческого сердца и объясняет разные странности; к нему необходимо обратиться иногда так же, как и к закону сходства. Куртизанки, – мы говорим о всем женском роде, который то возвышают, то унижают, то опять возвышают каждую четверть столетия, – таят в сердце постоянное желание вернуть себе свободу полюбить искренне, свято и благородно какого-нибудь человека, для которого пожертвовали бы всем (см. «Блеск и нищета куртизанок»). Они испытывают это желание с такой силой, что редкая из них не стремится очиститься посредством любви. Они не теряют мужества, несмотря на постоянные ужасные обманы. Напротив, женщины, сдерживаемые воспитанием, положением в свете, связанные благородством происхождения, живущие в роскоши, окруженные ореолом добродетели, стремятся – тайно, конечно – в горячий мир любви. Эти две противоположные натуры женщин таят в глубине сердца, одна – стремление к добродетельной жизни, другая – к порочной, что один из первых осмелился отметить Жан-Жак Руссо. У одной – это последний отблеск еще не угасшего божественного луча; у другой – это остаток нашей первобытной грязи. Натан с необыкновенной ловкостью задел этот коготок животного и вытащил этот волосок дьявола. Маркиза серьезно задалась вопросом, не подчинялась ли она до сих пор только рассудку, и было ли закончено ее воспитание. Порок? Может быть, это скорее желание все узнать.
На другой день Калист ей показался тем, чем он был, честным, безукоризненным джентльменом, но без оживления и ума. В Париже называют умным человеком того, кто блещет умом, как фонтан бьет водою. Все светские люди и парижане вообще считаются умными. Но Калист слишком любил, был слишком увлечен, чтобы заметить перемену в Беатрисе и заинтересовать ее чем-нибудь новым. Он казался очень бледным при вечернем освещении и не возбудил волнения в жаждущей страсти Беатрисе. Истинная любовь – это открытый кредит такой дикой силе, что момент разорения неизбежен. Несмотря на усталость, которую Беатриса чувствовала в этот день (день, когда женщина скучает возле своего возлюбленного), Беатриса содрогнулась при мысли о встрече Ла Пальферина, преемника Максима де Трайля, с Калистом, человеком смелым без всякой рисовки. Она не решалась видеться с молодым графом, но случай разрубил узел. Беатриса взяла треть ложи в Итальянской опере в темном первом ярусе, чтобы не быть видимой. Несколько дней Калист сопровождал маркизу и стоял сзади нее. Он старался приехать позднее, чтобы не быть никем замеченным. Беатриса выходила одна из первых, не дожидаясь конца последнего акта. Калист сопровождал ее на расстоянии, хотя за маркизой приезжал старый слуга Антон. Максим и Ла Пальферин наблюдали эту стратегию, внушаемую уважением к приличиям, необходимой осторожностью, какою отличаются влюбленные, и осторожностью женщин, павших во мнении общества. Женщины боятся всегда унижения, больше чем смертной агонии, но, благодаря стараниям Максима, Беатриса испытала это унижение, это оскорбление, которому женщины, стоящие на высоте Олимпа, подвергают упавших с него. На одном из представлений «Лючии», которое оканчивается, как известно, одним из самых блестящих триумфов Рубини, маркиза Рошефильд, не предупрежденная Антоном, вышла через коридор в переднюю театра. Вся лестница была покрыта хорошенькими женщинами, стоявшими на ступеньках или группами внизу, в ожидании своих экипажей. Все узнали Беатрису, она вызвала общий шепот. Толпа расступилась, и маркиза осталась одна, как зачумленная. Калист, видя жену на лестнице, не посмел подойти к отверженной. Напрасно Беатриса бросала на него взгляды, полные слез, моля подойти к ней. В эту минуту Ла Пальферин, изящный, обворожительный, оставив двух дам, приблизился к маркизе и заговорил с ней.
– Дайте мне руку и выходите гордо, я отыщу вашу карету, – сказал он.
– Хотите закончить вечер у меня? – предложила она, садясь в карету и давая ему место около себя.
Пальферин крикнул груму: «Следуй за каретой маркизы!» Сам же сел с Беатрисой, к удивлению Калиста, который стоял на месте, как пригвожденный. Беатриса потому и пригласила молодого графа с собою, что заметила волнение и бледность Калиста. Все голубки – Робеспьеры с белыми перьями. Три кареты с невыразимой быстротой катились в улицу де Шартр, карета Калиста, Беатрисы и Пальферина.
– А, и вы здесь! – сказала Беатриса, входя под руку с графом и увидев Калиста, лошадь которого перегнала другие экипажи.
– Разве вы знакомы с этим господином? – гневно спросил Калист Беатрису.
– Десять дней тому назад граф Пальферин был мне представлен Натаном, – отвечала Беатриса, – а вы, сударь, знакомы со мною четыре года…
– Я готов, – сказал Карл-Эдуард, – мстить маркизе д’Эспар до третьего колена за то, что она первая отошла от вас.
– А, это она! Так я ей отплачу за это! – воскликнула Беатриса.
– Лучшая месть это примирение с вашим мужем, и я могу возвратить вам его, – шепнул он ей на ухо.
Разговор продолжался до двух часов ночи, и Калист ярость которого сдерживали взгляды Беатрисы, не имел возможности сказать ей и двух слов. Ла Пальферин, не любивший Беатрису, по уму, любезности и хорошему тону далеко превзошел Калиста, который вертелся на стуле, как червяк, разрезанный пополам, и раза три вставал, чтобы дать пощечину Ла Пальферину. Когда в третий раз он сделал движение к графу, тот спросил его: «вы нездоровы, барон?» Слова эти заставили Калиста опуститься на стул, и он сидел, как столб. Маркиза разговаривала с непринужденностью Селимены, делая вид, что не замечает Калиста. Ловко бросив умное словечко, Ла Пальферин ушел, оставив поссорившихся влюбленных.
Итак, ловкий Максим заронил искру раздора в жизнь маркиза и маркизы Рошефильд. Узнав на другой день об успехе этой сцены от Пальферина в Жокей-клубе, где молодой граф удачно играл в вист, Максим отправился в улицу Ла Брюйер, в отель Шонц осведомиться, как шли дела мадам Шонц.
– Друг мой, – говорила она входящему Максиму; – я испробовала все средства, Рошефильд не излетим. Теперь, в конце моей любовной карьеры, я поняла, что ум это большое несчастье.
– Объясняй яснее.
– Во-первых, ной друг, в продолжение восьми дней я изводила Артура до невозможности, пилила его самым патриотическим образом, употребляя все очень некрасивые средства нашего ремесла. «Ты нездорова, – говорит он мне тогда с отеческой нежностью, – я делаю для тебя все, что могу, я люблю тебя до обожания». – Вы ошибаетесь, сударь, – говорила я, – вы мне надоели. – «Так что ж! Разве ты не можешь развлекаться с умными и красивыми юношами Парижа», – отвечает этот несчастный человек. – Я была побеждена. Больше, – я почувствовала, что сама люблю его.
– Вот как! – сказал Максим.
– Что делать? Это выше наших сил и бороться с этим нельзя. Я попробовала взять другую педаль. Я стала приставать к моему судейскому кабану, которого я обратила в такого же ягненка, как Артур, я усадила его в качалку Артура, и… я нашла, что он очень глуп. Боже, как он невыносим! Но надо было задержать Фабиена для того, чтобы он застал меня с ним…
– Ну, хорошо! – воскликнул Максим, – кончай же! Когда Рошефильд застал тебя?..
– Тебе не догадаться, мой милый. Как ты велел, оглашение нашей свадьбы уже началось и контракт составляется, – придраться ни в чему нельзя. Когда свадьба решена, не опасно дать и задаток. Застав меня с Фабиеном, Рошефильд на цыпочках ушел в столовую, начал напевать «Брум, брум», кашлять и двигать стульями. Дурак Фабиен, которому я не могу все говорить, испугался… Вот, дорогой Максим, как идут наши дела… Если Артур как-нибудь утром застанет меня вдвоем, он в состоянии спросить: хорошо ли вы провели ночь, дети мои?
Максим покачал головой, несколько минут играл тросточкой. – Я знаю эти натуры, – проговорил он, – тебе остается только одно: выкинуть Артура за окно и запереть покрепче дверь. Ты должна повторить последнюю сцену с Фабиеном.
– Вот каторга! ведь я пока не замужем, и не научилась еще добродетели…
– Ты постараешься поймать взгляд Артура, когда он застанет тебя? – продолжал Максим; – если он рассердится, то все будет кончено между вами; а если он примется впять за свое «брум, брум», это будет еще лучше.
– Как так?
– Тогда рассердись ты и скажи ему: я думала, вы меня любите, уважаете, а у вас ко мне нет никакого чувства, вы даже не ревнуете меня… – Ты сама найдешь, что сказать! – В этом случае Максим (сошлись на меня) убил бы соперника (и заплачь), а Фабиен (пристыди его сравнением с Фабиеном), которого я люблю, наверно, застрелил бы вас. Вот это любовь! Так прощайте, берите ваш отель, я выхожу за Фабиена. Он дает мне свое имя! Он забыл мать ради меня. Наконец, ты…
– Знаю, знаю все! – воскликнула Шонц. – Ах, Максим! не может быть другого Максима, как не было второго Марселя.
– Ла Пальферин сильнее меня, – скромно заметил граф, – он хорошо пошел.
– У него язык, у тебя кулак и сила! Сколько ты перенес! Скольких ты побил! – сказала Аврелия.
– У Ла Пальферина все, он умен и образован, я же неуч, – отвечал Максим. – Я видел Растиньяка; он переговорил уже с министром юстиции, Фабиен будет назначен председателем, а через год получит орден Почетного Легиона.
– Я сделаюсь Набожной! – проговорила Шонц, с особенным ударением, ожидая одобрения Максима.
– Священники лучше нас, – вставил Максим.
– А на самом деле? – сказала Аврелия. – Значит, в провинции есть люди, с которыми можно говорить. Я начинаю входить в свою роль. Фабиен сказал матери, что Дух Святой просветил меня, и прельстил ее миллионом и председательством. Она согласна жить с нами, просит мой портрет и прислала мне свой. Если бы Амур посмотрел на него, то упал бы в обморок! Теперь уходи, Максим; вечером я должна буду покончить с моим бедным Артуром, и это надрывает мне сердце.
Спустя два дня Карл-Эдуард сказал Максиму при входе в Жокей-клуб: – Все сделано!
Слово это, заключавшее в себе целую ужасную драму, за которой часто следует месть, вызвало улыбку у графа де Трайля.
– Теперь послушаем сетования Рошефильда, – сказал Максим, – так как вы кончили одновременно, ты и Аврелия! Она выгнала Артура и теперь надо устраивать его. Он должен дать триста тысяч франков мадам Ронсере и сойтись с женою. Мы постараемся доказать ему, что Беатриса лучше Аврелии.
– У нас еще десять дней впереди, – тонко вставил Карл-Эдуард, – и, говоря откровенно, это немного. Теперь, когда я познакомился с маркизой, я могу сказать, что бедного Артура ограбили.
– Что ты станешь делать, когда произойдет взрыв?
– Когда есть время подумать, всегда будешь умен; я же бываю особенно хитер, когда приготовлюсь.
Оба жуира вошли в залу, где застали маркиза Рошефильда, постаревшего на два года, без корсета, утратившего свое изящество и обросшего бородою.
– Что же, дорогой маркиз? – проговорил Максим.
– Ах, друг мой, жизнь моя разбита. – Артур говорил в продолжение десяти минут и Максим внимательно слушал его, думая в то же время о своей свадьбе, которая должна была состояться через неделю.
– Дорогой Артур, я давал тебе совет, как удержать Аврелию, но ты не хотел слушать.
– Какой? – спросил маркиз.
– Я уговаривал тебя ехать на ужин к Антониа.
– Да, правда. Но что же делать? Я ведь люблю… Ты же играешь любовью, как Гризье – оружием.
– Послушай, Артур, дай ей триста тысяч франков, и я обещаюсь тебе найти кого-нибудь лучше ее. Когда-нибудь мы поговорим об этой прекрасной незнакомке, теперь же я вижу д'Ажюда, который зовет меня на два слова.
Максим оставил неутешного маркиза и подошел к представителю другой семьи, требующей утешения.
– Друг! – говорил другой маркиз Максиму на ухо, – герцогиня в отчаянии. Калист велел потихоньку уложить свои вещи и взял паспорт. Сабина хочет следовать за беглецами, настичь Беатрису и исцарапать ее. Сабина беременна, и дело может кончиться смертоубийством, так как она открыто покупала пистолеты.
– Передай герцогине, – говорил Максим, – что маркиза Рошефильд не поедет, и что через две недели все будет улажено. Теперь, д'Ажюда, руку, помни, что мы с тобой ничего не говорили, ничего не знали! Мы станем наблюдать случайности жизни!
– Герцогиня заставила меня поклясться на кресте и Евангелии, что я буду молчать, – сказал д’Ажюда.
– Ровно через месяц ты увидишь мою жену.
– Очень рад.
– Все останутся довольны, – говорил Максим. – Передай герцогине, что одно обстоятельство может задержать путешествие в Италию на шесть недель, и это касается дю Геника, ты же узнаешь причину позднее.
– Что же такое? – спросил д’Ажюда, смотря в это время на Пальферина.
– На прощанье одно слово Сократа: мы должны петуха Эскулапу, но ваш родственник отделается одним только гребнем, – отвечал, не моргнув, Пальферин.
В продолжении десяти дней Калист находился в сильнейшем раздражении, пересилить которого не был в состоянии, так как оно поддерживалось искренней страстью. Беатрисе пришлось, наконец, испытать эту любовь, так грубо, но так верно описанную Максимом герцогине Грандлье. Нет человека, который хоть раз в жизни не испытывал такой сильной страсти. Маркиза чувствовала себя порабощенной высшей силой, человеком, такого же знатного происхождения, как и она, который смотрел на нее спокойным властным взглядом, и все старания ее женского кокетства с трудом могли вызвать у него улыбку одобрения. Она попала в руки тирана, который каждый раз оставлял ее измученную, в слезах, и считающей себя виноватой. Карл-Эдуард разыгрывал с маркизой Рошефильд ту же комедию, какую она играла с Калистом в продолжение шести месяцев. После публичного унижения в театре, Беатриса не переставала повторять дю Генику одно и то же:
– Вы предпочли мне свет и жену, значит, вы не любите меня. Если же хотите доказать вашу любовь, пожертвуйте женой и обществом, бросьте Сабину, и мы уедем за границу.
Вооружившись таким жестоким ультиматумом, она вызвала целую блокаду, которая у женщин выражается в холодных взглядах, в пренебрежительных жестах и в неприступности. Она думала избавиться таким образом от Калиста, в полной уверенности, что он никогда не решится порвать с Грандлье. Бросить Сабину, которой Фелиситэ де Туш передала все свое состояние, значило обречь себя на бедность. Но Калист, обезумевший от отчаяния, взял потихоньку паспорт и просил лишь выслать ему довольно значительную сумму. В ожидании присылки денег, он следил за Беатрисой, и мучался ужасной бретонской ревностью. Наконец, через девять дней после того, как Ла Пальферин сообщил Максиму роковое известие, барон, получив от матери тридцать тысяч франков, явился к Беатрисе с намерением разбить блокаду, выгнать Пальферина и покинуть Париж вместе со своим умиротворенным идеалом. Беатриса находилась в том состоянии, когда женщина, у которой еще остается частица самоуважения, навсегда может погрузиться в порок, но когда выход еще возможен. До сих пор маркиза Рошефильд считала себя за честную женщину, у которой было только две страсти. Но боготворя Карла-Эдуарда и позволяя Калисту любить себя, она теряла самоуважение: там, где начинается ложь, начинается низость. Калист имел на нее право и никакая человеческая сила не могла помешать ему броситься к ногам Беатрисы и омыт их слезами полного раскаяния. Многих удивляет тот бесчувственный и холодный вид, которым женщины умеют прикрывать свои чувства. Если бы они не стирали таким образом свое прошлое, они теряли бы достоинство и не были бы в состоянии противостоять тем фатальным вольностям, которые допустили хотя раз в жизни. Беатриса была бы спасена, если бы пришел Пальферин, но сметливость старого Антона погубила все. Слыша стук подъехавшей кареты, Беатриса сказала Калисту: – Гости.
И побежала предупредить взрыв.
Антон, как осторожный человек, сказал Карлу-Эдуарду, который приехал только затем, чтобы услышать эту фразу:
– Маркизы нет дома!
Когда Беатриса узнала о посещении графа и ответ слуги, она сказала: «Хорошо!» и, входя в зал, подумала:
– Я пойду в монастырь!
Калист открыл окно и увидел своего соперника.
– Кто приехал? – спросил он.
– Не знаю! Антон еще внизу.
– Это Ла Пальферин.
– Может быть.
– Ты любишь его, оттого и придираешься ко мне. Я его видел!
– Видел его!
– Я открыл окно.
Беатриса замертво упала на диван. Тогда она заключила перемирие, чтобы иметь в своем распоряжении хотя бы один день; она отложила поездку на неделю, ссылаясь на дела, и решила не принимать Калиста, если удастся примириться с Пальферином. Вот к каким ужасным расчетам, к каким жгучим страданиям приводят подобные существования, сошедшие с рельс общественной жизни. Оставшись одна, Беатриса почувствовала себя такой несчастной, униженной, что легла в постель, она заболела, страшная борьба, разрывавшая ей сердце, сменилась не менее ужасной реакцией; она послала за доктором и в то же время отослала следующее письмо к Пальферину, в котором она сумела отомстить Калисту:
«Мой друг! Приезжайте ко мне, я в отчаянии. Антон не принял вас, между тем вы могли бы положить конец одному из самых ужасных кошмаров моей жизни; вы избавили бы меня от ненавистного мне человека, которого я надеюсь больше никогда не увидеть… Я никого не любила, кроме вас, и никого больше не буду любить; к несчастью, только я не нравлюсь вам так, как бы мне хотелось…»
Она написала четыре страницы, начатые таким тоном и заканчивавшиеся экзальтацией слишком поэтической, для того чтобы можно было ее напечатать, но которая совершенно компрометировала Беатрису и кончалась фразой: «Разве я не в твоей власти? Ах, я не остановлюсь ни перед чем, чтобы доказать, как я люблю тебя!» И она подписалась, что никогда не делала ни для Калиста, ни для Конти.
На другой день, когда пришел граф, маркиза брала ванну. Антон просил его подождать. На этот раз он не принял Калиста, который, мучимый любовью, пришел очень рано. Пальферин увидел его в окно, когда тот садился в карету в полном отчаянии.
– Ах, Карл, – говорила маркиза, входя в зал, – вы погубили меня!
– Знаю, сударыня, – спокойно ответил Пальферин, – вы клялись, что любите только меня, хотели даже оставить мне письмо с объяснением причины вашего самоубийства, чтобы в случае вашей неверности я мог отравить вас, не страшась человеческого суда, как будто великим людям надо прибегать к яду, чтобы отомстить за себя. Вы писали мне: «я не остановлюсь ни перед чем, чтобы доказать тебе, как я люблю тебя». Мне кажется теперь, что ваши слова: «Вы погубили меня!» находятся в некотором противоречии с концом вашего письма… Я хочу узнать также, имели ли вы мужество порвать с Калистом?
– Ты отомщен, – сказала Беатриса, бросаясь ему на шею. – П мы соединены теперь на веки!
– Сударыня! – отвечал холодно князь богемы, – если вы хотите иметь меня вашим другом, я согласен, но с условием.
– С условием?
– Да, и вот с каким. Вы примиритесь с маркизом Рошефильдом, восстановите вашу честь, поселитесь в прекрасном отеле в улице д’Анжу и будете царить в Париже. Этого вы легко достигнете; заставьте Рошефильда играть роль в политическом мире, постарайтесь только быть такой же ловкой и настойчивой, как мадам д’Эспар. Вот какое должно быть положение женщины, которой я делаю честь – любить ее…
– Но вы забываете, что необходимо согласие Рошефильда.
– О, дорогое дитя, – отвечал Пальферин, – мы уже все устроили и доказали маркизу, что вы лучше всех Шонц квартала Сен-Жоржа, а через вас могу быть счастлив и я…
Целую неделю каждый день ходил Калист к Беатрисе. Антон ему отказывал, и принимая вид, подходящий к случаю, говорил: «маркиза опасно больна». Отсюда Калист летел к Пальферину, лакей которого отвечал: «граф на охоте!» и каждый раз бретонец оставлял письмо Пальферину.
На девятый день, приглашенный Пальферином для объяснений, Калист застал у него Максима де Трайля, которого молодой повеса хотел наверно сделать свидетелем этой сцены, чтобы показать свое уменье обделывать дела.
– Барон, – спокойно сказал Карл-Эдуард, – вот шесть писем, которые вы сделали мне честь написать, все они целы и не распечатаны, содержание же их я угадал, как только услышал, что вы ищите меня повсюду с того самого дня, как я видал вас из окна в то время, как вы стояли у подъезда дома, где накануне стоял я, когда вы были у окна. Я должен избегать неблагопристойных вызовов. Вы же не можете желать зла женщине, которая не любит вас больше. Плохое средство возвратить ее, ища ссоры с ее избранником. Но в настоящем случае письма ваши несправедливы и недействительны, как говорят адвокаты. Вы слишком благоразумны, чтобы препятствовать мужу сойтись с женой. Маркиз Рошефильд нашел, что настоящее положение маркизы не благопристойно, и через шесть месяцев, на будущую зиму, она покинет улицу Шартр и переедет в отель Рошефильд. Вы необдуманно мешали примирению супругов, которое, впрочем, вы сами и вызвали, когда не хотели спасти маркизу от унижения, в итальянской опере. Беатриса, которой я не раз передавал дружеские предложения ее мужа, приглашая меня сесть с ней в карету, сказала: «Поезжайте за Артуром!»
– О, Боже! – воскликнул Калист, – она права, я недостаточно был предан ей!
– Но бедный Артур, к несчастью, жил с одной из тех ужасных женщин, некой Шонц, которая давно уже с часу на час ждала, что ее бросят. Аврелия Шонц, которая, благодаря цвету лица Беатрисы, имела надежду сделаться маркизой, конечно, взбесилась, видя, что ее «испанские замки» разрушены, и решила отомстить и мужу и жене. Эти женщины ведь в состоянии выколоть себе глаз, чтобы потом выколоть врагу оба. Шонц, оставившая Париж, проколола шесть глаз, и если бы я по неосторожности влюбился в Беатрису, Шонц выколола бы целых восемь глаз. Разве вы не замечаете, что вам нужен окулист.
Максим улыбнулся, видя изменившееся лицо бледного Калиста, который, наконец-то, открыл глаза на свое положение.
– Поверите ли, барон, эта низкая женщина отдала руку человеку, который доставит ей средство отомстить? О, женщины!.. Теперь вам понятно, почему Беатриса и Артур в Ножан на Марне, где у них восхитительный домик и где они надеются снова вернуть себе зрение. В их отсутствие переделают отель, в котором маркиза желает блеснуть княжеским великолепием. Когда искренно любят благородную, возвышенную и милую женщину, жертву законной любви, то, если она хочет возвратиться к своим обязанностям, лицам, обожающим ее, как вы, и любующимися ею, как я, остается только взять на себя роль друзей, если нельзя быть ничем больше. Извините, что я сделал графа де Трайля свидетелем этого объяснения, но мне хотелось показать, насколько я невинен во всем этом. Вам я скажу, что, признавая ум в Беатрисе, я не терплю ее, как женщину.
– Вот чем кончаются наши чудные мечты и наша небесная любовь! – сказал Калист, пораженный такой массой открытий и разочарований.
– Рыбьим хвостом, или, что еще хуже, аптекарской склянкой! – воскликнул Максим, – первая любовь всегда кончается глупо. Все, что есть возвышенного в человеке, находит удовлетворение только в небесах… Вот что оправдывает нас, ветреников. Я долго думал над этим вопросом и, видите, со вчерашнего дня я женат и буду верен жене, вам же советую вернуться к баронессе дю Геник, но только через три месяца. Не жалейте Беатрисы, это тщеславная натура, лишенная энергии, мелочная кокетка, вторая д’Эспар, но только без ее глубоких политических знаний, женщина без сердца и ума, утопающая во зле. Маркиза Рошефильд любит только самое себя: она окончательно поссорила бы вас с вашей женой и бросила бы без сожаления. Наконец, она так же мало способна на порочную жизнь, как и на добродетельную.
– Я не согласен с тобой, Максим, – сказал Пальферин, – маркиза будет самой восхитительной хозяйкой в Париже.
Калист пожал руки Карлу-Эдуарду и Максиму де Трайль, поблагодарив их за то, что они излечили его от заблуждения.
Через три дня герцогиня Грандлье, которая не видала дочери со дня переговоров, зашла к ней утром. Калист брал ванну, а Сабина шила для ожидаемого ребенка.
– Как поживаете, дети? – спросила герцогиня.
– Отлично, дорогая мама! – отвечала Сабина, смотря на мать счастливыми глазами. – Мы разыграли басню «Два голубя», вот и все! – Калист протянул руку жене и пожал ее так нежно, и смотрел на нее так выразительно, что она шепнула матери: «Я любима, мама, и навсегда!»