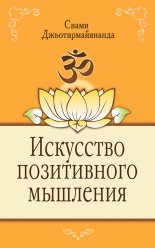Женский Декамерон Вознесенская Юлия

– Спасибо и на том! – засмеялась Эмма. – С чем бы мы здесь в туалет, извините, ходили, если бы в родильном доме не положено было раздавать газеты для политпросвещения матерей?
– А мы раньше «Блокнотом агитатора» пользовались, – с мечтательной ноткой в голосе произнесла Иришка. – У него и формат был подходящий, и бумага такая мягкая, рыхлая… Мы его из почтового ящика прямо в туалет несли. Валентина, а почему «Блокнот агитатора» теперь на такой неудобной бумаге стали печатать? Наверняка ведь подписчиков потеряли, бумага чересчур плотная.
Валентина ничего не ответила, отшвырнула газету в ноги кровати и повернулась лицом к стене. Женщины переглянулись и затихли: нехорошо как-то получилось, не отвечать же Валентине и за жесткую бумагу «Блокнота агитатора»…
Но Галина прервала тишину:
– Неля, а теперь, между прочим, ваша очередь. Вы нам обещали рассказ тоже о лагере, только фашистском.
– Да, только это будет рассказ вовсе не о первой любви, а рассказ о маминой шубе. Но зато из него вы поймете, почему у меня никогда не было первой любви в обычном понятии.
И Неля начала свой рассказ.
История восьмая,
рассказанная учительницей музыки Нелей, новелла, в которой тема первой любви неожиданно для автора сменяется темой первой ненависти, а еще она отличается от других тем, что имеет посвящение – поэту Науму Коржавину, написавшему потрясающее стихотворение о детях в Освенциме – «Мужчины мучили детей», и стихи эти, безымянные, ходят в списках по женским лагерям СССР
Я родилась во Львове перед самой войной. Мама у меня была еврейка, а отец поляк, но я себя считаю только еврейкой, и не потому, что у евреев национальность считается по материнской линии, а так… Ну, вы все сами поймете из моего рассказа.
Родители оба были музыканты. Единственная картинка, которая запомнилась мне из той жизни, – мама играет на рояле. Потом наступила такая жизнь, что я это воспоминание долго считала сном: ведь не могло же быть, чтобы когда-то было так хорошо! Мне снилось открытое окно, а в нем ветер раздувает легкую белую занавеску. Она влетает в комнату и задевает край рояля. За роялем сидит мама, очень красивая, в светлом платье, и играет. Она иногда поворачивает ко мне улыбающееся лицо и чуть наклоняет голову в такт музыке. И везде – на черной блестящей крышке рояля, на мамином шелковом платье, на желтом полу, который так хорошо пахнет, – танцуют под музыку солнечные зайчики. Их много, потому что за окном качается высокое дерево. На нем танцуют листья и танцует занавеска в окне, и я тоже танцую в своей кроватке. Конечно, я просто прыгала, держась за деревянную решетку, приседала, но в памяти так и осталось – я танцую. Потом как-нибудь я вам расскажу, как позже я поняла, что это все же был не сон…
Ну вот. А потом началась война и все мои осмысленные воспоминания связаны с нею. Во Львов пришли фашисты, и начались повальные облавы на евреев. Наш отец – это мама позже рассказала, когда я подросла, – решил, что самое лучшее для нас собрать вещи и пойти с утра на вокзал, как было приказано всем евреям. «Для нас» – это значило для мамы с тремя детьми. Мне тогда было два года, сестре Гене семь лет, а брату Левушке – девять. А на отца приказ о евреях не распространялся, он ведь был поляк, как я уже говорила…
Мама стала плакать, она очень испугалась за детей.
– Что ты так разволновалась? – возмущался отец. – Немцы цивилизованная нация, ничего плохого они вам не сделают. Вас эвакуируют в безопасное место где-нибудь в Германии, вы мне оттуда напишете. Не забудь сразу же сообщить им, что ты известная пианистка – может быть, они тебе организуют гастроли по Германии. Это же культурные люди, Бася, я не понимаю, отчего ты впадаешь в панику?
Но отец маму не успокоил. Она сказала ему, что пойдет к родственникам узнать, что они собираются делать, и побежала к дяде Арону за советом.
Дядя Арон был очень умный человек. Он всем потихоньку говорил, что единственный способ уцелеть еврею в этой обстановке – это внимательно следить за всеми фашистскими приказами и делать все в точности наоборот. Когда мама вошла в дом дяди Арона, она увидела, что вся его семья занята сборами.
– Неужели вы тоже хотите идти на вокзал? – удивились она.
– Ни в коем случае! – ответил дядя Арон, – Мы уходим под землю.
Оказалось, дядя Арон и еще несколько смелых и сообразительных евреев раздобыли где-то карту канализационной системы Львова и решили выйти по трубам к руслу подземной реки, протекающей под городом. Дядя Арон велел маме собрать все необходимое, взять побольше еды, потеплее одеться и ночью прийти к нему вместе с детьми. Отцу он приказал ничего не говорить, а просто объяснить ему, что все родственники решили явиться на вокзал вместе, чтобы не потеряться потом в дороге.
Отец маме поверил и не стал вмешиваться в ее сборы и тем более не собирался нас провожать. На улице еще было тепло, но мама достала из гардероба свою котиковую шубу и нас тоже обрядила во все зимнее.
Глубокой ночью мы пробрались к дому дяди Арона; это было опасно, потому что по городу ходил патруль. А позже мы вместе с его семьей и еще несколькими евреями пробрались задворками в какой-то глухой двор. Там уже был открыт канализационный люк, и мы все по одному спустились в него по железной лестнице до самого дна, а там нас уже встречали двое мужчин с фонарями. Самых маленьких снесли вниз на руках и старенькую маму дяди Арона, которая уже не ходила, тоже. Внизу нас повели по холодному и сырому подземелью куда-то в темноту…
Из нашей подземной жизни – а она продолжалась несколько месяцев – я мало что помню. Там было темно, горели слабые самодельные коптилки, везде капала вода и стоял отвратительный запах. А сверху иногда к нам доносился звон трамваев и колоколов. Дети плакали и просились наверх. Я тоже не хотела там оставаться. Мама говорила, что ей все время приходилось держать меня на руках: стоило на минуту отпустить, как я пыталась куда-то уйти. А еще там всюду бегали огромные крысы. Они охотились за нашими продуктами, и маме приходилось держать на коленях не только меня, но и наш мешок с едой. Ни Левушке, ни Гене она не могла его доверить, потому что от плохого воздуха они все время засыпали, и тогда крысы грызли мешок. Но однажды, когда у нас оставалось уже совсем мало еды и мама прятала мешок на груди под шубой, крысы все-таки нас ограбили. Мама то ли крепко уснула, то ли потеряла ненадолго сознание, и крысы прогрызли ее шубку, потом мешок и утащили все, что там оставалось. Потом мама нашла у кого-то иголку и сделала из пустого мешка заплатку на шубу. С голода нам умереть не дали, а в шубке с большой заплаткой на животе мама и в лагерь прибыла, где над ее видом очень смеялись немцы. Зато и не отняли!
Нас погрузили в вагоны и повезли в лагерь. Конечно, для всех это было большое горе, но только не для маленьких: мы ничего не понимали и только радовались солнцу. Правда, первое время мы и смотреть на свет не могли – глаза болели, но скоро это прошло.
В какой лагерь, спрашиваете? В обыкновенный. Фашистский концентрационный лагерь Освенцим. Да, в конце концов немцы нас все же выследили с собаками и взяли. Но не всех. Две семьи успели уйти и спастись. Говорят, это были единственные евреи, уцелевшие во Львове.
Про концлагерь я вам рассказывать не буду. Вы из кино и книг больше меня знаете, а я ведь совсем маленькая была и сама почти ничего не помню. Только одно хорошо запомнилось: как мы, дети, попавшие в женский барак вместе с матерями, боялись мужчин. Мы твердо и точно усвоили: женщины – это защита, мужчины – страшная опасность. Они могли избить, могли убить на месте, пристрелить, как щенка, ребенка только за то, что он громко заплакал. А самое страшное – они могли разлучить с мамой. Мы боялись отойти на шаг от матерей, старались все время держаться за юбку или за руку.
Левушку от нас забрали в мужской барак, и больше мы его не видели. А Геня скоро заболела, ее забрали в больницу, а оттуда в крематорий. Осталась я у мамы одна. Нам повезло, мы выжили и даже вернулись во Львов. Но в нашей квартире отец поселил уже свою новую жену, и у них даже успел родиться ребенок. Он дал матери денег на дорогу и посоветовал ехать в Ленинград, где жили ее родственники. Обещал платить на меня алименты. Но мама отказалась: деньги тогда ничего не стоили, она думала, что в Ленинграде сразу же найдет работу. Музыкантша, вы подумайте! Такая наивность ее и погубила в конце концов. Когда я думаю о маме, всегда удивляюсь, как она, такая неприспособленная, ухитрилась сохранить мне жизнь.
Да, но я еще вот что хотела сказать вам об Освенциме. Как-то наши женщины узнали, что готовится приказ о ликвидации всех еврейских детей. Нас уже оставалось совсем мало, все почти умерли, как ни берегли нас женщины. И тут мама приказала мне не отходить от нее ни на шаг, а завидев «дядю» – все равно какого, бежать к нашему месту на нарах и залезать под матрац. Я была такая худая, что на матраце, рассказывала мама, и бугорка не было видно там, где я лежала. Ах, как трудно было маме отучить меня потом от этой привычки! Уже я все понимала, уже мы как-то устроились в Ленинграде, но если чужой мужчина заходил к нам в комнату – управдом или сосед, например, я тут же молча бежала к маминой кровати и лезла под матрац.
Подросла я и пошла в школу. Под матрац прятаться перестала, но безумный ужас перед мужчинами у меня так и остался. В школе я училась отлично по всем предметам, кроме рисования – его вел учитель. Когда директор проходил мимо меня по коридору, я вжималась в стенку, а если заговаривал – не могла ответить ни слова, и его-то слов со страху не слышала.
С годами это почти прошло. Но когда я стала девушкой, я никак не могла понять моих подруг: как это они могут испытывать какие-то нежные чувства к молодым людям? А если какой-то мальчик пытался за мной ухаживать, я тотчас мысленно примеряла на него эсэсовскую форму. Конечно, рассказы матери об отце тоже посеяли у меня недоверие к мужчинам, но самое страшное было вот это крепко усвоенное в лагере: если идут мужчины – надо прятаться, иначе быть беде.
Как же, спросите, я с таким вот страхом все же вышла замуж? Очень просто. После смерти мамы родственники дали мне возможность доучиться в музыкальной школе, а потом я поступила в училище. Тут меня начали сватать, чтобы поскорее устроить мою жизнь. Они все уже старые были, мои дяди и тети, хотели поскорей до конца довести то, что маме обещали, – поставить меня на ноги и устроить. Знакомили меня с какими-то красивыми и ловкими молодыми людьми, тоже евреями, которые хотели жениться на ленинградке. Многим я нравилась, но я каждый раз плакала, что огорчаю своих родных, и отказывалась. А однажды пришел к одному из моих дядей его друг, сорокалетний вдовец, тоже хотел жениться, просил подыскать ему спокойную добрую женщину, которая могла бы заменить мать его двенадцатилетней дочери. Вот этого человека я не испугалась, потому что мне страшно жалко стало девочку: я ведь тоже в двенадцать лет осиротела. Борис Николаевич на меня и внимания не обратил, сидит девчонка в уголке и слушает. А когда он ушел, я набралась смелости и сказала дяде, что вот за этого человека я бы вышла замуж без страха. Дядя удивился и попытался меня отговорить: «Ты сама еще ребенок, где тебе дочь воспитать!» – и отказался меня сватать. Но тут я совершила единственный героический поступок в своей жизни. Как только Борис Николаевич пришел еще раз к дяде вместе с дочерью, я зазвала Ленусю к себе в комнату и все прямо ей сказала: и кто я сама и что хочу заменить ей мать. Ленуся моя расплакалась, обняла меня и тут же назвала мамой. Ну, а с папой своим она нас за неделю сосватала. Стали мы жить втроем, и страхи мои скоро меня оставили, разве что когда приснится что… Вот. А первой любви так и не было, как видите…
Все женщины пригорюнились, слушая рассказ Нели, а Иришка всхлипывала в платочек и шмыгала своим курносым носом, как младенец.
Бичиха Зина качала головой и приговаривала:
– Вот сволочи, вот ведь сволота какая… Сейчас в лагерях детишкам, конечно, тоже не сладко приходится, но все ж таки свои – не фашисты, хоть не стреляют.
– А ты про какие лагеря говоришь, Зина?
– Да про наши, советские, в которых «дэмээры» есть, бараки для детишек то есть. По-казенному Дом матери и ребенка. Если попадает зэчка с дитем или в лагере родит – его туда, в «дэмээр» этот. Подвезло мне, что сейчас не сижу, а то бы и мою дочку на казенный харч определили.
– Ты нам расскажешь про женские лагеря, Зин?
– Ой, не сегодня, девоньки! Два лагеря на день – это уши свянут. В другой раз. Сейчас вон Эмма пускай рассказывает, она этого дела затейница, вот ее и послушаем.
И Эмма тут же начала свой рассказ.
История девятая,
рассказанная театральным режиссером Эммой и повествующая о первой любви, объектом которой она стала, о соблазненном и покинутом художнике сцены и о том, что порой тому, кто соблазнил и покинул, тоже не позавидуешь
Я вам расскажу о том, как сама стала предметом первой любви, причем любви самоотверженной и, если хотите, даже в какой-то степени безумной.
Первый мой брак, еще студенческий, был и неудачен, и недолог: через год развелись, благо, новые законы вышли, ускоряющие этот душетравительный процесс. Расстались мы с моим сокурсником, и я сразу же вышла замуж за другого, тоже актера, но уже знаменитого в прошлом и пожинавшего остатки былой славы. Сейчас он вовсе спился и исчез с моего горизонта, но тогда я считала, что брак у нас очень удачный. Единственное, что меня изводило до бешенства, это его постоянные любовные истории. Как только ему давали новую роль, он тотчас влюблялся в партнершу по сцене. Билась я билась с ним и решила, что единственный для нас выход, если я хочу сохранить этот брак, – ехать играть в провинцию. Дали мне место режиссера в только что открытом театре в одном из новых городов Сибири. Бросили мы Ленинград и поехали. Муж соблазнился тем, что в провинции, да еще при жене-режиссере, ему обеспечены все главные роли. Так оно и вышло. Начала я прямо с постановки «Ромео и Джульетты», и он получил роль Ромео, хотя по возрасту и по виду уже годился разве что для Фальстафа. На Лира он не тянул талантом. И как легко догадаться, начал он изучение роли с того, что влюбился в Джульетту. А Джульетта у нас была само очарование: молоденькая девочка, только что кончившая театральное училище, глаза на пол-лица, фигурка точеная. От моего поношенного Ромео она, естественно, пришла в бурный восторг. Его потому на молоденьких и тянуло, что женщина постарше вмиг бы разглядела всю мишуру его чувств. Начался для меня ад. Провожу репетицию, а мой мерзавец, ничуть не стесняясь, своей Джульетте глазки строит, ручки пожимает, а роль, между прочим, ведет скверно: и слов не помнит, и все интонации у него фальшивые. Ну какой же Ромео в сорок с лишним, подумайте сами! Актеры, помреж, рабочие сцены – все всё видят и на меня косятся, кто сочувственно, а большинство со злорадным любопытством. Я же стараюсь взять себя в руки и сделать хороший спектакль. Словом, дохожу до полного нервного истощения, а до первого прогона еще работать и работать.
И тут, когда нервишки у меня совсем стали сдавать, вдруг замечаю я, что наш театральный художник Алеша, совсем молоденький мальчик, поглядывает на меня грустными влюбленными глазами. Заметила, и мне стало легче жить. Как только мой престарелый Ромео начинает при всех на репетиции куры строить глупенькой Джульетте, я только посмотрю на Алешу – и успокаиваюсь.
Однажды Алеша задержался после репетиции, подождал меня – я из театра последняя уходила – и объяснился в любви. Я молча погладила его по щеке и ушла. Но он продолжал просиживать все репетиции, не сводя с меня глаз.
Наступил день премьеры. Спектакль мой прошел с триумфом, местная городская знать устроила нам банкет. И вот на этом банкете мой Актер Актерыч, разогретый аплодисментами, заявил мне, что бросает меня и уходит к своей Джульетте. Выбрал времечко для семейного конфликта. С горя я отправилась после банкета с Алешей гулять по городу, а потом пошла к нему в его комнатенку, которая у него была при театре, да и осталась до утра. А утром, как только я глаза открыла, он и спрашивает: «Когда мы с тобой поженимся?» Я на него удивленно поглядела и отвечаю, что это невозможно.
– Ты не смеешь мной играть, – вспыхнул он. – Это тебе не театр! Если ты сегодня не останешься со мной навсегда, я покончу с собой.
Я плечами пожала.
– Из бутафорского пистолета застрелишься? В добрый час.
И ушла.
Прихожу через пару часов на репетицию – Алеши нет. Вот и хорошо, думаю, спокойно поработаю. И вдруг прибегает наш администратор и сообщает, что Алешу увезли в больницу на промывание: отравился каким-то снотворным. Первая мысль моя была: «Да как он посмел! Что ж это он меня на посмешище выставляет?» Кто-то из молодых актеров побежал в больницу узнавать, а я взяла себя в руки и провожу репетицию как ни в чем не бывало. Только сердце ноет. А вечером мне говорят, что Алеша при смерти, слишком много он хватанул этой гадости. Тут я не выдержала, побежала к нему. Узнав, что я его начальство, меня пропустили в палату. Он едва в себе был, но меня узнал, глазенки заблестели. Шепчет: «Теперь ты меня не покинешь?» – «Не покину, не покину!» – отвечаю, а сама думаю: как же мне теперь быть-то с этим дурачком?
Пока Алеша болел, я добилась перевода в Ленинград. И что же вы думаете? Он, как только поправился, тотчас уволился из театра и помчался ко мне. И началось что-то вовсе кошмарное: работы у него в Ленинграде нет, жить ему негде, скитается невесть где и каждый день звонит мне по телефону. Как-то я ему говорю: «Алеша! Ведь ты не девушка, которую я соблазнила и с ребенком бросила. Как тебе не стыдно, будь же ты мужчиной!» Не понимает, дурачок. Говорит: «Если бы у нас был ребенок, я бы взял его себе и мне бы легче было». Кончилось тем, что я от этой заботы в нервную клинику должна была лечь. Только это Алешу и остановило, заставило уехать из Ленинграда – он за меня перепугался. А я теперь иногда думаю, когда слышу истории о соблазненных и покинутых: «Интересно, кому из них хуже, ей или ему?» И знаете, я предпочту трижды покинутой быть, чем еще раз этакий шквал чужой любви выдержать. Бог с ней, с этой любовью! Предпочитаю ее видеть на сцене, где кинжалы картонные, а яд – подкрашенная водичка.
Посочувствовали женщины: кто Алеше, а кто и самой Эмме.
Тут подошла очередь рассказывать Иришке.
История десятая,
рассказанная секретаршей Иришкой, повествующая о безумных страданиях юных влюбленных, но заканчивающаяся хэппи эндом
Мы встретились с моим будущим мужем Сережей на пляже у Петропавловской крепости. Был жаркий день, все купались, а у меня болело горло. Я сидела на стволе упавшей ивы возле самой воды, и мне было жарко и грустно. Вдруг ко мне подбежала огромная черная собака чау-чау и стала меня обнюхивать. Я боюсь незнакомых собак и потому замерла, вспомнив, что говорил отец: «Если боишься собаки, то старайся не двигаться и не показывай виду, что боишься». И тут я услышала веселый голос:
– Мишка! Разве можно пугать такую красивую девочку? Посмотри, она почти такая же красивая, как ты.
Хозяин собаки подошел к нам и сел рядом на бревне.
– Ты не рассердишься, если я посижу здесь, пока Мишка купается?
– Сиди сколько хочешь. А почему ты сам не купаешься со своим Мишкой?
– Мне нельзя, горло болит. А ты почему?
– У меня тоже горло.
– Тогда давай вместе смотреть, как купается Мишка.
Мы сидели и смотрели. Потом Мишка выбежал из Невы, подбежал к нам и стал отряхиваться. Из его кудлатой шерсти на нас полетел целый фонтан воды, нам стало весело и уже не так жарко.
– Тебя как зовут?
– Ира. А тебя?
– Сережа. А вот там загорает моя мама. Хочешь, я вас познакомлю? Пойдем к ней.
Мы подошли к Сережиной маме, и он сказал:
– Мама, посмотри, какую красивую девочку нашли мы с Мишкой! У нее такие красивые глаза, даже красивее, чем у Мишки, правда? У нее глаза, как у коровы. Можно, я на ней женюсь?
Сережина мама сказала, что можно, только чуточку попозже, а пока она угостит нас клубникой. Она достала из сумки стеклянную банку с ягодами и протянула ее сыну, а Сережа стал выбирать и отдавать мне самые крупные клубничины.
– Ты почему мне отдаешь самые хорошие ягоды? Это же несправедливость.
– Потому что у тебя болит горло.
– У тебя тоже болит!
– Это не считается. Я мужчина и все равно сильнее и здоровее тебя. И вообще я теперь всегда буду о тебе заботиться. Ты согласна?
– Хорошо, заботься.
Потом я повела Сережу знакомиться с моими сестрами и тоже сказала, что он на мне женится и что ему мама уже разрешила. Сестры над нами смеялись, но как-то даже и не обидно. По-моему, они просто немножко завидовали мне.
Нам было пора уходить, мы стали собираться.
– Ты придешь сюда завтра? Я каждый день гуляю с Мишкой возле того дерева.
– Приду, если мама меня отпустит без сестер. А еще ты можешь мне позвонить, у нас есть телефон. Запомни номер.
Я сказала Сереже номер нашего телефона, и он много раз повторил его, чтобы не забыть.
А назавтра я заболела еще хуже: после ангины у меня стало плохо с сердцем и меня положили в больницу. Я лежала и плакала о том, что Сережа и Мишка ждут меня напрасно у дерева и грустят. Я вспоминала тот день и думала, что мы уже никогда больше не увидимся. А еще я плакала потому, что из-за болезни меня остригли наголо и я уже больше не была похожа на Мишку. Это были самые печальные дни в моей жизни.
Но однажды в палату пришла сестра и велела мне надеть халатик и выйти в коридор: «Там к тебе пришли посетители!» Я удивилась, потому что мама в этот день ко мне уже приходила. Но это оказался Сережа со своей мамой. Когда он увидел, что меня совсем остригли, он разревелся и сквозь слезы сказал роковые слова:
– Ты теперь больше не похожа на Мишку! Они тебя совсем ухудшили!
Я подумала, что Сережа больше меня не любит и никогда на мне не женится. Отвернувшись и заплакав, я пошла в палату. И это была самая трудная и горькая минута в наших с ним отношениях. Я шла к дверям палаты и думала, что вот сейчас умру. Но он меня догнал у самых дверей.
– Что же ты уходишь? Мы ведь тебе виноград принесли. Мама сказала, что ты от него сразу поправишься. Пойдем к ней!
Потом, когда мы сидели на скамейке в коридоре и ели виноград, Сережа сказал мне: «Ты теперь совсем некрасивая, но такая жалобная-жалобная! Ну прямо как мокрый котеночек!» А его мама сказала, что нечего девочку все время сравнивать с разным зверьем, что обижать меня она ему не позволит. И правда, потом она всю жизнь так и делала, защищала меня, если ей казалось, что Сережка меня обижает. Только он по-настоящему меня не обижал, и больше в нашей жизни драматичных моментов не было. В школе мы на одной парте все десять лет просидели, а после школы почти сразу и поженились. Вот такая была моя первая любовь. Только почему «была»? Она продолжается…
Этой историей и закончился первый день нового, как шутили рассказчицы, «Женского Декамерона». Тут как раз на двух столах-колясках привезли ребятишек, раздали их мамам, и те принялись кормить своих крохотных сыновей и дочерей. А назавтра уговорились рассказывать истории о соблазненных и покинутых, поскольку Эмма всех заинтриговала необычной постановкой вопроса: кому хуже – соблазненному или соблазнителю, покинутому или покинувшему? Это ведь только на первый взгляд кажется, что выбирать тут не из чего – хуже всех тому, кого покинули. Но посмотрим, что завтра расскажут нам наши женщины. А вы сами пока тоже вспомните случаи на эту тему, с которыми вы сталкивались в жизни или о которых слышали от кого-то, и вы согласитесь, я уверена, что однозначного ответа на этот вопрос жизнь все же не дает. Как, впрочем, и на многие другие. Итак, до завтра!
День второй, глава вторая,
в которой рассказываются истории о соблазненных и покинутых
Второй день Женского Декамерона начался куда веселее, чем первый: уже с утра женщины готовились к вечерним, рассказам и не унывали, а когда долгожданный вечер наступил, дети были накормлены и увезены спать в детскую палату, женщины улеглись поуютнее в своих постелях, и Лариса первой начала рассказ.
История первая,
рассказанная биологом Ларисой и представляющая собой просто-напросто анекдот
Я вам расскажу анекдот, который мне кажется ключом, открывающим психологическую основу всех историй о соблазненных и покинутых. Согласны?
– Давай, Лариса!
– Ну, слушайте. Лежат двое на травке в лесу. Он ее соблазняет, она осторожничает, но помаленьку поддается.
– Ты меня любишь. Ваня?
– Люблю, люблю!
– А женишься на мне?
– Женюсь, женюсь!
– Не оставишь с ребеночком?
– Не оставлю, не оставлю!
– А шубку купишь?
– Куплю, куплю!
– А в кооператив вступишь?
– Вступлю, вступлю!
– И на курорты будешь меня возить?
– Буду, буду!
– А зонтик подаришь?
…
– Уф-ф… А зачем тебе зонтик?
Женщины посмеялись над анекдотом, а несостоявшаяся «фрау» Ольга Зайцева заметила:
– Очень жизненный анекдот!
Бичиха Зина, чья очередь была рассказывать за Ларисой, сказала:
– Это точно, в жизни все так и есть. Я, девки, прямо с этого анекдота могла бы свою байку начать, но уж коли Лариса его первая выдала, так я начну издаля…
История вторая,
рассказанная Бичихой Зиной, как две капли воды похожая на историю ее собственной первой любви, из чего можно заключить, что солдатская любовь – дело непрочное и ненадежное. Впрочем, мы имеем в виду только любовь солдата к девушке, но отнюдь не к родине, коммунистической партии или идеалам интернационализма, так что обвинить нас в клевете на советскую армию никак нельзя, поскольку измена невесте и измена родине – две большие разницы, как говорят в Одессе
У нас в деревне жила такая Клавка. Ох, и бедовая была девка! За этой Клавкой солдатня наперебой ухаживала, но она себя блюла: чуть что – в морду и тикать. Приданого-то у нее одна целка и была, отец пропойца, а мать инвалидка. Вот она за целку свою обоймя руками и держалась. А чтоб не снасильничал кто, она после танцев или кина не провожалась, а шла домой с подружками, за которыми никто не ухаживал. Но, как говорится, чему быть – того не миновать. Приглянулась она старшине-сверхсрочнику из хохлов, и решил он своего добиться. С подходцем начал: дескать, вот мамаша у меня старенькая на Украине живет, сад и дом хороший имеет, а годы уже не те, помощница нужна… На это Клавка уши развесила, как трико на веревке. Позволила она старшине провожать себя опосля танцев. Но в кустья с ним не шла, остерегалась. Так он ее хитрее заполучил, на мягкой родительской перине. Взял он и посватался к ней. Клавка рада, родители пуще – в сытые места девка едет, на юга. Выложились до крайности, последнюю овцу зарезали, кабанчика продали, в долг набрали деньгами и водкой, а свадьбу справили дочери по-людски. Расписываться старшина предложил дома, на Украине; мол, чего ж в солдатскую книжку штамп ставить, все одно ее сдавать – паспорт крепче будет. Клавка и сама знает, чем эти расписки по солдатским книжкам кончаются: дембиль вышел – ни книжки, ни мужика.
Отгуляли свадьбу, стал наш старшина с молодой женой к матери своей собираться. Чемоданов накупил: какое ни есть, приданое Клавке собрали. Ходит он по дому и выглядывает, что бы еще в новые-то чемоданы прибрать: «Вы, мамаша, нам это вот отдайте да то, в молодом хозяйстве все пригодится!». Иконку со стены и ту прибрал: «А это у нас будет ваше родительское благословение!» Отправил добро малой скоростью поездом, взял себе с Клавкой билеты не в какой-нибудь, а в купейный вагон, и отправились наши молодые на счастливую новую жизнь. Мы, девки, Клавку провожаючи, завидовали: «Молодец девка! Не нам чета, раззявам».
Одначе рано мы ей позавидовали. Дня через два получает Клавкина мамаша телеграмму: «Мама, вышли денег и спроси в части адрес Михаила, дорогой потерялся». Хохот поднялся в деревне, как Клавкина мать стала телеграмму показывать. Но в части ей адрес матери Михаила дали, пожалели девку. Денег уж не знаю где она нашла, Клавкина мать, они ж с этой свадьбой как есть голые остались.
И приходит через месяц от нашей хитрой Клавки последнее письмо. Пишет она, что нашла село, где жил Михаил, и дом его ей добрые люди показали. Только из дома-то встречать ее вышла молодка с двухлетним пацанчиком на руках. Клавка наша заревела и давай ей рассказывать, как обманул ее Михаил, а та, как только взяла в толк, кто перед ней, ребенка – на травку, а сама хвать грабли да и погнала Клавку со двора!
Вот такая была, как вы тут говорите, «соблазненная и подкинутая» в нашей деревне. И где она теперь, никто у нас не ведает. Может, как я, по кривой дорожке пошла да в бичах теперь кантуется, баланды вдосталь нахлебавшись. А может, и вовсе сгинула, мне про то неизвестно.
Тут подошла очередь рассказывать Наташе, и она начала с предупреждения:
– История, которую я вам расскажу, очень похожа на Зинину, но конец у нее другой, счастливый. Только я прошу вас заметить, милые женщины, что для того, чтобы история моей соблазненной и покинутой обернулась хорошей стороной, нужно было невероятное стечение обстоятельств.
История третья,
рассказанная инженером Наташей, в которой все кончается свадьбой, но для этого нужно было случиться, чтобы великая доверчивость встретилась со столь же великой мудростью
Работала у нас в конструкторском бюро девочка-чертежница Света Парамонова. Девочка прехорошенькая, но наивная до невозможности. Верила, что конфеты «Птичье молоко» и вправду делают из молока птиц. Над нею так и подшучивали: «Девочка Светочка, птичьим молоком вскормленная».
Однажды прислали к нам в командировку симпатичного парня из Армении, из Еревана. Стал он за нашей Светочкой ухаживать и. смотрим, не без успеха. А пара – загляденье! Светочка вся беленькая, как одуванчик в пуху, а он красавец-горец с томными черными глазами. Ухаживал, ревновал смертельно, так глазами и сверкал на всех, а потом наобещал дурочке, что едет мать с отцом предупредить, чтобы к свадьбе готовились, – и уехал, оставив нашу девочку с пузиком. Светочка ждет-пождет: ну как же, Рафик сказал, что вернется, значит, надо терпеливо ждать. Мало ли, говорит, какие у них там долгие переговоры с родителями идут, какая длительная подготовка к свадьбе. Словом, пока Рафик «к свадьбе готовился», Светочка наша благополучно родила мальчика. Только чуть окрепла, стала в дорогу собираться. Мы ей: «Не дури! Ты уже мать, нельзя тебе быть такой доверчивой, ты же не за одну себя отвечаешь. Куда ты с ребенком попрешься?» Ничего слышать не хочет: «А вдруг он заболел или еще что-нибудь нехорошее случилось?» Поехала в Ереван, даже не зная адреса. А через месяц получаем мы свадебную фотографию: сияют оба с Рафиком, будто так и надо, будто так эта свадьба и планировалась. «Надо же! – говорят у нас в отделе. – Неужели наша Светочка была хитрее, чем нам казалось? Как она сумела этого парня прижать?»
Летом кто-то из наших поехал отдыхать в Армению, взял да и заехал к Светочке. Тогда-то все и выяснилось.
Оказывается, эта дурочка со своим малышом заявилась прямо к родителям своего Рафика и спрашивает, где он. Ей отвечают, что Рафик в командировке в Москве.
– А вы кто?
– А я его жена, а вот это маленький Рафик, его сын. Здравствуйте! А вы наша бабушка, а вы – дедушка, да?
Старики растерялись. А Светочка – ни капельки.
– Я так рада, что нашла вас! А что было с Рафиком? Его что, в такую долгую командировку услали или он болел? Почему он не смог приехать за нами?
Мать этого Рафика умницей оказалась. Она взяла внука, понесла в дом, незваную невестку накормила, а за ужином все, слово за словом, у нее выспросила. Поняла она, что за дитя перед нею, и старику рассказала.
Через месяц возвращается Рафик, а в саду у них столы расставлены, гости сидят, ждут.
– Что это, мама? Свадьба сестры, что ли?
– Нет, это твоя свадьба, сыночек.
Тут из дома выходит отец и выводит к нему счастливую Светочку. Кинулась к нему наша дурочка, обнимает и кричит: «Что же ты не написал про свои бесконечные болезни и командировки, я же так волновалась! Еще бы немножко, и я бы стала в тебе сомневаться!»
Старик на эти слова погрозил Рафику кулаком и грозно сверкнул очами: смотри, мол, сам, какого ребенка хотел обмануть! Рафик послушно кивнул ему – и свадьба пошла своим чередом.
Так наша девочка Светочка и не узнала никогда, что была и соблазненной и покинутой. Счастливый человек!
После Наташи должна была рассказывать Валентина, которую женщины успели за глаза окрестить Номенклатурщицей. Все обернулись к ней с некоторой опаской: неужто опять начнет читать лекцию на моральную тему? Но опасения их оказались напрасными.
История четвертая,
рассказанная Номенклатурщицей Валентиной. Это одна из фантастических «выездных» историй, хотя надо сказать, что вся история эмиграции из Советского Союза – сплошная фантастика
Есть, знаете ли, в ведении депутатов трудящихся порой такие дела, о которых даже мало кто слышал, так редко они в жизни встречаются. Например, установление отцовства: если человек был женат, имел детей, но умер, а какая-то женщина пытается доказать, что она после его смерти родила от него ребенка. Дела такие бывают в нашей практике редко и почти всегда остаются без удовлетворения, даже если их через суд пытаются разрешить. Тут все так трудно доказуемо, что и суды в тупик становятся. На Западе, говорят, такие вопросы решает научная экспертиза, но у нас этого пока нет. Но вот однажды одно такое дело было решено и положительно, и очень скоро.
Приходит к нам старая женщина и говорит: «У меня женатый сын погиб в автокатастрофе, а от него сейчас вот должен родиться ребенок у студентки филологического факультета университета. Мы бы хотели, чтобы наш внук носил имя сына и был зарегистрирован. Можно это сделать?» Отвечаем, что можно, но если есть вдова, то она должна подтвердить, что покойный муж изменял ей именно с этой женщиной и что она не возражает, если пенсию за него будет получать еще один ребенок.
На другой день приходит молодая дама и говорит: «Да, я знаю, что это ребенок от моего мужа. Не возражаю, если ему будет дана та же фамилия, что и мои дети носят». Удивились все наши работники такому благородству, но потребовали еще свидетелей. Появились свидетели – жильцы квартиры, в которой жил покойный. Да, подтверждают, водил он гражданку такую-то в отсутствие жены и при всех нас как-то на кухне обещал ей развестись и жениться на ней. Видели, мол, как деньги ей давал и как она ему однажды в коробке принесла подарок – было, значит, и общее имущество. Ну, когда и дворник того дома к нам явился, подтвердил, что ходил, носил и так далее, пришлось оформлять отцовство. Тут как раз и ребенок родился. Студенточка-мама была еврейкой, мальчик родился черненький, а предполагаемый папа и вся его семья – белокурые, как большинство ленинградцев. Так что внешних доказательств и не было, одни свидетельства.
Оформили мы все как полагается, а сами удивляемся возросшему благородству советских людей. Вот человек соблазнил и так трагически покинул соблазненную им женщину, а она родила сына и дала ему отцовское имя, пенсию будет получать на ребенка хорошую, а не пять рублей как мать-одиночка. И все только потому, что кругом оказались такие хорошие, честные, настоящие советские люди.
А через месяц мы узнали, что вся орава новоиспеченных родственников «соблазненной и покинутой» выехала вместе с нею в Израиль: оказывается, она накануне родов получила разрешение на выезд, вот тут-то они все и оформили! И вправду ли ребенок был у нее от покойного или нет – этого мы уж теперь никогда не узнаем. Пытались мы потом притянуть за лжесвидетельство и дворника, и соседей – но поди докажи! Так и улизнули все от ответственности, А нам об этом случае часто напоминают, чтобы мы не теряли бдительности.
Не успела Валентина закончить, как на нее налетела Галина, Диссидентская жена или просто Диссидентка, как ее успели прозвать женщины. Она вообще поглядывала на Валентину косо, недоверчиво.
– Позвольте. Валентина, – воскликнула она, – а какие у вас основания подозревать, что ребенок не был сыном покойного?
– Да я же вам говорю, что они все в Израиль укатили!
– А что в этом плохого?
– А то, что они к ребенку и к этой «соблазненной и покинутой» прицепились, как вагоны к паровозу!
– Значит, они хотели выехать, но просто поставить визу и паспорт, купить билет на самолет и улететь они не могли?
– Если бы им дали разрешение – пожалуйста, никто не держит!
– А вы думаете, Израиль им не дал бы разрешения на въезд?
– При чем здесь Израиль? А у нас могли не дать по соображениям государственной безопасности.
– Спасибо вам, Валентна, замечательную вы историю рассказали, хоть и насквозь антисоветскую.
Все улыбнулись такому неожиданному выводу. Но о политике говорить никому не хотелось, поэтому попросили начать рассказ Алину, чья была теперь очередь.
История пятая,
рассказанная стюардессой Алиной и представляющая собой советский вариант «Лолиты»
Для начала Алина обернулась к Диссидентке Галине и спросили:
– Вот вы, Галя, читали такой запрещенный роман писателя Набокова «Лолита»?
– Читала. Только он не запрещенный, а просто напечатан на Западе. И автор давным-давно на Западе.
– А надо бы запретить!
– Ну. Алина, от вас ли слышу? Неужели вас смущает в книгах то, чем вы занимаетесь в жизни?
– В жизни меня ничем не смутишь, это верно. А книжку эту я бы за вранье запретила, а не за секс. В этой книжке, девочки, один здоровый мудак со смаком пишет про то, как он у девчонки мать убил, чтобы не мешала ему ею наслаждаться, и как он самой девчонке жизнь испакостил и тоже убил под конец.
– Алина, что вы такое говорите! Не убивал герой ни матери, ни дочери. Любовника Лолиты он убил из ревности, а мать и дочь погибли: одна под машину попала, а другая при родах умерла.
– Это он так пишет, а вы верите, наивные. Между строк читать надо! Он же матери нарочно свой дневник подсунул, в котором писал, что на девчонку нацелился и для этого на старой дуре женился. А мать прочла и бросилась под машину. Я думаю, Галина, что этот тип заранее все на десять ходов просчитывал. Он ведь и утопить ее хотел, да не вышло.
– Ну, предположим. А сама Лолита? Разве она не при родах умерла?
– Да что вы такая непонятливая, Галя! Вы сколько часов рожали?
– Не считала. Часа три-четыре, наверное. А что?
– А то, что если бы вас с десяти лет толкли толстой вонючей палкой, все бы вам внутри перекорежили, так вы бы так легко не отделались. Из меня мою девку трое суток тащили, уже хотели кесарево делать. Моя б воля, я бы и этому вашему Набокову, и всем мужикам, которые на детей лезут, раскаленными щипцами все их половое устройство повырывала! А первому – тому гаду, который со мной в Лолиту эту когда-то сыграл. Ненавижу!
Лицо Алины покраснело и сделалось уродливым, слезы брызнули из глаз, смывая тушь и тени. Галя бросилась к ней, присела на ее кровать, обняла.
– Успокойтесь. Алиночка! Молоко может пропасть, не надо так переживать. И не стоит ничего рассказывать, если вам тяжело вспоминать.
– Чего уж не вспоминать… Умирать буду, вспомню и прокляну!
А история-то короткая, почти нечего и рассказывать. Этот Набоков деньгу, видно, зашибить хотел покрупней, вот и рассусолил пакости свои на целую книжку, размазал сопли по страницам. А вы, интеллектуёвые дурочки, вздыхаете, будто там медом намазано. Слышала я ваши разговорчики, бывала я в культурном обществе. А в жизни все это так просто бывает, что и рассказывать нечего, а только взять да повеситься от злости.
Алина высморкалась, вытерла глаза, отдышалась и принялась за рассказ.
Мать у меня тоже дура была, вроде той, Лолитиной. Отец нас бросил, и жили мы вдвоем на ее зарплату. Жили под Ленинградом, около Луги, в поселке Толмачево. Мать учительницей работала.
Я хорошенькая росла, просто ужас! По улице с мамой идем – все заглядываются, пристают. А нам нравилось. Как я теперь понимаю, у матери радости только и было, что дочка такая куколка. В школе я первые годы хорошо училась, при маме-то. Потом уж все под откос пошло, но это дальше…
Помните, девочки, как начался всеобщий кайф на фигурном катании? Все родители только и мечтали, чтобы своих детей устроить в школу фигурного катания, Черноусовых и Беложоповых из них вырастить. Моя тоже коньки мне купила и стала возить по воскресеньям в Ленинград, в воскресную школу фигурного катания. У меня здорово получалось, девочки! Если бы не эта сволочь Каюров, я, может, сейчас бы не разносила в самолете соки с улыбочками, а сама по Европам каталась, чемпионкой бы стала.
Так про Каюра. Приходит раз на каток известный тренер Каюров, который уже много талантов на лед выпустил. Поглядел он на наше катание и выбрал меня: «Талант у этой девочки несомненный. Но заниматься надо систематически и с более опытным тренером. Данные и фактура редкостные». Фактура, мля! И мать, и тренерша уши развесили, а я тем более. А он дальше обрабатывает: «Надо вам для счастья дочери перебираться в Ленинград, и время упускать никак нельзя, каждый месяц тренировок сейчас – это годы успеха впереди». Дал он матери поахать, порасстраиваться, а потом и говорит: «Вы ищите обмен с Ленинградом, а я поговорю с женой: думаю, она согласится, чтобы Алиночка пока пожила у нас и занималась у меня в спортивной школе». «Алиночкой» я у него уже стала… Ну, мы чуть не руки целовать ему кинулись за такую доброту. Доброта, мля!
Простите, девочки, что почти что ругаюсь, не могу удержаться – не выкипело. Да и не выкипит. Вы только послушайте, что этот гад надо мной вытворял.
Жена у него, точно, была. Только приходящая, для отвода глаз. Чем он ее заставлял такую роль при себе играть, не знаю, но только женой она ему не была. Мы с матерью ни о чем не догадывались. Приехали к Каюру, встретила нас эта мадам как самых дорогих гостей: «Ах, деточка! Ах, милочка!» Угощают нас деликатесами, мама даже рюмочку согласилась выпить. А сама на краешке стула сидит, за мое будущее трепещет. Каюр, слово за слово, сразу к делу: «Незачем ей возвращаться, время терять. Завтра пойдет в школу, начнем тренировки. Аллочка, приготовь девочке комнату!» Жена эта его подставная, Аллочка, повела меня показывать мою будущую комнату. Не знала я тогда, что это тюрьма моя будет на целых три года. И не тюрьма даже, а камера пыток. Зашла в комнатку эту и от счастья чуть не описалась: все новенькое, мебель как игрушечная, кроватка как раз для меня, а на ней большая кукла импортная сидит, меня ждет. Алла соврала, что это ей кто-то подарил, а вот теперь для меня пригодилась. Потом я узнала, что Каюр все заранее рассчитал и приготовил.
Простилась я с мамой, уехала она. Каюр и говорит Алле: «Девочка устала, уложи ее. Когда разденется, посмотришь мускулатуру и скажешь мне, все ли в порядке». А эта дрянь под него работала, по программе. Разделась я перед ней в своей новой комнате, она оглядела меня, пощупала руки-ноги и говорит: «Не знаю, деточка, выйдет ли толк. Мне кажется, у тебя мускулы на ногах затянуты. Или я ошибаюсь?..» Вроде раздумывает, стерва. А я так и замерла: неужели чемпионки из меня не выйдет? Смотрю на нее во все глаза и вот-вот зареву. Она погладила меня по голове и успокаивает: «Семен Ильич очень хороший тренер, не расстраивайся. Может, еще не все потеряно. Позвать его, чтобы сам посмотрел?» Я, дурочка, обрадовалась: «Позовите, тетя Алла!» Ох, как у них все продумано было, как отработано!
Явился Каюр, уже в халате, ноги волосатые, кривые торчат. «Ну, что тут у вас?» Алла ему про ноги мои говорит, сомнение разыгрывает. Начал он мне ноги, попку ощупывать, по письке пару раз провел рукой, погладил. «Да, – говорит, – придется поработать. Все будет зависеть от самой Алиночки: отнесется к тренировкам серьезно, тогда все недостатки постепенно выправятся. Будешь стараться, девочка?» Я ему со слезами: «Буду, дядя Семен!» Он меня на руки взял, будто чтоб успокоить, на голые ноги к себе посадил, халатом прикрыл, к себе жмет. Успокаивает! А его Алла рядом стоит, меня по головке гладит, что-то говорит – отвлекает. Что уж у него там под халатом делалось, я тогда ничего не поняла. А как эту «Лолиту» вашу читала, так меня будто огнем обдало: он же кончал тогда со мной, это как пить дать!
Но скажите мне, девочки, откуда такие бабы берутся, как эта его Аллочка? Вот еще кому я простить не могу. Делай ты сама с мужиком что хочешь, двадцатый век, везде прогресс, но чего ж над ребенком глупым измываться по-подлому?
Дальше еще страшнее было. Вы думаете, он меня изнасиловал и все? Как бы не так! На такие вещи Каюр не шел, тут он понимал, что я бы матери пожаловалась, а та могла и засудить. Мало бы ему, подлецу, не дали. Он тоньше сделал, умнее. Он так устроил, что два года пользовался мной, а я и знать об этом не ведала! Да еще и не один, а с товарищем.
Не верите? А вы послушайте дальше. На другой день отправились мы с ним в спортивную школу. Там каток был с искусственным льдом. Девочки, мальчики катаются. Каюр меня сразу на лед выпустил, другим тренерам показать. Я показала что умею. Похвалили. Потом Каюр мигнул одному: «Как тебе кажется, Витя, мускулы у нее на ногах не слишком затянуты? Алла говорит, что почти безнадежно». Этот разговор у них так шел, что только я одна слышала, других тренеров поблизости не было, когда они говорили. Велели мне еще покататься, ласточку сделать. Витя поглядел и говорит: «Да, неважно. Работы с ней, я вижу, много будет». Окликнул он одну девчонку и попросил показать, что она умеет. Девчонка эта здорово каталась, крутилась, как юла, в шпагат прямо на лед садилась. «Помнишь, – говорит Витя, – тоже ведь почти безнадежная была, а теперь?» Тут Каюр ему и говорит: «Ты приходи ко мне после работы, позанимаемся с ней, с Алиной». Тот: «А как же! Девчонка талантливая, надо спасать положение».
Что, не догадываетесь еще, как они со мной поступили? Привели домой, раздеться велели, щупали, смотрели, а потом велели на стол сесть и ноги расставить. «Эге! – говорит Витя, вроде как бы более опытный тренер. – Да у нее вот где затянуто все! Надо операцию небольшую сделать, связки освободить». И начали они при мне обсуждать, класть меня в больницу на операцию или самим попробовать справиться? Говорят, что в больнице врачи-то опытные, но могут лишние связки затронуть и тогда конец всем надеждам на большой спорт. А самим бы сделать лучше, но права нет. Тут я разревелась – уж вконец они меня расстроили – и прошу: «Дядя Семен! Дядя Витя! Сделайте сами, я никому не скажу, даже маме!» Ну они мне и сделали операцию «Чемпионка мира по фигурному катанию»: один держит и целует, вроде бы успокаивает, а другой шурует там, выворачивает наизнанку. По очереди. Кровью стол залило, на пол течет. Я реву, но терплю, только за руки хватаюсь да к ним же, фашистам, жмусь, чтоб не так больно было. Один терзает, другой целует, слюнявит, гладит. Сделали они свое дело не знаю по скольку раз, я уж стала сознание терять – тогда только прекратили. Каюр меня в ванну снес, вымыл, потом в кровать уложил. Я в слезах уснула, но в надежде, что уж теперь-то у меня, у будущей чемпионки, все в порядке!
Наутро Каюр меня в школу не повел, велел в кровати лежать, «отдыхать после операции», а сам отправился на тренировку. К обеду вернулся вместе с Витей – проверить, как больная, идет ли на поправку. Догадываетесь, как они проверяли? Да, опять на том же столе, только уже крови столько не было. Но больно было все так же. И всегда эта боль была, всегда зубы мне, будущей чемпионке мира, стискивать приходилось. Потом у них это «массажем затянутых связок» называлось. Прямо так на тренировках в открытую и говорили: «Ты Алиночке массаж делал? Что-то она опять на шпагатик плохо садится. Я сегодня зайду, сам помассирую». Но кататься они меня тоже, конечно, учили, успехи были. Тренеры они были толковые.
Два года эти подлюги так вот измывались надо мной, а я терпела. Потом мы как-то раз поехали на сборы, я уже в больших соревнованиях участвовала. Так вышло, что Каюру не удалось меня взять к себе в комнату, хотя он вроде как за моего родственника у всех шел. Поселили меня в одну комнату с той самой девочкой, которую Семен нам в первый день показывал. Вспомнила я, что они про нее говорили, будто и у нее связки были затянуты и тоже нужна была операция. Я ее и спросила: «Тебе тоже операцию на связках делали, да? У меня, знаешь, все так и продолжает болеть. Только я боюсь Каюру сказать, чтобы из школы не выгнал. А у тебя как?» А девчонка эта, Катя, уже давно все поняла, ей тоже кто-то из раньше обработанных сказал. Она мне и открыла, что на самом деле с нами проделали и продолжают делать. И добавила: «Только ты никому об этом не говори, иначе Каюр с Витей нас выгонят, и не видать нам фигурного катания. Надо терпеть, Алька! Семен говорит, что потом мне это понравится самой. Я не верю ему, но терпеть все равно буду, потому что каток люблю. А как только стану чемпионкой, найду себе другого тренера, который мучить не будет. Лучше всего женщину».
Я, глупая, как только мы в Ленинград вернулись, все Каюру рассказала про разговор с Катей. И просила его больше мне этого не делать, потому что у меня всегда болит и болит. А он не испугался, что я все поняла. Наоборот, обрадовался, кобель. «Раз ты все знаешь, то теперь мы наш «массаж» можем разнообразить. Тогда и тебе не так больно будет». И разнообразил. Может, от некоторых его штучек мне больно меньше стало, да зато хотелось повеситься.
Не выдержала я, сбежала к матери. Сказать я ей боялась, просто объяснила, что больше не хочу фигурным катанием заниматься, надоело, плохо себя чувствую. Каюр приехал за мной и уговорил мать, что это только капризы. Сунул он меня плачущую в машину и увез.
Думала я, думала, как мне от него избавиться, и придумала. Стала я на всех важных выступлениях на лед падать, хромоту разыгрывать. А то при всех за живот хваталась и кричала: «Ой, как болит! Все внутри болит, как будто палкой истыкано!» Каюр трясся от злости и от страха, уговаривал меня бросить этот цирк, сулил и славу, и деньги, и все на свете. Но я свое гнула. Не выдержал он и отвез меня к матери. Да ему что, он таких девчонок тыщу мог найти, которым в чемпионки хотелось.
У матери стала я в себя приходить, только долго еще живот болел и Каюр с Витей по ночам снились. И сейчас редко-редко, но снятся рожи их перекошенные, ухмыляющиеся: «Массажик, массажик пора делать!»
Вы, Галя, говорите, что ваш Набоков не убивал мать Лолиты? А вы знаете, как Каюр с Витей мою мать убили? Да очень просто. Как-то опять они мне приснились, я заплакала во сне громко, мама ко мне прибежала. Обняла она меня, а я прижалась к ней и спросонья все рассказала. Она меня успокоила, как могла, уложила снова и тихонько вышла из комнаты. А на следующий день соседка меня в морг отвела: лежала там моя мама мертвая, из речки Луги вытащенная.
Тут Алина, у которой голос уже давно начал дрожать, не выдержала, уткнулась в подушку, и плечи ее затряслись от рыданий. К ней подсела Галя, стала ее гладить по спине, успокаивать. А Бичиха Зина качала головой и ворчала себе под нос:
– Вот ведь что городские делают, баб им мало!
Только успокоив Алину, Галя принялась рассказывать в свой черед.