С Евангелием в руках Чистяков Георгий
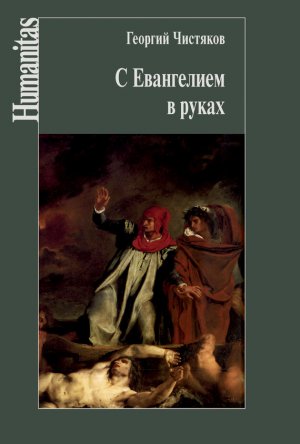
От составителя
Настоящий том продолжает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007) – историка, филолога и общественного деятеля.
Том, публикуемый под общим названием «С Евангелием в руках», содержит статьи Г. П. Чистякова, подготовленные к изданию самим автором. В прижизненные сборники вошли эссе разного времени, большая часть которых первоначально публиковалась в газете «Русская мысль».
В «Русской мысли» Георгий Чистяков проработал с лета 1995 года до 2000 года, когда газета перестала издаваться в России. В это же время он работал и на Христианском церковно-общественном радиоканале «София», где регулярно выступал с пастырскими беседами, рассказами о своей последней поездке за границу или по российской провинции, с лекциями на политические темы или беседами о литературе и искусстве.
Научные труды он писал тяжело, вдумчиво, медленно, но тексты для газеты – очень быстро, стремительно; быть может, потому, что в основу многих статей были положены радиобеседы.
Газета и радио «София» значили для отца очень много, и он тяжело пережил их упадок.
В 1996 году вышел в свет первый сборник статей Георгия Чистякова – «Размышления с Евангелием в руках» (переиздан в 2008 году в издательстве «Новый градЪ»), в 1999 году – сборник «На путях к Богу живому», в 2002 году – сборник «В поисках Вечного Града». В настоящем издании воспроизводятся тексты всех трех книг. Статьи сопровождаются указанием на первую публикацию и в некоторых случаях – ссылками на новозаветные тексты.
Каждая из трех прижизненных книг, вошедших в состав настоящего сборника, предваряется предисловием, написанным вскоре после смерти автора его коллегами и друзьями – протоиереем Александром Борисовым, Николаем Витальевичем Шабуровым и Евгением Борисовичем Рашковским, которым я очень благодарен.
Мне хотелось бы поблагодарить и тех, кто принимал участие в подготовке к печати этих текстов – Михаила Работягу, Аллу Калмыкову, Марину Филипенко, Ольгу Шутову, иеромонаха Иоанна (Гуайту) и Леонида Тумаринсона.
Петр Георгиевич Чистяков, доцент Учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета
Москва, июнь 2015 г.
Размышления с Евангелием в руках
Предисловие
Небольшая книга священника Георгия Чистякова, которую Вы, уважаемый читатель, держите в руках, переиздается уже после его безвременной кончины, последовавшей 22 июня 2007 года. Трудно смириться с тем, что автора нет рядом с нами, но одновременно с этим растет чувство благодарности за то, что мы много лет знали отца Георгия, слышали его проповеди и лекции, читали его книги. Теперь, особенно внимательно прочитывая написанное более тринадцати лет назад, зная, что черта под всем сказанным уже подведена, еще раз убеждаешься в том, что дар сострадания, сочувствия чужой беде и чужой боли был главным в христианском мироощущении и служении отца Георгия.
Центральная тема книги «Размышления с Евангелием в руках» – раздумья о том, что сегодня мешает многим нашим соотечественникам прийти ко Христу, стать Его учениками по сути, а не только по факту крещения. По большей части такого рода препятствия связаны со стереотипами нашего недавнего советского прошлого, когда знание о предмете подменяло собой знание самого предмета. Недавно пришедшие в Церковь люди нередко рассуждают так: «Коль скоро в Новом Завете сказано: “Не любите мира, ни того, что в мире”, то отгораживаемся от всего нецерковного китайской стеной и живем только своим замкнутым миром». Или: «Раз сказано: “Начало премудрости – страх Господень” – значит, нужно запугивать всех приходящих в Церковь историями о наказаниях тех, кто работал в воскресенье, ходил в храм без платочка…» Недавно придя в Церковь, не утрудив себя прочтением хотя бы Евангелия или знанием Символа веры, человек, схватив на лету две-три поверхностно понятые фразы, становится убежденным противником теории эволюции или яростным обличителем экуменизма, понимаемого в карикатурном виде. За таким подходом вместо желания самим прочесть и понять, о чем говорит нам Евангелие, что означает подражать Христу в нашей жизни, стоит привычный советский стереотип: принять с чужих слов некую околоцерковную идеологию и стать ее горячим приверженцем. Всё это на самом деле из того же ряда, что и хорошо нам знакомое советское: «Я Солженицына не читал, но знаю, что он клевещет на нашу советскую родину». Или: «Мы наизусть знали все ошибки Канта и Гегеля, никогда не читая их самих».
Священник Георгий Чистяков, ученый и общественный служитель, искренно и живо делится своими размышлениями о том, что отличает веру от идеологии, в чем потрясающая новизна Царства Божия, в которое нас вводит Иисус из Назарета. Приводя примеры нескольких латинских слов для обозначения понятия «страх», отец Георгий показывает, что страх Божий сродни страху огорчить любимого человека или спугнуть птиц в саду, а совсем не страху подвергнуться физическому наказанию. Последнее, напротив, может привести к отчаянному бунту против Высшего начала вообще и сделать атеизм лейтмотивом всей жизни и деятельности человека (Ленин, Сартр и др.). Другим печальным наследием тоталитарного советского прошлого, мешающим отличить веру от идеологии, продолжает оставаться непременный поиск врагов. Призыв Христа «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5: 44), пожалуй, меньше всех остальных слов Христа звучит в проповедях и на страницах православной прессы. Особенно больно, когда этот поиск врагов на самом деле оказывается бунтом против культуры, причем не со стороны язычников и безбожников, а со стороны тех, кто называет себя православными (при этом слово «христианин» всегда опускается, как не имеющее отношения к делу). Именно таким антикультурным бунтом было сожжение книг отца Александра Шмемана, отца Сергия Булгакова и других в Екатеринбурге несколько лет назад.
Отец Георгий последние годы своей жизни был связан глубокими, добрыми взаимоотношениями с митрополитом Антонием Сурожским. Так же как и митрополит Антоний, отец Георгий всегда отстаивал в Православии, так же как и во всём христианстве, центральное место личности Господа Иисуса Христа. Всё в жизни Православной церкви: храмы, иконы, музыка, поэзия, богослужение, имеет настоящее значение и цену, только если за всем этим стоит Христос и Его Радостная весть. Без личности Христа все эти культурные богатства могут стать даже препятствием для человека в его главной задаче – встретить Христа в своем личном опыте духовной жизни. Люди нередко остаются прекрасными знатоками христианского искусства, так и не став по- настоящему христианами. Разумеется, красота христианских храмов, архитектуры, живописи, песнопений имеет огромное значение при знакомстве новообращенного с христианством, затрагивая его душу и сердце. Но их задача – лишь указать на Того, Кому обязана Церковь своей высочайшей культурой, – на Христа.
Самым трудным вопросом для веры в Бога во все времена остается вопрос о зле. Если Бог добр и всемогущ, то почему в созданном Им мире все живые существа пожирают друг друга? Почему страдают и умирают дети? Отцу Георгию, как мало кому из наших современников-священников, приходилось отвечать на эти вопросы едва ли не каждый день. На протяжении более десяти лет отец Георгий каждую субботу служил по благословению Святейшего Патриарха Алексия II Божественную Литургию в Детской Республиканской больнице. После Литургии он обходил палаты самых тяжелых отделений (онкогематологии, пересадки почки) и причащал тех детей, которые по состоянию здоровья не могли быть на богослужении. Нередко все старания врачей оказывались бессильными в борьбе с недугом, и приходилось расставаться с мальчиками и девочками, с которыми так сроднились на протяжении многих недель их болезни. Перед лицом этих смертей отцу Георгию нужно было давать ответ не только родителям, но и самому себе, – пчему Бог не вырвал этих детей из власти смерти? Зачем всё это? И отец Георгий отвечал: «Не знаю! Но знаю, что Христос соединяется с нами в беде, в боли, в богооставленности – у гроба умершего ребенка я чувствую Его присутствие».
Заканчивает отец Георгий свои размышления парой страничек, которые он назвал «Старушки моего детства». Вспоминая соседок по квартире и даче и их знакомых, и знакомых их знакомых, родившихся в конце XIX и в самом начале XX века и вошедших в 1917 год уже сформировавшимися личностями, отец Георгий дает удивительный «семейный портрет» этих женщин, сохранивших дух «Серебряного века» России. Их честность, аккуратность, деликатность и какое-то особенное благородство так разительно отличало их от старушек следующего поколения, которые чаще были угрюмыми, раздраженными, ворчливыми, требующими места в трамвае, рычащими в церкви на девушек без платочков и т. д. (эти старушки, вошедшие в революцию еще детьми или родившиеся вскоре после, были уже первыми пионерками и комсомолками). На вопрос, в чем же причина этого поразительного отличия, отец Георгий сам и отвечает: «Старушки моего детства оставили нам сокровище удивительное – внутреннюю свободу». Апологетом и борцом за внутреннюю христианскую свободу духа был и сам отец Георгий.
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине
13 декабря 2007 г.
Вера или идея
Сегодня, когда говоришь с людьми, которые признают, что в Бога не верят, но при этом признаются, что верить хотели бы, практически всегда сталкиваешься с тем, что свое неверие они объясняют тем, что мало знают или вообще ничего не знают о Боге, о Евангелии, о Церкви, но, главное, о ее обрядах. Нельзя не обратить внимания на то, что эти люди видят в вере, относясь к ней весьма почтительно, какое-то особое знание, для них закрытое. Они всегда подчеркивают, что не учились в воскресной школе, что их не учили думать о Боге, и говорят, что именно поэтому им трудно верить. Как далекие от Церкви люди, так и те, кто себя к ней относят или, не относя себя к Церкви, всё же считают себя православными, путают веру и убеждения, веру и богословские, философские и даже политические взгляды, веру и мораль.
В результате знание Бога подменяется знанием о Боге. И вот уже сторонник «русской идеи», самодержавия или просто русского образа жизни, ностальгически вспоминающий о том, как «в старину живали деды», ценитель церковных древностей, иконы или пения или вообще культуры нашего прошлого начинает думать, что он православный христианин. Так рождается христианство ума или православие идеи, иными словами, православная не вера, а идеология. А кое-кто, просто думая, что нельзя быть русским и не быть при этом православным, только относят себя к православию и даже не могут объяснить, в чем их православие заключается. Это уже даже не православие идеи, это что-то, напоминающее запись о религиозной принадлежности в паспорте, – и не более.
При этом мы как-то забываем, что христианство начинается с коленопреклонения. «Войди в комнату свою и, затворив дверь, – говорит нам Спаситель в Нагорной проповеди, – обратись с молитвой к Отцу твоему, который втайне» (Мф 6: 6). Действительно, именно с этого нелогичного, ничем не объяснимого желания обратиться к Богу, заговорить с Ним, с потребности видеть в Боге не «Его», о Котором можно рассуждать, а «Тебя», с Которым можно говорить, с потребности в личной встрече с Иисусом начинается наша вера. Не разделять взгляды других православных христиан, а иметь глубоко личную потребность в богообщении – вот что такое быть христианином. Потребность молиться, запереться в пустой комнате, встать на колени и т. д. – именно потребность, но никак не долг и не обязанность.
Несколько лет назад, когда детская Библия еще не продавалась свободно, один сотрудник Академии наук, будучи по какому-то делу, связанному с поездкой за границу, в Патриархии, купил там ее для своего сына. Купил, ибо считал, что ребенок должен знать гомеровские поэмы, Махабхарату и Рамаяну, песнь о Нибелунгах и т. д., и в том числе Библию. Купил, отдал шестилетнему своему сыну и забыл об этом.
Прошло сколько-то дней; то ли он сам, то ли его жена зашли вечером в комнату сына и видят: мальчик стоит в постели на коленках и молится. Никто его этому не учил, никто с ним вообще о Боге не говорил, но, открыв Библию, он сам вдруг почувствовал порыв сердца к Богу. Порыв, идущий из глубин его «я» и ничем не объяснимый, – это и есть, наверное, то горчичное зерно, из которого вырастает дерево веры (сравн. Мф 13: 31–32). Если же в сердце это зерно, которое, не будем забывать, меньше любого другого семени, не упало, то получается не вера, а идеология. Религия без сердцевины – либо образ жизни с постами, со своей стилистикой (в одежде, поведении и т. п.), с обычаями и даже с церковной службой, либо образ мыслей со следованием тем или иным принципам и теориям, но не жизнь со Христом и во Христе.
Христианами нас делает прежде всего одно – потребность молиться, открывать сердце Иисусу, потребность таскать за собой повсюду в сумке Евангелие и вчитываться в него, вслушиваясь в то, что говорит тебе Господь. Нередко нас спрашивают: как часто я должен бывать в церкви, на исповеди, причащаться и проч. На это я всегда отвечаю: ты вообще ничего не должен, если у тебя нет в этом потребности.
И еще: христианами делает нас не просто вера во что-то, а вера в чудо. Только важно понять, что это такое. Лучше всего, вероятно, здесь нам может помочь рассказ о кровоточивой жене в Евангелии от Марка (5: 25–29). Эта женщина «страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние».
И вот в тот момент, когда она, упорно пытаясь вылечиться, исчерпала все человеческие возможности, но не раньше, ее встретил Господь, вошел в ее жизнь и исцелил ее. Христос приходит, чтобы исцелить кого-то из нас в тех случаях, когда это не в силах сделать ни один врач или когда врача просто нет. Когда всё, что зависит от нас, уже сделано. Но там, где может помочь медицина, ждать чуда – значит искушать Господа Бога твоего. И, наверное, именно потому так редко совершаются чудеса в наши дни, что нам хочется чуда в тех случаях, когда есть другой выход, хочется чуда только по той причине, что так будет проще. Мы ждем чуда и просим о чуде, не исчерпав все свои возможности, просим о чуде, а надо бы просить сил, мудрости, терпения и упорства. Просим и не получаем, но это не означает того, что чудес не бывает, это означает как раз обратное – что Бог творит чудеса, но лишь в тех случаях, когда мы стоим на краю бездны.
Мы должны предъявить Богу нашу абсолютную честность, но никак не перекладывать на Него нашу ответственность за то, что происходит вокруг. И вот тогда в нашей жизни начнут совершаться чудеса, как они вот уже две тысячи лет творятся вокруг святых и праведников. Это как раз то, о чем говорит апостол Иаков, восклицая, что «вера без дел мертва» (Иак 2: 26). Для того чтобы понять, что такое чудо, нам необходимо прежде всего раз и навсегда отказаться от советского понимания чуда, которое блестяще описано в детской книжке о старике Хоттабыче. Бог – не старик Хоттабыч. Он ждет от тебя «веры из дел твоих» (Иак 2: 18), а не угощает нас бесплатным мороженым, хотя, как правило, нам хочется именно последнего. Однако если Бог видит веру из дел, то не оставляет нас сиротами (Ин 14: 18) и приходит к нам, и спасает, и подхватывает нас на самом краю бездны. Если мы в это верим, то именно эта вера побеждает все наши страхи и делает нас христианами. Если мы верим в это, то вдруг оказывается, что у нас нет врагов, ибо мы их не ищем и не боимся, а просто трудимся и просто молимся – не ввиду того, что это положено, предписано и является обязанностью всякого православного христианина, а просто потому, что без этого жить не можем.
Если смотреть на Царство Небесное со стороны, его еще нет, оно в будущем. Оно, как считают христиане, когда-то наступит и распространится по миру, – так, надо полагать, стал говорить бы о Царстве Небесном ученый-религиовед. Но мы, христиане, в отличие от высокоученых религиоведов, знаем, что это будущее Царство уже даровано нам. Мы – уже его граждане, уже граждане неба. И не случайно во время каждой литургии священник всегда благодарит Бога за то, что Ты, Боже, «нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее», прямо и определенно подчеркивая, что мы уже там. Действительно, если смотреть на христианство со стороны, оно кажется религией ожидания каких-то грядущих перемен и, с другой стороны, просто религией ожидания жизни за гробом и загробного утешения для тех, кто страдает здесь. Но если посмотреть на нашу веру изнутри, то окажется, что эти грядущие перемены уже начались, что мы не ждем конца истории, а уже теперь живем после истории, что мертвые уже воскресают, что жизнь будущего века уже началась. По этой причине все христиане оказываются современниками друг другу. Преподобный Серафим, свв. Франциск и Клара, блаженная Ксения и другие не воспринимаются нами как фигуры исторического прошлого. Святые, даже те среди них, кто сыграл сколько-нибудь заметную роль в политической или общественной жизни своей эпохи, всё равно не меньше принадлежат нашему веку, чем XIII, XVIII или XIX. А Валерий Брюсов, Федор Сологуб или даже Михаил Кузмин, который умер в 30-е годы и поэтому еще живы люди, его помнящие, – это уже не более чем писатели начала нашего века, и принадлежат они значительно больше литературной энциклопедии, нежели дню сегодняшнему. Они – в прошлом, а святые – среди нас.
Как-то раз меня спросили, что значат слова Иисуса «истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9: 1). То и значат, что написано. Святые еще здесь, еще до смерти увидели Царство и стали его гражданами, именно поэтому их и признали святыми. Да, христианство – это будущее, но будущее, которое уже наступило, это наше личное дерзновенное и даже, наверное, дерзкое вхождение в будущее. Посмотрите, какое место занимают в Евангелии два слова: «уже» и «ныне». Иисус говорит Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк 19: 9) и благоразумному разбойнику: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23: 43). И в другом месте восклицает: «Аминь, аминь глаголю вам: яко грядет час и ныне есть, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин 5: 25). Слово «грядет» указывает на то, что час этот только будет, но Иисус тут же добавляет: «И ныне есть», то есть уже настал. Христианство парадоксально и нелогично, оно не укладывается в обычное представление о времени, где есть прошлое, настоящее и будущее, оно не просто нелогично, но даже абсурдно, но при этом оно реально. И последнее важнее всего. Христианство – это не новые идеи или новое мировоззрение, это новая жизнь.
Прежде всего в том, что мы вдруг обнаруживаем, что солнце светит по-другому, как-то ярче, именно так, как оно светило в детстве, когда нам было лет шесть, не больше. Страх перед смертью уходит из нашей жизни, ибо он есть не что другое, как обратная сторона недовольства жизнью. Мне вспоминается одна старушка, Анна Семеновна Солнцева из подмосковного села Малахова, которая в девяносто четыре года, за несколько дней до смерти, говорила: «Жить хочу». Она именно потому не боялась смерти, что жить хотела, и потому, что свету солнца она так радовалась, словно ей было шесть или семь лет. Страх перед смертью лишь тогда страшен, когда мы жизни не любим.
Во-вторых, в людях, которых мы никогда не знали и о которых никогда ничего не слышали, мы неожиданно для себя самих начинаем узнавать родных и близких. Для преподобного Серафима родными были, наверное, все люди, сколько их ни есть на земле, для нас – далеко не все, ибо мы просто не доросли до этого, но тем не менее люди, которых ты утром еще не знал, вдруг к вечеру становятся твоими близкими, а вернее, ты узнаёшь в них своих близких. В этом смысле можно сказать, что христианство – это религия узнавания. Не случайно же Господь говорит нам о том, что мы получим «ныне во время сие… во сто крат более… и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей» (Мк 10: 30). В церкви вместе оказываются такие разные люди, которые бы никогда и нигде в другом месте не встретились, вера действительно соединяет людей в одно целое. В детской больнице, где я служу, один мальчик подал как-то на проскомидию две записочки: первую – о здравии мамы, папы и всех людей, живущих на земле, и вторую – об упокоении дедушки Коли, бабушки Кати и всех умерших. Вот что такое христианство! Вот что такое православие!
И наконец, в-третьих, у нас появляется потребность молиться, благодарить Бога, просить у Него сил, мудрости и любви.
Молитва – как телефонная трубка, через нее осуществляется наша постоянная связь с Богом. Не потому приходим мы по воскресеньям в церковь в семь часов утра, что так полагается, а потому, что иначе не можем, ибо Он Сам там нас ждет в это утро. И мы чувствуем это.
Радостное восприятие мира, узнавание в людях на улице наших, хотя и незнакомых, но родных и, наконец, потребность в молитве – вот три основных знака, по которым можно узнать, что ты уже не просто увлечен христианством или православием, а действительно стал христианином. И уровень твоего богословского образования, начитанности и проч. здесь абсолютно ни при чем. Но три, пожалуй, основные опасности для того, кто пошел по дороге духовной жизни, таятся тоже именно здесь.
Первая опасность заключается в том, что, делаясь христианами, мы часто становимся равнодушны к окружающему нас миру, к солнцу, к небу, к пению птиц и журчанию ручьев, и объясняем это равнодушие тем, что Иоанн Богослов учит нас «не любить мира, ни того, что в мире» (1 Ин 2: 15). Однако, держа в памяти это место из Нового Завета, нельзя ни в коем случае забывать о том, что слово «мир» в Писании значит не то, что у греческих философов, это не «мир вокруг нас», не «космос» в античном смысле, это – «общество», то есть совокупность тех отношений между людьми, которые сложились без Бога, вне Бога и даже вопреки Его воле. Христос устами Своего апостола призывает нас не любить эти отношения, но как можно не любить созданный Богом мир, где «небеса проповедуют славу Божию, а о делах рук Его возвещает твердь» (Пс 18: 2). Это – грех против Бога, и об этом нельзя забывать, это грех, отнимающий у нас радость бытия и отлучающий нас от Бога.
Вторая из этих опасностей связана с тем, что часто, приходя к Богу, мы рвем свои отношения с друзьями, начинаем отгораживаться от людей, боясь повредить своей духовной жизни, съев в пост что-то скоромное или послушав в концерте или по радио Шопена или Шуберта. Нам начинает казаться, что раз мы открыли Бога, то нам не нужны люди и проч. Всякое царство объединяет людей, и особенно – Царство Небесное, христианство – это когда мы вместе, как первые христиане, которые «все были вместе и имели всё общее… и каждый день единодушно пребывали в храме» (Деян 2: 44–46). Надо обязательно помнить об этом и не превращать православие в религию индивидуального спасения.
Наконец, третья опасность для христианина заключается в том, что, начав молиться, мы непременно хотим прочитывать всё, что положено в Молитвослове, и в результате уже не молимся, а просто вычитываем правило с такой-то по такую-то страницу, зачастую спешим, не успеваем, расстраиваемся от этого и т. д. Забываем, что молитва – не заклинание, где важно именно произнести то или иное слово, какую-то определенную формулу и т. д., а живое, от сердца идущее обращение, наш прорыв к Богу; не помним, что она – телефонная трубка. Поэтому, молясь, особенно важно не просто что-то Ему говорить, но учиться Его слышать, чтобы молитва наша не была разговором по телефону с отрезанным проводом. В последнем случае наше христианство будет уже не жизнью в Царстве, а так, какой-то мечтой, без сомнения, вредной, ибо такая мечта отвлекает нас от жизни, от людей, среди которых мы живем, и неминуемо обрекает на одиночество. И это, конечно, уже не христианство и не православие.
Сегодня нам очень важно понять, что вера в Бога – это чувство. Если мы верим, это значит, что мы Его чувствуем, как чувствуем холод, голод и жажду, запах, вкус и т. д. Вообще, вероятно, можно сказать, что чувство Бога и Его присутствия среди нас – это и есть то самое шестое чувство, о котором иногда вспоминают поэты. Если же мы об этом забудем, то мы обречены: сами не заметим, как тоже станем под верой понимать какое-то особое знание, дисциплину или образ жизни, но, во всяком случае, не распахнутость сердца навстречу Богу.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1995. № 4089 (3–9 августа). С. 17.
Страх Божий. Что это значит?
В религиозности многих и многих людей сегодня очень заметное место занимает страх перед наказанием. В советские времена вообще бытовало мнение, что верующие только потому и верят в Бога, что после смерти не хотят мучиться в аду. Именно как страх перед адскими муками, которые ждут ослушников после их смерти, представляла православную веру атеистическая пропаганда. И надо сказать, делала это вполне профессионально.
Без сомнения, страх перед смертью и перед тем наказанием, которое вслед за нею последует, – это форма веры, но только чисто средневековая. Художники тогда изображали на фресках и картинах Страшный суд, адское пламя, чертей, которые мучают грешников и с гнусным смехом влекут их в преисподнюю и проч. Такого рода изображения можно найти практически в любом средневековом храме как на Востоке, так и на Западе. Именно тогда появилось и отсутствующее в Священном писании выражение Страшный (!) суд – в Евангелии такого выражения нет, не знали его и христиане первых веков. Да и мы теперь понимаем, что страшен этот суд только одним – тем, до какой степени он прост. У нас не спросит Судия, как мы постились или как вычитывали правило, не спросит Он и о том, к какой Церкви мы принадлежали, какой символ веры исповедовали и как понимали тот или иной догмат. Он скажет просто: «Я был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня» или наоборот: «Я был наг, и вы не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня» (Мф 25: 36 и след.).
Однако в Средние века религия большинства (разумеется, не вера преподобного Сергия, но многих его современников) была основана именно на страхе перед посмертным или даже прижизненным наказанием. «Страх создал богов», – воскликнул один римский поэт и был по-своему прав, ибо говорил не о нашей вере, не о Боге, а о богах и, следовательно, о языческих религиях. От язычников этот страх унаследовали христиане, особенно те, для которых вера была основана не на Евангелии, а на естественном для человека стремлении обезопасить себя перед лицом непонятного и, в общем, враждебного мира, где каждого на каждом шагу подстерегает какая-то неприятность.
В XVIII–XIX веках под влиянием бурного развития естественных наук и в результате того, что человек в течение этих двух столетий мало-помалу начал осознавать, что такое права человека, и чувствовать потребность не быть рабом в социальном смысле, страх этот стал проходить. В результате человек, освободившись от страха (чему можно только радоваться, так как страх – это всегда рабство, подавленность и зажатость, а Господь наш зовет нас к свободе), одновременно начал терять веру (а это уже беда!), но только по той причине, что эта вера была перемешана с чисто языческим по своей природе страхом. Страх этот еще в IV веке принесли в церковные стены те номинальные христиане, о которых говорит блаж. Августин, – люди, крестившиеся и внешне ставшие христианами, но по сути оставшиеся язычниками.
Отсюда французский атеизм эпохи Вольтера, Дидро и Даламбера и наш – Писарева, Добролюбова и др. Люди почувствовали себя свободными от страха перед наказанием и из своей жизни удалили Бога. Трагедия людей этого времени, в том числе и блестящих мыслителей, ученых и поэтов, заключается в том, что они отказались от Бога в тот самый момент, когда появились удивительные возможности Его почувствовать, открыть Его для себя и для будущего. Всё случилось как в пословице: вместе с водой выплеснули ребенка, вместе со средневековыми предрассудками, которые неминуемо должны были уйти (и, слава Богу, во многом уже ушли) из жизни, человечество потеряло веру. Выплеснутым ребенком оказался Младенец, родившийся в Вифлееме.
Дети, которых учат бояться Бога и того, как Он накажет, в какой-то период своей жизни переживают то же самое, что пришлось пережить во времена Дени Дидро всей нашей цивилизации. Они перестают бояться, становятся безбожниками и отказываются в результате от какой бы то ни было нравственности. Жан-Поль Сартр рассказывает, как в детстве он прожег, играя спичками, ковер; сначала он ждал, что Бог, Который видит всё, накажет его за это, а потом, когда наказания не последовало, понял, что бояться Его не нужно, а значит, как говорил Достоевский, «всё позволено». Так в сердце будущего философа начали прорастать первые ростки неверия.
В «Откровенных рассказах странника» говорится, что к Богу ведут три дороги: раба, наемника и сына. Когда человек воздерживается от грехов «страха ради мук», это безуспешно и неплодно, таков путь раба, которым руководит страх перед наказанием. Путь наемника связан с желанием заработать себе награду. «Даже и желания ради Царства Небесного если кто станет совершать подвиги, – восклицает странник, – то и это святые отцы называют делом наемническим. Но Бог хочет, чтоб мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце». В прошлом к Богу, быть может, вели три дороги, теперь, к концу XX века, стало ясно, что первая и вторая – тупиковые; идя по ним, можно прийти только к нервному срыву, погубить и себя, и многих вокруг себя людей. И тем не менее даже мы сами иногда пугаем друг друга тем, что Бог за что-то накажет. «Бог наказал», – говорим мы о людях, у которых что-то случилось, если считаем, что они заслуживают наказания. Получается, что мы боимся Бога, как греки – Зевса, египтяне – Амона, а римляне – Юпитера. И при этом не замечаем, как сами становимся язычниками.
И тем не менее без страха Божьего нельзя! Это выражение встречается в Библии множество раз, и, разумеется, не случайно. Только надо понять, что такое этот страх, который учит мудрости (Притч 15: 33), отводит от зла (там же, 16: 6) и ведет к жизни (там же, 19: 23), он чист (Пс 18: 10) и, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы ненавидеть зло (Притч 8: 13). Однако это не ужас перед Богом и не страх перед наказанием. Бог не следит и не наблюдает за нами, но мы можем легко причинить Ему боль.
На вопрос, что такое страх Божий, исчерпывающий ответ дает Библия на латинском языке – Вульгата. За тысячу лет истории в языке Горация, Тибулла, Овидия и других величайших поэтов человечества накопился огромный словарный запас; латинские слова передают тончайшие оттенки смысла там, где почти всякий другой язык будет бессилен. Одно греческое слово (страх) – по-латыни это и pavor, и metus, и terror, но есть еще слово timor, и именно этим последним переводится слово , когда речь идет о страхе Божьем. Timor (отсюда французское timide) – это радостное робение, или же страх причинить боль, обидеть, страх потерять. Это очень важно понять, чтобы наша духовная жизнь и наша жизнь в целом стала нормальной.
Я боюсь волка или носорога, но я, когда вижу птиц в саду, тоже боюсь, но боюсь спугнуть их громким голосом или резкими движениями. Кто-то боится маму, потому что она может выпороть, а кто-то другой боится свою маму огорчить или расстроить. Вот где кроется разница между чисто человеческим страхом перед чем-то страшным и тем стрхом Божьим, который есть для нас всех сокровище драгоценнейшее.
Те сердитые православные молодые люди 90-х годов, для которых религия связана прежде всего со страхом перед Уставом, перед тем, как бы не нарушить пост или не совершить какого другого греха, мрачные, суровые, внешне похожие на иноков и монашек, выбрали сегодня путь раба. Понятно, почему – мы в советское время слишком долго были рабами, поэтому теперь избавиться от рабской психологии нам трудно, даже почти невозможно. Но это необходимо, иначе и мы потеряем веру, как потеряли ее наши прадеды и деды, отказавшиеся от Бога, ибо в Боге видели несвободу. Понять их можно. Отказываясь от Бога умом, они продирались к Нему сердцем; отвергая несвободу, они рвались именно к Богу, но только не знали, что тот, кто им так нужен, кого им так не хватает, – это именно Он, а не кто-то другой. Безбожники конца прошлого века, которые уезжали в глубинку, становились там земскими врачами, акушерками и учителями, были в тысячу раз ближе к Иисусу, чем надутые охотнорядцы и чиновники, не пропускавшие ни одной обедни. Но эти чудные юноши и девушки нашего прошлого, которые могли бы стать настоящими святыми, в сердце горя Богом, увы, отвергали Его умом, не только не принимали Его, но презирали и даже ненавидели. А ведь на самом деле отвергали они не Бога, а только рабский к Нему путь. Так зачем же мы теперь снова сворачиваем на эту тупиковую дорогу?
Считая, что мы ходим в Церковь именно из-за страха перед наказанием, неверующие люди полагают, что религиозность унижает человека, подавляет его «я» и вообще делает нас рабами. Это действительно так, если видеть в страхе Божьем страх перед карой, наказанием или возмездием. Тех, кто так его понимает, религия на самом деле закабаляет и превращает в рабов. Мы знаем тому множество примеров, ходить за которыми далеко не надо. Однако, если мы понимаем, что страх Божий – это не pavor или metus, а timor, вера наша дает нам крылья, открывает перед нами новые возможности и новые горизонты, дает новые силы. Именно в христианстве невозможное становится возможным. По слову Иисусову: «Человекам это невозможно, но не Богу; ибо всё возможно Богу» (Мк 10: 27).
В связи с этим уместно будет вспомнить и то, что слово эвед значит служитель или соработник Божий и одновременно – отрок, то есть ребенок, который уже вырос, но еще не совсем, с ним уже можно общаться как со взрослым, но при этом еще можно заботиться о нем как о ребенке – вот что такое «раб Божий»!
Один американский физик, прочитав в «Русской мысли» мою статью «Вера или идея», прислал мне письмо, в котором высказывает недоумение по поводу моих слов о том, что христианство начинается с коленопреклонения. Слова эти и стоящий за ними тезис мне очень дороги. Но… прочитав его письмо, я постарался взглянуть на эту фразу его глазами, взглядом образованного, умного и даже доброго ученого, который, однако, ничего не знает ни о христианстве, ни о богослужении, ни о мистическом опыте в христианстве. Взглянул и увидел, что эта фраза для человека, который ничего не знает о христианстве изнутри, только снаружи, изображает человека, задавленного или рабски склоняющего колени перед иконой в темном храме.
Да, именно так может быть понято коленопреклонение христианина, если смотреть на него снаружи. На самом деле, однако, в нем выражается не рабская зависимость, покорность или страх, а совсем другое чувство – восторг: «Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси» (Пс 103). Это то чувство, которое удивительно полно выражено в прокимне, поющемся на вечерне в субботу: «Господь воцарися, в лепоту облечеся» и далее.
Это чувство пережил всякий врач, который видел безнадежного ребенка выздоровевшим, всякая мать, встретившая своего сына после войны живым, да в конце концов – всякий ребенок, обнаруживший утром в день своего рождения у постели игрушки или книжки, о которых долго мечтал. И любовь, и благодарность, и счастье, и ощущение Его присутствия рядом, в общем, полнота, – вот что такое наше коленопреклонение, и ничто другое, во всяком случае – не страх. «Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее… В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин 4: 16–18).
И тем не менее религия, основанная на страхе, чем-то привлекательна. Недавно вышла книжечка под названием «Рассказы сельских священников» (увы, анонимная, без имени составителя), в которой в извлечениях напечатаны заметки из журнала «Странник» за 1866 год.
На обложке чудная церковь, утопающая в купе деревьев, сельская дорога, изгородь – одним словом, русская идиллия. А внутри?
Рассказывается, как на Ильин день одна женщина, лишь только заблаговестили к обедне, отправилась в поле на свою ниву вязать снопы. На другой день вечером ехала она в телеге, лошадь чего-то испугалась, бросилась изо всей силы бежать. Женщина упала, и колесо телеги так сломало ее, что «страшно было взглянуть: кожа с ноги была содрана, кость переломлена, грудь истерзана, лицо, руки – одним словом, всё изувечено». И умерла без покаяния.
Молодой мужик, уже женатый, не слушался родителей, пил и проч.; отец стал журить его, тот хотел ответить что-то резкое, но не успел, оперся рукою на окно, «от сильного натиска стекло лопнуло, разбилось и обрезало руку Алексею повыше кисти; кровь ручьем полила». Прошло шесть дней – несчастный скончался.
У одной бедной вдовы был сын, в день Покрова поехал он работать, и его «во время работы завалило глиной до смерти».
Бедная чиновница мучилась без средств к существованию с семерыми детишками и однажды в сердцах прокляла свою любимую дочку, та пошла с подругой на речку и утонула, причем подругу удалось спасти, а дочку несчастной вынули из воды умершей. И т. д., и т. д.
Что хочет сказать нам составитель? Зачем еще раз нам предлагается путь раба? Если в религию добавлена изрядная доля страха, ее можно с успехом использовать как инструмент, в первую очередь в целях удержания общества под пятой той или иной власти. При ее помощи можно манипулировать общественным сознанием, удерживать людей от нежелательных шагов и т. п. Первое время этот инструмент работает великолепно, но затем непременно обнаруживается, что он никуда не годится.
Использование религии в качестве инструмента оборачивается трагедией для всех. И для тех, кто ее так использует, и для народа, которым таким образом пытаются управлять, и для самой религии. Это всегда приводит к развитию сначала полной религиозной индифферентности, затем к взрыву безбожия, и тут же – к появлению новых исповеданий и новых религий. Именно такой новой религией стал к концу XIX века марксизм, занявший в сердцах не худших людей России место Бога, вытесненного оттуда обязательностью говения, справочками об исповеди, которые надо было представлять по месту работы, и той атмосферой страха, которая нагнеталась при помощи статеек из журнала «Странник», переизданных непонятно почему в 1996 году.
Разумно было бы предположить, что указания издавать такие книги и вообще насаждать в православном народе атмосферу страха сегодня исходят от руководства КПРФ и даются, чтобы сделать нас более послушными, покорными и забитыми и одновременно – с целью ослабить влияние Церкви на людей, дискредитировать ее в глазах населения и т. д. Однако это не так. Книги эти издаются вполне честными людьми и без каких бы то ни было дурных замыслов. Не в том беда, что их издатели кем- то наняты, а в том, что и они, а зачастую и мы сами хотим быть рабами.
Мы все выросли в эпоху рабства и с пеленок были рабами, уже в 3–4 года мы усвоили общеобязательную истину и до такой степени привыкли к своему рабскому состоянию, что на дороге к Богу тоже выбираем путь раба. Евреи в пустыне увидели в Моисее врага именно потому, что он освободил их от рабства (Исх 16: 2–3), мы тоже видим врага в каждом, кто напоминает нам о том, что мы призваны к свободе (Гал 5: 13), причем только по той причине, что к несвободе мы просто привыкли, она нам психологически ближе. Но именно несвобода, сковывающая наш сердца, мешает нам почувствовать Иисуса; в Церкви мы видим установления, требования, запреты и не чувствуем Его опаляющего присутствия и той радости, о которой так замечательно говорит автор «Откровенных рассказов странника».
В советской школе детей учили знаниям, ориентировали на факты, развивали их память. Учили быстрому чтению, а надо бы учить чтению медленному, но вдумчивому. Но никто не развивал их чувства. И вот теперь, придя в Церковь, они тоже хотят всё знать и о Боге, и об истине, и о православной вере. И не понимают, что главное здесь – не знать, а чувствовать. И эта ориентированность на знание делает нас какими-то неживыми, нас с нашей рабской психологией превращает еще и в рабов нашего собственного ума и его неминуемо ограниченных возможностей, а поэтому мы всё еще не в силах погрузиться в Бога как в Океан, подобно автору «Откровенных рассказов…»
Мы всё время и везде ищем врагов, еретиков, проверяем нашу веру по правилам, как ученик сверяется с ответом в задачнике, друг друга пугаем Богом, видя в Нем, быть может, и доброго, но рабовладельца, ибо мы – рабы. Нам кажется, что всё вокруг плохо, ужасно, так плохо, как не было никогда раньше. Именно так пишут сегодня во многих душеспасительных книгах: «Россия никогда не знала таких преступлений, которые сегодня терзают наше общество» (А при Ленине? А при Сталине? Нет, как бы ни было трудно сейчас, при них преступления были много чудовищней!) И поэтому мы до сих пор не в силах воскликнуть вместе с архиепископом Иоанном (Шаховским): «Земля в солнечном дыму от любви Господней». А ведь это действительно так.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4115(29 февраля – 6 марта).С. 16.
Блажен, иже имет и разбиет
«Если в Церковь, одаренную терпимостью и признанием со стороны советской власти, придут новые кадры людей, этой властью воспитанные… сначала они, в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей, будут изучать различные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и т. д. А в какую-то минуту, почувствовав себя наконец церковными людьми по-настоящему, по полной своей неподготовленности к антиномическому мышлению, они скажут: вот по этому вопросу существует несколько мнений – какое из них истинно? Потому что несколько одновременно истинными быть не могут. А если вот такое-то истинное, то остальные подлежат истреблению как ложные.
Они будут сначала запрашивать Церковь, легко перенеся на нее привычный им признак непогрешимости. Но вскоре они станут говорить от имени Церкви, воплощая в себе этот признак непогрешимости. Если в области тягучего и неопределенного марксистского миропонимания они пылают страстью ересемании и уничтожают противников, то в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно сказать, что за неправильно положенное крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Соловки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью.
Тут нельзя иметь никаких иллюзий – в случае признания Церкви в России и в случае роста ее внешнего успеха она не может рассчитывать ни на какие иные кадры, кроме кадров, воспитанных в некритическом, догматическом духе авторитета. А это значит – на долгие годы замирание свободы. Это значит – новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для всех, кто отстаивает свободу в Церкви. Это значит – новые гонения и новые мученики и исповедники.
Было бы от чего прийти в полное отчаяние, если, наряду с такими перспективами, не верить, что подлинная Христова истина всегда связана со свободой, что свобода до Страшного Суда не угаснет окончательно в Церкви, что наше небывалое в мире стояние в свободе имеет характер провиденциальный и готовит нас к стойкости и подвигу…»
Мать Мария[1]
Недавно мне рассказали следующую историю. В дом к одной женщине, немолодой, больной, беспредельно уставшей, матери единственного сына, мальчика пятнадцати лет, психически чрезвычайно ранимого, если не больного, пришел гость. То ли алтарник, то ли чтец одного из московских храмов, почти послушник какого-то монастыря, лет двадцати двух, не более. Пришел, увидел телевизор (его как раз за несколько дней до описываемых мною событий купили, получив за несколько месяцев пенсию, мои герои) и заявил: «Его надо срочно вышвырнуть из дома, вы потому и болеете, что у вас стоит это сатанинское устройство». Сказано – сделано. Гость и сын хозяйки хватают вдвоем телевизор, выносят его с пением, изображающим церковное, на улицу и разбивают железными прутьями, прямо по слову псалма «Блажен иже имет и разбиет». Больная, нищая, загнанная жизнью, чудовищно нервозная учительница остается без телевизора. Сын ее просыпается на другой день в ужасе, ибо понял, что вчера из христианина превратился в жестокого и безнравственного язычника.
Я бы не стал рассказывать эту историю, если бы в ней как в капле воды не отразилась ситуация с ролью Церкви в нашей жизни. Недавно в ограде одного из московских храмов сжигали книги. Всё равно, чьи именно, оттого, что это были книги теософского содержания, сам факт не становится симпатичнее. Расправа над людьми, книгами, телевизором и проч. никогда не перестанет быть расправой. При ее помощи ничего хорошего добиться просто невозможно, даже в том случае, если в книгах этих ничего хорошего не написано, а по телевизору ничего путного не показывают. В расправе всегда не только присутствует, но царствует агрессия, а там, где агрессия, нет и быть не может места для христианства. Иисус дает нам мир, поэтому христианин не может не быть человеком мира; наша вера предлагает нам путь мирных и ненасильственных решений даже в самых сложных вопросах и проблемах, включая те случаи, где мирный путь, казалось бы, невозможен. Но ведь александрийская толпа в 415 году растерзала Ипатию, женщину-философа, математика, педагога, последнюю в Александрии представительницу античной науки и культуры! А в Константинополе такая же толпа жгла на площадях со смехом и улюлюканьем, причем под звуки литургических песнопений, свитки и кодексы античных авторов. Быть может, именно так и надо? Но прошло пять столетий, и в том же самом Константинополе Фотий, правда, не бездельник из толпы, а Патриарх и святой, создал свой Мириобиблион (Тысячекнижие), а ученые монахи именно из той Александрии, где озверевшая толпа вроде бы христиан предала смерти Ипатию, начали заниматься историей эллинистической культуры и Александрийской библиотеки.
Лет двадцать тому назад, работая над диссертацией о Павсании и его «Описании Эллады», я обратил внимание на то, что одна из наиболее надежных рукописей этого труда была на острове Крит переписана священником по имени Иоанн с какого-то не дошедшего до нас оригинала. Павсаний – это два толстых тома в современных изданиях; чтобы переписать текст такого объема от руки, нужно и время, и огромная внутренняя потребность. Если отец Иоанн взялся за такую работу, значит, он не считал, что эта книга, повествующая о языческой цивилизации, достойна лишь того, чтобы ее сжечь.
Разбил чужой телевизор только один мальчик, но тысячи юношей и девушек придерживаются сегодня его взглядов: не участвуя в убийстве Ипатии, они скорее оправдывают ее убийц, чем отвергают их путь, а сами не ходят в консерваторию, не слушают Баха, ибо он протестант, не читают Льва Толстого, поскольку он отлучен, а Чехова – поскольку тот безбожник, не читают ни стихов, ни прозы, а только аскетические труды сирийских подвижников и издания Оптиной пустыни. В трудах аввы Дорофея нет ничего плохого, но в их натурах с любовью к его аскетическим творениям как-то уживается злоба и даже ненависть по отношению к культуре, ибо она, как им кажется, не укладывается в рамки православия. Отчего? Мать Мария, мученически погибшая 31 марта 1945 года в нацистском концлагере Равенсбрюк, в сущности, уже ответила на этот вопрос. Выросшие в условиях несвободы, мы переродились: несвобода сала привычной для нас средой обитания, и поэтому даже в условиях свободы мы начинаем искусственно насаждать вокруг себя несвободу.
В 415 году в Александрии обстоятельства во многом напоминали наши сегодняшние. Христианство из религии запрещенной, гонимой и во всяком случае не рекомендованной к исповеданию властями, в одночасье превращается в религию большинства, обласканную государством. Вчерашние язычники по разным причинам (кто в силу бессознательного конформизма, кто из каких-то карьерных соображений, благодаря каким-то внутренним импульсам) становятся христианами, но, приняв христианство наружно, прежде всего как стиль поведения и набор определенных правил, они не в силах пока еще распахнуть навстречу Богу свои сердца. Они принимают христианство не как веру, а именно как идеологию, как какое-то новое мировоззрение, новый образ жизни, новую мораль. Для «пропаганды» христианства они начинают механически применять те самые «методы», которые еще вчера использовались по отношению к Церкви властями в целях борьбы с ней. Применяют они эти методы совсем не в силу того, что хотят зла, а только лишь по той причине, что о существовании других методов не подозревают.
Во-первых, они объявляют христианство единственно правильным мировоззрением, т. е. воспринимают его как идеологию, причем по сути дела они объявляют таким мировоззрением даже не православие, о котором они на самом деле пока еще ничего не знают, а только тот его вариант, ту его форму, одну из многих, которую они совсем недавно и довольно поверхностно усвоили. В случае с нами православием механически заменяется марксизм и научный атеизм, в случае с поздней античностью – культ римского императора.
Во-вторых, всех, кто с ними не согласен, даже в мелочах, они тут же зачисляют в еретики. При этом, как мне уже приходилось писать, обычаи и местные традиции принимаются ими за догматы, а поэтому всё, что из этих традиций выпадает, сразу объявляется ими неправославным. В число еретиков почти механически попадают даже Патриархи – Константинопольский, Антиохийский, Болгарский и другие, ибо они пользуются новым календарем.
Из веры в благодатное присутствие Иисусово среди нас православие преображается в жесткую систему взглядов. Таким образом, наша задача сегодня заключается прежде всего в том, чтобы оно перестало всё-таки быть нашей идеологией, а стало заветной правдой сердца нашего. Это будет действительно православие без злобы, без ненависти, без насилия и стремления навязывать непременно свое мнение, без поиска врагов, свойственного любой идеологии, сложившейся в условиях тоталитаризма.
Найти, обличить, обезвредить врага – установка, типичная для любого общества, где царит или недавно еще царил тоталитарный режим. Этим врагом может стать кто угодно, любой, кто чем-то отличается от остальных: человек другой национальности, инославный, рыжий, «очкарик», верующий или, наоборот, неверующий, тот, кто улыбается, или, напротив, почему-то не хочет улыбаться и проч. Поиски врага и, главное, борьба с ним всегда сплачивают толпу, объединяют ее на понятной всем и каждому базе: «Ату его!»
Когда тоталитарная власть уходит, и общество, казалось бы, освобождается от опеки разного рода идеологических ведомств, этот рефлекс – «Ату его!» – сохраняется в поведении воспитанных при тоталитаризме людей. Они начинают искать врагов уже не по указке сверху, а по собственному желанию, объединяясь для этого в группы, добровольные общества, команды, братства и проч. В сущности, и при тоталитарной власти далеко не всегда общество искало врагов по команде, во многих случаях эти поиски начинались стихийно, просто по той причине, что люди уже были ориентированы на эти поиски.
Христианство, как мы считаем, тоже ориентировано на борьбу с врагом, но только с врагом, который гнездится внутри меня самого, – с моей собственной ленью, бездеятельностью и пассивностью, с моей злобой, с моим собственным эгоизмом и унынием. Именно как борьбу со страстями толкует христианство аскетическая литература. Возможно, именно эта ориентация и делает его столь незащищенным от проникновения сюда идеологии поиска врагов, еретиков и т. д.
Дело в том, что установки на борьбу со страстями в Библии нет. Новый Завет устами святых апостолов зовет нас не бороться с гневом, яростью, злобой и проч. (см. Кол 3: 8), а «отложить» (), то есть снять с себя, как снимают старую одежду, или «совлечь с себя» () все эти пороки. Именно эти два слова многократно употребляются в Писании, когда речь идет о страстях и пороках, но о борьбе со страстями здесь нигде не говорится. Надо думать, что всё, что касается борьбы со страстями, господствующими над нами и гнездящимися внутри нас, попало в христианскую литературу из стоической и вообще из античной философии в более позднее время.
Святые апостолы видят путь христианина не как дорогу борьбы со страстями, а именно как сбрасывание старой одежды, как вырастание из этой одежды. Подобно тому, как вырастает из своей одежды ребенок, и христианин должен вырастать из своих грехов, из своей лени и злобности, из своего эгоизма и памятозлобия. И это принципиально важно, ибо если мы считаем, что зло подобно одежде, которую можно сбросить, значит, мы понимаем, что оно есть что-то внешнее, неорганичное по отношению к глубинам нашего «я», оно не касается этих глубин, как не задевает нашего сердца одежда, которая пачкает не душу, а только кожу. Грязное платье необходимо просто сбросить, а с болезнью внутренних органов нужно бороться, в ее суть вникать, вдумываться, ее особенности и ход течения изучать, анализировать и т. д.
Грех же апостолы советуют сбрасывать с себя, как одежду, – не вдумываться в то, что это такое, не анализировать его, а просто отказаться от него – и всё. И Сам Иисус говорит о том же: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» (Мф 6: 29). Разумеется, в Нагорной проповеди говорится не о членовредительстве, речь здесь идет именно о том, чтобы не удерживать в памяти, не рассматривать свой дурной помысел, а сразу отбрасывать его от себя, не бороться с ним, а в одно мгновение, резко и бесповоротно, действительно отбрасывать его от себя.
Если же мы начинаем разбирать грех по косточкам, подвергаем его анализу, то нас неминуемо захватывает или засасывает сам процесс борьбы, мы превращаемся в борцов, и христианство наше на этом просто кончается. Из глубин нашего сознания мы переносим борьбу во внешний мир и начинаем бороться со всеми, кто, как нам кажется, не так думает, не то делает и т. д.
Когда христиане убивали Ипатию или жгли в Константинополе книги, это было не выступление Церкви против язычества, это было просто-напросто торжество бескультурья над культурой. Христианство же было использовано этой толпой просто как предлог, как повод или как чисто внешний довод. Ее ненависть, обращенная исключительно против культуры, культурности и учености, была, конечно, облачена в одежды христианского благочестия, но христианской от этого не стала.
Когда путь отбрасывания от себя греха, сбрасывания его, как старой одежды, заменяется борьбой с грехом, сначала у нас всё получается прекрасно: быстро и эффективно через аскетические подвиги мы начинаем переделывать себя и очень многого достигаем в самые короткие сроки. Потом устаем, и тут незаметно происходит подмена – мы начинаем бороться уже не с тем врагом, что внутри нас, а с тем, кто снаружи. Вот почему путь борьбы не благословили апостолы, для христианства это тупик. Именно в этот тупик попала александрийская толпа. Подражая великим аскетам Фиваиды, она пошла путем борьбы, но быстро сбилась на поиски врагов. Бороться с богатыми людьми всегда немного опасно, поскольку в их руках находится власть, и еще по той причине, что толпа обычно испытывает к богатству почти биологическое чувство уважения, ибо от богатых людей всегда есть надежда получить какую-нибудь подачку.
Другое дело – ученые. Толпа их презирала всегда, и языческая толпа в эллинистической Александрии II века была настроена по отношению к ним не менее враждебно, чем та якоы христианская толпа, что растерзала Ипатию. Ее смерть была торжеством простого бескультурья. Таким же торжеством бескультурья стали костры из книг духовного содержания, которые запылали в 20-е годы нашего века во дворах закрытых семинарий и духовных училищ по всей России. Организаторы этих аутодафе, и это очень важно понять и запомнить, были одержимы не только и не столько идеей борьбы с религией – нет, они просто давали волю своей ненависти к культуре, к образованию, к образованным людям. Больно, когда этой ненавистью одержимы язычники, какими были большевики в 20-е годы или гоготавшие над Еврипидом краснощекие афинские парни (помните у Гумилёва?[2]) в V веке до н. э. Но в тысячи раз больнее, когда такой же ненавистью пылаем мы, христиане. Разбивая на помойке старый телевизор, сжигая книги Н. К. Рериха, обличая тех, кто исполняет Баха и Шопена, заявляя, что мы не нуждаемся в художественной литературе.
Важно не забывать, что тех мучеников, которые теперь нами благоговейно почитаются как святые, лишало жизни государство на вполне законном, с его точки зрения, основании, по решению суда. Разумеется, это государство было языческим и боролось с христианами как с врагами, но всё-таки согласно закону. Народ при этом либо просто безмолвствовал, либо (и это как раз в большинстве случаев) был на стороне мучеников. Вообще народ всегда на стороне того, кого преследует и сажает в тюрьму государство (за исключением советской страны, где народ всегда был против тех, кто сидит в тюрьме, и вставал в оппозицию к государству, как только оно объявляло амнистию).
Но Ипатию растерзал именно народ! Не христианское государство, а считавший себя Церковью народ. Здесь мы вновь сталкиваемся с тем феноменом, о котором говорила мать Мария: вчерашний язычник, видя в себе и своих друзьях и единомышленниках Церковь, причем не часть Церкви, а всю ее, решает действовать, используя те методы, принципы и способы активности, которые присущи государственной власти. Это происходит, наверное, по той причине, что выросший в условиях, когда государство было обожествлено (а именно обожествлены были и СССР, и Римская империя!), человек к Церкви начинает относиться именно так, как его в школе учили относиться к государству.
Страшные слова «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень» мы вынесли в заголовок не случайно. Вот уже две тысячи лет церковные писатели пытаются объяснить их народу Божьему и, как правило, останавливаются на том, что речь идет здесь не о вавилонских детишках, проклятие на головки которых призывают авторы 136-го псалма, а о дурных помыслах, которые следует душить в себе прямо в зародыше, не дожидаясь, пока они окрепнут. Думается, что это благочестивое объяснение, вероятно, навеянное принципом Opprime, dum nova sunt («Удуши их, пока не окрепли» – из известных стихов Овидия, который действительно говорит о помыслах), не совсем верно. Здесь говорится о детях, и в библейской книге Эсфирь тоже говорится о реальной резне, которую устроил, придя к власти, Мордехай. Еще вчера гонимый и вызывающий наше сочувствие, сегодня он неожиданно становится гонителем сам – это какое-то страшное предупреждение для всех нас. Так не должно быть. Хотя так было с Мордехаем. Да не будет так. Хотя об этом мечтали авторы 136-го псалма. Вот о чем говорит нам Бог через эти тексты, и мы должны прислушаться к этому Его предупреждению.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4120 (4—10 апреля). С. 16.
Православие. Традиционная религия?
Православие называют традиционной религией Русской земли. Неверующие и далекие от Церкви, живущие без Евангелия в руках люди, которых, используя древний церковный термин, можно назвать «внешними», тем и объясняют присутствие православия в жизни сегодняшней России и свои к нему симпатии, что оно традиционно, что с ним связана наша 1000-летняя история, культура и весь уклад жизни. Иными словами – тем, что оно наше.
Когда-то, году в 60-м, именно этой аргументацией пытался привлечь внимание отечественной интеллигенции к Церкви патриарх Алексий I. Измученный непрекращающимися преследованиями Церкви и религии со стороны советской власти, бесчисленными постановлениями об активизации антирелигиозной пропаганды и т. п., восьмидесятилетний старец-патриарх не выдержал и в Кремле на встрече руководителей партии и правительства с представителями интеллигенции сказал речь. Он говорил о том, что сделала Церковь для развития русской культуры, архитектуры, музыки, литературы, живописи и проч., для развития русского национального самосознания и патриотизма, и был освистан. Его речь вызвала возмущение со стороны практически всех, кто присутствовал в зале. А были там не только партийные работники и подставные лица (знатные доярки и передовики производства, давно забывшие о том, где они работали некогда, и превратившиеся в завсегдатаев кремлевских встреч с народом), но и писатели, артисты, музыканты, в общем, заслуживающие уважения и неплохие люди. Буквально на днях я прочитал рассказ об этом в книге Д. В. Поспеловского по истории Русской Православной Церкви в XX веке, но впервые услышал, в общем, именно то, что прочитал теперь, лет двадцать пять тому назад от одного московского протоиерея. Услышал и страшно разозлился: вот она какая наша интеллигенция – плохая, атеистическая, бескультурная. А ведь дело-то не в интеллигенции. Беда прежде всего заключается в том, что Святейший, говоря о Церкви, указал на важное, но ни слова не сказал о главном. Да, конечно, Церковь многое сделала для развития культуры (и музыки, и зодчества, и т. д.), но не это было и остается главным в ее миссии. Главное – она давала и дает возможность всем нам увидеть тот свет, «превосходящий солнечное сияние» (Деян 26: 13), который увидел на пути в Дамаск апостол Павел, – свет Христов, просвещающий всех, а значит, увидеть и собственную жизнь, и мир вокруг по-новому, новыми глазами. Вот об этом Алексий I не сказал ни слова. Не нам, конечно, его судить, но, думаю, если бы он хоть как-то намекнул на это, реакция на эту речь могла бы быть иной. Главное в Церкви – Христос. Всё остальное, быть может, и важно, но второстепенно. И еще: всё остальное без Христа сразу теряет какой бы то ни было смысл. Гёте назвал архитектуру застывшей музыкой. Прежде всего это относится к архитектуре храма, который всегда является застывшей всенощной или литургией и вне богослужения, прежде всего вне евхаристии, сразу теряет всякий смысл и превращается в груду камней. Владимир Соловьёв в «Краткой повести об антихристе» рассказывает о том, как антихрист, еще не узнанный, обращаясь к православным, говорит, что он организует музей для тех, кому в христианстве всего дороже старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. «И в самом деле, – восклицает он, – что может быть дороже этого для религиозной души?» Действительно, именно таково то христианство, к которому толкает нас антихрист. Христианство, в котором есть всё: иконы, храмы, песнопения, славянский язык и прочее и нет только одного – Христа.
В 60-е—80-е годы советскими учеными писались серьезнейшие книги о церковной архитектуре, об иконописи и древнерусской литературе, но без упоминания о Боге и так, словно книги под названием Евангелие вообще нет и никогда не было. С одной стороны, эти поистине титанические усилия Д. С. Лихачёва, Н. Н. Воронина, Г. К. Вагнера и других ученых, среди которых было немало верующих людей, действительно привили нам любовь к древнерусской культуре, но вместе с тем они привели к абсолютизации в сознании советского человека именно образа средневековой Руси как sui generis[3] идеального государства и идеального общества. При этом всегда подчеркивалось, что к Церкви сегодняшнего дня, к личной религиозной практике, к молитве и т. д., ко всему тому, что может быть истолковано как пропаганда религии, изучение древнерусской культуры не имеет никакого отношения. Неудовлетворенность сегодняшним днем, неприятие советской идеологии, советских ритуалов, воспитательного тона радио и телевидения и вообще той идейно-воспитательной работы, которую КПСС вела со всеми нами от детского сада до дома престарелых, естественно приводили к идеализации прошлого в стиле Ивана Шмелёва и его «Лета благоприятного». С той только разницей, что Шмелёв идеализировал мир собственного детства и своих собственных свежих и абсолютно личных впечатлений, а советские люди 60-х—80-х годов – мир, вычитанный из книг, в котором они никогда не жили сами. Это первое.
И второе: в мире, который с чувством пронзительной ностальгии описывал Шмелёв, огромное место, без сомнения, занимали ритуалы, обычаи, куличи, соленья, пироги и проч., но в центре его всё же был Христос. А в мире, вычитанном из книг отечественных ученых, из исторических романов, путеводителей, журналов вроде «Науки и жизни», в мире, который открывался советскому человеку в музеях, на выставках, во время летних поездок в древние города (Суздаль, Муром, Вологду и т. д.), было всё, что у Шмелёва, но только не Христос, не живая вера, не богослужение. Идеализировалось прошлое не только «внешними», но и церковными людьми (которых, правда, было очень мало) – просто за то, что в прошлом людей не выгоняли с работы, если они ходили в церковь, издавали какие-то книги и проч. Идеализировался и политический строй былых времен, и быт, и язык, и одежда только за то, что в те времена за религию не преследовали.
И вот именно в то время, когда образ прежней России как идеального (не в платоновском, а в бытовом смысле этого слова) государства вполне сложился в нашем сознании, вдруг «разрешили» верить в Бога. Я сознательно, хотя и с большой болью, употребил слово «разрешили», ибо массовый поворот к Церкви как среди интеллигенции, так и среди простых людей начался, увы, только в тот момент, когда в ходе общей либерализации нашей жизни М. С. Горбачёв издал своего рода Миланский эдикт, то есть просто за религию перестали наказывать.
При этом возврат к Богу многими стал пониматься именно как возврат в прошлое. Отсюда вошла в моду стилизация в одежде, в языке, в манерах, в образе жизни, даже в пище. Но стилизация – это всегда игра. Быть может, возвышенная, высокая, благородная, но всё же игра. Как Glasperlenspiel (Игра в бисер) в романе Германа Гессе. А вера во Христа – это не игра, а совсем наоборот: главная правда нашей жизни. Примешивать игру к правде всегда опасно, ибо, делая это, мы просто теряем способность видеть главное и увязаем в мелочах. Это первая причина, по которой возврат к Церкви XIX века мне представляется чем-то опасным. И потом, во главу угла здесь кладется не суть, а форма!
Вторая причина заключается в том, что, возвращаясь к Церкви прошлого и возрождая духовную жизнь такой, какой она была в XIX веке, мы игнорируем опыт православного пути в нашем столетии – опыт отца Алексия Мечёва и его общины, опыт его продолжателей и матушки Фамари, отцов Николая Голубцова, Александра Ветелева и других. Отвергаем опыт катакомб и полукатакомб современной России, опыт православия в ГУЛАГе, с одной стороны, и, с другой стороны, – опыт православия на Западе в XX веке, прежде всего во Франции и США – отцов Николая Афанасьева, Киприана (Керна), Александра Ельчанинова, Александра Шмемана, Иоанна Мейендорфа, архиепископа Иоанна (Шаховского), митрополита Антония (Блума), епископа Кассиана (Безобразова) и других. Всех тех, кто за границей хранил и хранит для нас православную веру в условиях, где советская власть не в силах была исковеркать психологию, души и сердца верующих, где люди не жили в условиях перманентного страха, как жили мы и наши родители, где люди жили не в условиях постоянной обработки мозгов и поэтому могли свободно верить в свободной атмосфере. Там они приобрели опыт свободного от опеки государства православия, приобрести который нельзя было ни в царской, ни в послереволюционной России. Пренебрегать их опытом нельзя.
Наконец, третья причина, по которой я боюсь идеализации прошлого и стремления как бы вернуться в него, заключается в том, что, делая это, мы изобретаем для себя какой-то искусственный мир, где, как нам кажется, всё остается таким, как было до революции.
Сочиняя реальность вокруг себя, изобретая искусственный антураж для своей жизни, мы поступаем подобно римскому поэту Альбию Тибуллу, который прямо говорит о мире, описанном в его элегиях: Наес ego fingebam, то есть «Всё это я сочинял». Жизнь в таком искусственном мире опасна тем, что это – жизнь внутри собственной мечты. Мы превращаем религию в бегство от действительности, провоцируем себя и наших близких на отрыв от реальности, тогда как на самом деле наша вера, православие, с отрывом от реальности ничего общего не имеет, наоборот, она есть наше бесстрашное вхождение, наше погружение в действительность.
И какой бы тяжелой эта действительность ни была, вера во Христа дает силы жить внутри нее. Если же мы конструируем вокруг себя искусственную реальность в стиле XIX века, то сразу оказываемся умом в одном – сочиненном – мире, а телом в другом – реальном. В результате этого боль и беды последнего, то есть реального, мира, где мы уже почти не присутствуем ни умом, ни сердцем, становятся для нас чужими, посторонними, далекими.
Войдя в Церковь, став христианами, мы делаемся в то же самое время неисправимыми эгоистами (хотя, казалось бы, должно быть наоборот!), живем и не видим, не чувствуем той боли, от которой страдают люди вокруг нас, считая, что духовная жизнь важнее, чем наша живая реакция на то, что происходит вокруг. «Отзывчивый» – вот русское слово, которым неплохо передается греческое («милосердный»). – это «крик от боли» по-гречески, значит, «милосердным» можно назвать лишь того, кто реагирует на боль другого как на свою собственную. Есть ли такое милосердие в нас? Боюсь, далеко не всегда. Мы слишком тщательно и слишком упорно ищем Иисуса в прошлом, чтобы заметить Его в настоящем, среди нас. «Если вы не понимаете, – говорит знаменитый отец Браун в одном из рассказов Честертона, – что я готов сравнять с землей все готические своды в мире, чтобы сохранить покой даже одной человеческой душе, то вы знаете о моей религии еще меньше, чем вам кажется».
На последнем Суде Христос не спросит нас, на каком языке мы обращались к Нему с молитвой и что думали о том или ином догмате, Он не будет судить нас за то, что мы не любили или, наоборот, слишком любили знаменный распев и т. д. Он просто скажет: «Голоден был Я, и вы дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня» или наоборот: «И вы не дали Мне есть… и вы не напоили Меня» и объяснит, что «так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25: 35 и след.). Сейчас, когда вокруг столько больных, нищих и бездомных, нам есть о ком позаботиться. А мы вместо этого продолжаем поиски врагов – тех, кто, как нам кажется, искажает суть православия тем, что видит не врагов и еретиков, но братьев (увы, разделенных) в католиках и протестантах, тех, кто говорит, что у нас не всё хорошо, а у них не всё плохо и проч. Видим врагов в тех, кого почему-то называем модернистами (в том числе всех священников и профессоров Свято-Сергиевского института в Париже и Князь-Владимирской семинарии в Нью-Йорке). Хотя, в сущности, христианин и православный не может не быть модернистом, то есть современником дня сегодняшнего, ибо боль наша, если мы христиане, это прежде всего отклик на боль тех, кому именно сегодня больно. Христос – не в прошлом, а среди нас, «здесь и теперь», не среди камней и древних манускриптов, а среди людей.
Нас раздражает всё, что кажется чуждым традиции, а при этом под традицией мы понимаем, как правило, реальность XIX века или, в лучшем случае, отечественного Средневековья, но, во всяком случае, не ту традицию, которая восходит к временам апостольским. В «Письме к Диогнету», написанном неизвестным автором на заре христианской эры, говорится: «Христиане не отличаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаям. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других… но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всём прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни… они любят всех и всеми бывают преследуемы». Отсюда становится ясно, что задача христиан заключается в том, чтобы отличаться от нехристиан, среди которых они живут, не внешне, а внутренне. Такова именно традиция, унаследованная нами от апостолов, а мы, ориентируясь на русское Средневековье, стремимся отличаться от нехристиан как раз внешне. Это беда.
Неверующий человек всегда живет мифами. Пока мы не верим во Христа, мы выдумываем для себя и для других что-то такое, что нам кажется стержнем жизни, объявляя им то науку (это было типично для интеллигенции в эпоху советской власти, когда мы в большинстве своем прямо обожествляли науку), то искусство, поэзию, музыку, то идею социальной справедливости, как это было в XIX веке, то национальную идею – как теперь. Открывая Христа, в свете веры мы сразу находим подлинный стержень жизни – это Он Сам и Его крест, а следовательно, не наша боль за ту или иную идею, а боль того, кто рядом с нами, боль конкретного живого человека, кем бы он ни был, созданного по образу и подобию Божьему.
Само выражение «Новый Завет» означает, что он нов не в отличие от Ветхого, а всегда нов. Он «Новый» в том смысле, что всегда будет таким, никогда не устареет, просто не может устареть. Не случайно в церковной латыни греческое словосочетание «Новый Завет» иногда переводится не просто как novum, но как novum et aeternum Testamentum, – новый и вечный. Для св. Иринея Лионского главной чертой христианства была его novitas, то есть его непременная новизна, его всегдашняя неожиданность.
Когда Иисус говорит нам: «Заповедь новую даю вам», Он совсем не хочет сказать, что этой заповеди не было прежде. Он подчеркивает другое, а именно, что она будет новой всегда. Вечная novitas христианства выражается прежде всего в том, что каждый из нас в какой-то момент своей собственной жизни встречается со Христом впервые, причем впервые не только в своей личной истории, но впервые в истории человечества. Законы механики открыты Ньютоном раз и навсегда. Открывать их снова и снова просто бессмысленно. С Богом всё обстоит по-другому. Его каждый открывает заново, и каждый открывает впервые. В том и заключается парадоксальность отношений между человечеством и Богом, что отношения с Ним у каждого и каждой из нас уникальны и неповторимы. В жизнь каждого Бог входит особо, особым, именно для этого человека уготованным путем. Он входит – и происходит встреча. Не случайно в Деяниях святых апостолов трижды рассказывается о том, как апостолу Павлу явился Иисус на дороге в Дамаск. Эта встреча с Воскресшим стала действительно главным событием в его жизни. В нашей жизни эта встреча или уже состоялась, или еще состоится. Причем касается это не только тех, кто обратился к Богу в зрелом возрасте, как св. Павел, но и тех, кто крестился во младенчестве и живет в Церкви с детства. И вот здесь встает самый трудный и в высшей степени важный вопрос: как понять, что Бог действительно нас коснулся, что встреча с Ним уже произошла, что сердце наше горит Богом, а не какой-то идеей, пусть даже самой лучшей.
Думается, можно говорить о том, что Бог нас коснулся, если мы вдруг понимаем, что православие не есть следование определенным правилам или требованиям и установкам, не упорное вычитывание молитвенного правила и т. д., а полное обновление жизни, когда всё вокруг неожиданно становится другим, даже воздух. Когда мы, осознавая, что любим традицию, в которой укоренены, может быть, даже до боли любим, вдруг для себя открываем, что суть не в ней, что и вне ее, и без нее можно верить во Христа и идти за Ним, – это значит, что наша встреча состоялась. Говоря кратко, детская любовь к традиции и одновременное ясное понимание того, что не в ней суть православия, и более, что без нее можно обойтись – вот знак того, что нас коснулся Бог.
Традиционность – это подчинение сегодняшнего дня прошлому. Если мы строим свою жизнь, подражая тому, как «в старину живали деды», это значит, что мы превращаем православие из вселенской веры в Христа Воскресшего в какую-то религию древних славян, которую почему-то упорно сохраняем и даже реанимируем. С православием эта религия имеет общую только форму, по сути она ему глубоко враждебна и противоположна. Наша вера – это всегда путь вперед, это всегда трудный и иногда даже страшный путь в будущее вслед за Иисусом (см. Мк 10: 32).
Впервые опубл.: Русская мысль. 1995. № 4106 (21–27 декабря).С. 13.
Еще раз о славянском языке
Славянский язык я люблю с раннего детства. И кроме того, во многом это язык моего детства. Дело в том, что моя бабушка Варвара Виссарионовна незадолго до революции окончила Высшие женские курсы, где занималась славянскими древностями под руководством Вячеслава Николаевича Щепкина, знаменитого исследователя в области славянской палеографии. Дипломной ее работой был анализ жития преподобного Михаила Клопского. Поэтому теперь мне уже трудно сказать, на каком языке я научился читать раньше, на русском или на славянском.
Теперь о славянском языке очень много спорят и даже сражаются в его защиту, хотя я не уверен в том, что язык, просуществовавший тысячу с лишним лет, нуждается в нашей защите. Тем более что защищают его как-то странно. Говорят, например, что это язык Святых Отцов. Но Отцы, как известно, писали на греческом, латинском и сирийском, а что касается славянского, то они даже не знали о его существовании. Христианство Востока (в отличие от Рима!) пошло еще со времен апостольских по пути перевода Библии и богослужебных книг на язык тех народов, среди которых оно возвещалось. Так появились переводы Писания на коптский, нубийский, эфиопский, армянский, грузинский, готский языки и даже на санскрит. Одним из младших (по времени своего формирования) в семье языков христианского Востока является наш славянский.
Месроп Маштоц начал перевод Писания на армянский, свв. Кирилл и Мефодий – на славянский. В честь последних учреждены премии, устраиваются праздники, им ставятся памятники, наконец, мы поминаем их во время проскомидии за каждой литургией, но при этом забываем о главной их заслуге. А состоит она в том, что они не боялись нового – не испугались перевести Евангелие на язык язычников, дикарей, у которых не было ни письменности, ни культуры, ни даже слов, необходимых для их работы. Когда блаженный Иероним переводил Библию на латынь, это был язык с тысячелетней историей, с блестящей литературной традицией и проч., язык, на котором до него уже была написана «Энеида» Вергилия и многие другие тексты. Когда семьдесят толковников переводили Ветхий Завет на греческий, ситуация была такой же: они работали после Гомера и после великих трагиков V века. А славянского языка до святых первоучителей вообще, в сущности, не было – было лишь наречие, на котором, как мы можем сказать из-за отсутствия у нас свидетельств об обратном, лишь говорили в быту. Кирилл и Мефодий взялись за дело, обреченное на провал, и победили.
В прошлом веке, когда в Москве праздновалось тысячелетие славянского Евангелия, об этой потрясающей смелости свв. Кирилла и Мефодия замечательно говорил Капитон Иванович Невоструев, один из блестящих знатоков славянских рукописей, послушник Чудова монастыря в Кремле, мирянин, у которого, по словам современников, монахи учились иноческому деланию. Невоструев подчеркнул, что именно смелость, отсутствие страха перед новым прежде всего отличают первоучителей наших, что именно эти качества должны мы иметь в виду, если хотим быть верны их традициям. Говорилось это в те годы, когда шли споры о русской Библии, уже готовой, но еще полностью не напечатанной и воспринимавшейся многими как что-то протестантское, подрывающее устои православия и т. д.
Допустим, что русская Библия подрывает «основы». А Остромирово Евангелие? Появившееся на Руси в 1056–1057 годах, оно представляет собой не точную копию древнейших рукописей, а их редакцию, в которой одни непонятные для древнерусского читателя слова заменены на другие, в одних случаях изменены грамматические формы, а в других звучание слов приближено к тому, как они произносились не в моравских землях, где сначала распространялся перевод свв. Кирилла и Мефодия, а на Руси. С IX и вплоть до XVII века славянский перевод Писания постоянно редактировался, переделывался, видоизменялся. Когда эта редакция осуществлялась, и, разумеется, сверялась с греческим оригиналом, ее приближали к живому русскому языку той эпохи. Книжники на Руси хорошо понимали, что перевод должен быть точен, и не боялись вносить исправления в славянский текст, который они любили, наверное, знали наизусть, но воспринимали не как нечто аутентичное греческому тексту и его вполне заменяющее, а именно как перевод. Одним из таких редакторов был в XIV веке св. Алексий, митрополит Московский. Подрывала ли «основы» деятельность его и других переписчиков? Всё-таки надеюсь, что нет. И даже смею думать, что наоборот – укрепляла. Замечу между прочим, что раскол при патриархе Никоне возник, а затем превратился в настоящую трагедию для нашей Церкви совсем не из-за самого факта исправления книг, а только из- за того, как производилось это исправление. Из-за резкости и грубости патриарха, из-за тех фельдфебельских методов, которыми он пользовался.
Славянский текст Писания остановился в своем движении к русскому языку своей эпохи только в царствование Петра I, когда Россия была насильственно «переброшена» в XVIII век, а Церковь так и осталась в XVII. Именно с этого времени начинается история нашего двуязычия, в условиях которого в Церкви используется один язык, а в жизни – другой. И не только двуязычия, но и вообще история отдаления Церкви от общества и от реальной жизни.
Защитники славянского языка (хотя, повторяю, он не нуждается в их защите, как не нуждаются ни в чьей защите ни древнегреческий, ни латинский, ни аккадский или древнеегипетский языки – с каждым из них слишком много связано в истории человечества, и поэтому забыть их просто невозможно) обращают внимание на его красоту, музыкальность и мелодичность, подчеркивают, что так красиво, как по-славянски, по-русски не скажешь. В связи с этим хочется напомнить читателю, что именно на красоту иконы, церковного пения, храмовой архитектуры, ювелирных изделий, шитья и вообще всего, что связано с Церковью, было принято обращать внимание в советские времена, чтобы под видом культурного наследия «протащить» хотя бы что-то из Церкви в жизнь современного советского человека.
Но в Церкви значима не красота, а истина. И более – красота иногда страшна, ибо она может легко отвлечь от Бога в силу своей привлекательности. Не случайно, наверное, Евангелие написано на таком плохом, далеком от литературных красот греческом языке. По этой причине как литературный памятник оно привлечь не может никого и воспринимается именно только как слово истины.
Конечно, красота в Церкви постоянно используется как средство привлечения к истине далекого пока от нее человека. Послов князя Владимира в Константинополе именно красота привлекла к православию. Но та же красота в какой- то момент начинает нас тормозить на пути к Богу, превращается в барьер между нами и истиной; например, слишком профессиональное пение в храме всегда отрывает нас от молитвы. Красота всегда связана с формой, а наша задача заключается в прорыве к сути, слишком прекрасная форма от этой сути всегда отвлекает. Поэтому будем помнить, что славянский язык – это только форма для нашей молитвы, но не более.
Есть, конечно, среди нас и такие ревнители славянского языка, которые утверждают, что молиться можно только по- славянски, что те православные, которые, как румыны или арабы, не знают славянского, уже не могут считаться вполне православными, что Бог думает по-славянски, что именно в славянском тексте Евангелия и литургии есть те глубины, которых нет даже в греческом, и проч. В XIX веке так рассуждал знаменитый адмирал Шишков, но и теперь у него есть продолжатели. Однако обсуждать их воззрения просто не имеет никакого смысла, ибо такого рода утверждения исходят всегда от людей, во-первых, бесконечно далеких от Церкви и, во всяком случае, не участвующих в ее таинствах, а во-вторых, необразованных, нахватавшихся случайной информации из случайных изданий.
Говорят, славянский много точнее, чем русский или любой другой язык, передает греческий текст. Да, конечно; но просто по той причине, что он стал письменным и литературным именно как язык переводов с греческого, причем переводов, которые, как это вообще было принято в Средние века, делались слово за слово с сохранением порядка слов оригинала, его фигур речи, синтаксических оборотов и т. д. Однако, увы, по этой же самой причине славянский текст часто без греческого оригинала и без знания греческого языка бывает просто непонятен. До тех пор, пока благодаря трудам, старанию и огромному мужеству св. Филарета, митрополита Московского, не появилось Евангелие на русском языке, дворяне читали Писание преимущественно на французском, а поэтому либо увлекались мартинизмом и ударялись в масонство, либо уходили в католичество, а простые люди просто были лишены возможности читать Слово Божие. Непонятен славянский текст и сегодня: спросишь иной раз у его ревнителя, что значит то или иное место в Псалтири, – а он молчит или же начинает вместо ответа просто обличать обновленцев, масонов, католиков и т. д.
Что же делать? Есть ли в Церкви у славянского языка будущее и каково оно? Кто прав, его ревнители или их оппоненты? Эти и многие другие вопросы непременно сегодня встают и у верующих, и у тех, кто ищет Бога, и у агностиков.
На первый взгляд у нас есть два пути. Первый заключается в постепенной замене славянского языка русским. В XIX веке к нему склонялись св. Феофан Затворник, а затем патриарх Тихон[4]. Этот путь вполне можно назвать традиционным, ибо именно по нему шли все те (включая святителя Алексия, митрополита Московского), кто исправлял перевод Писания в эпоху с Х по XVII век, сообразуясь с состоянием живого языка своего времени. Но этот путь, несмотря на то, что для отечественной истории именно он отнюдь не нов, многих из нас сейчас пугает, поскольку нам кажется, что с ним связан отрыв от традиции, и что он вполне вписывается в то бескультурье, от которого столько страдала Россия, особенно за последние восемьдесят лет.
Поэтому мы предпочитаем второй путь – назовем его условно «латинским», ибо как раз таким путем шла Западная Церковь в Средние века, – заключающийся в том, чтобы обучать славянскому языку верующих и тех, кто стремится к вере, в воскресных школах, на курсах, через средства массовой информации и т. д. Кажется, ничего лучшего, чем этот путь, и придумать нельзя, но, если приглядеться, оказывается, что и он совсем не так хорош, как хотелось бы. Идя по этому пути, православие рискует превратиться из религии тех, кто знает Бога, в религию тех, кто знает о Боге, в конфессию для образованных, получивших специальное филологическое образование и т. д. И сейчас уже, между прочим, заметно, что прихожане наши в основной своей массе распадаются на две категории: первую составляют совсем простые люди, а вторую – интеллигенция; что же касается middle class’ а, то он предпочитает баптизм или вовсе остается вне Церкви. Человек, если ему по тем или иным причинам не дается славянский язык, выпадает из богослужения, не понимая, что происходит в храме, оказывается там чужим, берет Молитвослов и понимает в нем не слова, не смысл, а только буквы, молится, не понимая о чем. Это грустно и на самом деле даже страшно.
Если вдуматься в суть проблемы, то окажется, что ни первый, ни второй из описанных здесь путей нам не подходит, ибо вообще дело не в славянском языке. Для иудаизма иврит, а для ислама арабский действительно являются каждый в своем случае языком веры и существенным компонентом исповедания. Нечто подобное можно сказать, применительно к католицизму прошлого, о латыни, без которой трудно представить себе Западную Церковь в эпоху Средневековья и даже в прошлом веке. Но не случайно именно за латынь всегда порицали католический Запад христиане Востока, справедливо считая, что исповедание не может быть связано с тем или иным языком. В самом деле, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, бывшие в Иерусалиме «люди… из всякого народа под небесами… каждый слышал их (апостолов), говорящих его наречием» (Деян 2: 5–6). «Как же мы, – восклицали эти люди, – слышим каждый собственное наречие, в котором родились… слышим их, нашими языками говорящих» (там же 2: 8—11). Христианство – вне языка. В отличие от других религий, оно переводимо на любой язык, и эта его переводимость засвидетельствована опытом Церкви первых веков, жившей реальной памятью о нисхождении Духа Святого на святых учеников и апостолов Христовых. Язык – это только часть культуры той или иной страны, в которой христианство исповедуется.
Разумеется, это касается в равной мере и славянского, и латинского, и армянского, и других древних и новых языков. Хотя, конечно, греческий язык, на котором написано Евангелие, арамейский, ибо на нем проповедовал Иисус, а также иврит как язык Ветхого Завета особо важны для нас, христиан, поскольку их изучение и знание может нам помочь глубже и точнее понимать текст Писания. Языки других народов, принявших христианство в древности, тоже нужны нам, ибо Ефрема Сирина можно вполне понять только на сирийском, Иеронима – на латыни, а Кирилла Туровского – на славянском, ибо при переводе любого текста с одного языка на другой потери неизбежны. Таким образом, славянский язык нам очень нужен, но не как язык исповедания (не будем повторять ошибки средневекового Рима!), а в качестве языка многих из тех, кто в прошлом придерживался нашего исповедания. Не как язык христианства, а как язык христиан.
В христианстве и для христиан любой язык – не больше чем средство. Вспоминаю, что в Институте иностранных языков студенты не раз спрашивали меня про эсперанто, почему я считаю его изучение не нужным. Я всегда отвечал им, что это язык, на котором никто не рожал, не объяснялся в любви и не умирал. Иными словами, это язык искусственный, язык для интеллектуальной игры. Женщина во время родов забудет про эсперанто и закричит от боли на родном языке, и умирая, мы тоже будем молиться не на эсперанто. Мы знаем об этом и из опыта Самого Иисуса, который, умирая на кресте, воскликнул свое «Боже, Боже Мой, почему Ты Меня оставил» не на иврите, а на том галилейском наречии, которое в Иерусалиме почти никто не понимал, – именно поэтому «некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет… постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его» (Мк 15: 35–36). Эсперанто – механический соловей из сказки Андерсена. Для галилеян эпохи Иисуса иврит уже был чем-то вроде эсперанто, для нас в таком положении оказался славянский. Человек сегодняшнего дня может его выучить, но вряд ли сумеет на нем рожать, страдать, умирать, объясняться в любви и т. д.
Для простого человека молитва на непонятном языке иногда не так уж бессмысленна. Она вызывает в его сердце чувство благоговения перед ее непонятностью и какого-то особенного умиления, которое прекрасно описано Чеховым в рассказе о старушке, со слезами вслушивавшейся в «паки и паки». Но для человека мало-мальски образованного такая молитва крайне вредна, ибо она volens-nolens приобретает характер интеллектуального дела; в молитву на выученном, вызубренном языке охотно включается ум, и при этом из нее начисто выключается сердце. Она оказывается связанной с узнаванием слов и выражений, с работой мысли, но не сердца.
В целом такая молитва приводит к тому, что наше исповедание становится чем-то либо оторванным от жизни, искусственным и напоминающим механического соловья, либо превращается в образ мыслей, философию или идеологию, – в нечто, опять- таки оторванное от реальности. Отсюда наша сердечная сухость, жесткость, безжалостность, отсюда получается, что мы все умеем правильно понять, но не умеем просто пожалеть того, кому плохо, не умеем отозваться на боль другого, прийти на помощь и утешить. Не случайно же сегодня очень многие жалуются на то, что, придя в Церковь, казалось бы, приблизившись к Богу, люди, особенно молодые, почему-то становятся жесткими, бессердечными, резкими, хотя по идее должно быть всё наоборот.
Если же мы поймем, что язык – только форма нашего исповедания, что с ним не связана его суть и сердцевина, форма, быть может, горячо любимая, но форма и не более, то и от жесткости этой мы быстро исцелимся (ибо она на самом деле с ревностью о Боге не имеет ничего общего и представляет собой только один из видов чисто советской «принципиальности»), и множество проблем, накопившихся в стенах Православной Церкви, начнет решаться. А на каком языке служить, тогда уже решать будем не мы – это подскажет нам Сам Господь.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4112 (8—14февраля). С. 13.
Нисхождение во ад
За последний месяц я похоронил шесть детей из больницы, где каждую субботу служу литургию. Пять мальчиков: Женю, Антона, Сашу, Алешу и Игоря. И одну девочку – Женю Жмырко, семнадцатилетнюю красавицу, от которой осталась в иконостасе больничного храма икона святого великомученика Пантелеймона. Умерла она от лейкоза. Умирала долго и мучительно, не помогало ничто. И этот месяц не какой-то особенный. Пять детских гробов в месяц – это статистика. Неумолимая и убийственная, но статистика. И в каждом гробу родной, горячо любимый, чистый, светлый, чудесный. Максимка, Ксюша, Настя, Наташа, Сережа…
За последний день я навестил трех больных: Клару (Марию), Андрюшу и Валентину. Все трое погибают – тяжело и мучительно. Клара уже почти бабушка, крестилась недавно, но можно подумать, что всю жизнь прожила в Церкви – так светла, мудра и прозрачна. Андрюше – двадцать пять лет, а сыну его всего лишь год. За него молятся десятки, даже, наверное, сотни людей, достают лекарства, возят на машине в больницу и домой, собирают деньги на лечение – а метастазы повсюду. И этот день не какой-то особенный, так каждый день.
А Самашки с массовыми убийствами мирных жителей? А Буденновск? А вообще вся чеченская война? А Грозный, превращенный в дымящиеся развалины, словно Троя? Город, которого просто нет. А Босния и Сербская Краина? Еще одна бойня. И снова трупы мирных жителей.
Прошло полдня. Умерла Клара. Умерла Валентина. В Чечне погибло шесть российских солдат – а сколько чеченцев, не сообщают… Умерла Катя (из отделения онкологии), девочка с огромными голубыми глазами. Об этом мне сказали прямо во время службы.
Легко верить в Бога, когда идешь летом через поле. Сияет солнце, и цветы благоухают, и воздух дрожит, напоенный их ароматом. «И в небесах я вижу Бога» – как у Лермонтова. А тут? Бог? Где Он? Если Он благ, всеведущ и всемогущ, то почему молчит? Если же Он так наказывает их за их грехи или за грехи их пап и мам, как считают многие, то Он уж никак не «долготерпелив и многомилостив», тогда Он безжалостен.
Бог попускает зло для нашей же пользы либо когда учит нас, либо когда хочет, чтобы с нами не случилось чего-либо еще худшего – так учили еще со времен средневековья и Византии богословы прошлого, и мы так утверждаем следом за ними. Мертвые дети – школа Бога? Или попущение меньшего зла, чтобы избежать большего?
Если Бог всё это устроил, хотя бы для нашего вразумления, то это не Бог, это злой демон, зачем ему поклоняться, его надо просто изгнать из жизни. Если Богу, для того чтобы мы образумились, надо было умертвить Антошу, Сашу, Женю, Алешу, Катю… я не хочу верить в такого Бога. Напоминаю, что слово «верить» не значит «признавать, что Он есть», «верить» – это «доверять, вверяться, вверять или отдавать себя». Тогда выходит, что были правы те, кто в 30-е годы разрушал храмы и жег на кострах иконы, те, кто храмы превращал в дворцы культуры. Грустно. Хуже, чем грустно. Страшно.
Может быть, не думать об этом, а просто утешать? Давать тем, кому совсем плохо, этот «опиум для народа», и им всё- таки хотя бы не так уж, но будет легче. Утешать, успокаивать, жалеть. Но опиум не лечит, а лишь на время усыпляет, снимает боль на три или четыре часа, а потом его нужно давать снова и снова. И вообще страшно говорить неправду – особенно о Боге. Не могу.
Господи! Что же делать? Я смотрю на Твой крест и вижу, как мучительно Ты на нем умираешь. Смотрю на Твои язвы и вижу Тебя мертва, нага, непогребенна… Ты в этом мире разделил с нами нашу боль. Ты как один из нас восклицаешь, умирая на Своем кресте: «Боже, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Ты как один из нас, как Женя, как Антон, как Алеша, как, в конце концов, каждый из нас, задал Богу страшный этот вопрос и «испустил дух».
Если апостолы утверждают, что Иисус умер на кресте за наши грехи и искупил их Своею Кровию, то мы выкуплены (см. 1 Кор 6: 20; а также 1 Петр 1: 18–19); значит, мы страдаем не за что-то, не за грехи – свои, родительские, чьи-то. За них уже пострадал Христос – так учат апостолы, и на этом зиждется основа всего их богословия. Тогда выходит, что неизвестно, за что страдаем мы.
Тем временем Христос, «искупивший нас от клятвы законныя честною Своею Кровию» (из чинопоследования проскомидии), идет по земле не как победитель, а именно как побежденный. Он будет схвачен, распят и умрет мучительной смертью со словами: «Боже, Боже мой, почему Ты Меня оставил?» Его бросят все, даже ближайшие ученики. Его свидетелей тоже будут хватать и убивать, сажать в тюрьмы и лагеря. Со времен апостолов и вплоть до Дитриха Бонхёффера, матери Марии и Максимилиана Кольбе, вплоть до тысяч мучеников советского ГУЛАГа.
Зачем всё это? Не знаю. Но знаю, что Христос соединяется с нами в беде, в боли, в богооставленности – у гроба умершего ребенка я чувствую Его присутствие. Христос входит в нашу жизнь, чтобы соединить нас перед лицом боли и беды в одно целое, собрать нас вместе, чтобы мы не остались в момент беды один на один с этой бедой, как некогда остался Он.
Соединяя нас в единое целое перед лицом беды, Он делает то, что никто другой сделать не в силах. Так рождается Церковь.
Что мы знаем о Боге? Лишь то, что явил нам Христос (Ин 1: 18). А Он явил нам, кроме всего прочего, и Свою оставленность Богом и людьми – именно в этой оставленности Он более всего соединяется с нами.
Кто виноват в боли? Бог, который может всё? Не знаю. Бог – Всемогущий, the Almighty в старой английской Библии (в новых переводах такого слова нет) или Omnipotens латинского Символа веры. Но в Библии нет такого слова, в Библии Он – только Бог сил и Саваоф.
Грекам, а вслед за ними и римлянам всегда хотелось всё знать. На этом основана вся античная цивилизация. Именно на этой неуемной, бурлящей и неутомимой жажде знания. И о Боге, когда они стали христианами, им тоже захотелось знать – может Он всё или нет. Отсюда слово «Всемогущий», или Omnipotens, один из эпитетов Юпитера в римской поэзии, которым очень любит пользоваться в своей «Энеиде» Вергилий.
А Бог «неизречен, недоведом, невидим, непостижим» (это мы знаем не из богословия, нередко попадавшего под влияние античной философии, а из молитвенного опыта Церкви, из опыта Евхаристии – не случайно же каждый священник непременно повторяет эти слова во время каждой литургии), поэтому мы просто не в состоянии на вопрос «Может ли Бог всё?» ответить ни «да», ни «нет». Поэтому, кто виноват в боли, я не знаю, но знаю, кто страдает вместе с нами – Иисус.
Как же понять тогда творящееся в мире зло? Да не надо его понимать – с ним надо бороться. Побеждать зло добром, как зовет нас апостол Павел: больных лечить, нищих одевать и кормить, войну останавливать и т. д. Неустанно. А если не получается, если сил не хватает, тогда склоняться перед Твоим крестом, тогда хвататься за его подножие как за единственную надежду.
«Бога не видел никто никогда» (Ин 1: 18). И только одна нить соединяет нас с Ним – человек по имени Иисус, в Котором вся полнота Божия пребывает телесно. И только одна нить соединяет нас с Иисусом – имя этой нити любовь.
Он умер на кресте как преступник. Мучительно. Туринская плащаница со страшными следами кровоподтеков, со следами от язв, по которым современные патологоанатомы в деталях восстанавливают клиническую картину последних часов жизни Иисуса, – вот действительно подлинная святыня для XX века. Весь ужас смерти, никем и никак не прикрытый! Посмотрев на картину Гольбейна «Мертвый Христос», герой Достоевского воскликнул, что от такой картины можно веру потерять. А что бы он сказал, если бы увидел Туринскую плащаницу, или гитлеровские концлагеря, или сталинщину, или просто морг в детской больнице в 1995 году?
Что было дальше? Мы верим, что Он воскрес, но мы не знаем этого. Не знаем! В начале 20-й главы Евангелия от Иоанна мы видим Марию Магдалину, потом апостолов Петра и Иоанна и чувствуем пронзительную боль, которой пронизано всё в весеннее утро Пасхи. Боль, тоску, отчаяние, усталость и снова боль. Но эту же пронзительную боль, эту же пронзительную безнадежность, о которых так ярко рассказывает Евангелие от Иоанна, я ощущаю всякий раз у гроба ребенка… Ощущаю и с болью, сквозь слезы и отчаяние, верю – Ты воистину воскрес, мой Господь.
Пока писался этот очерк, умерла Клара, затем Валентина Ивановна, последним умер Андрюша – еще три гроба. Один мальчик признался мне на днях, что не верит в загробную жизнь и поэтому боится, что он плохой христианин. Я возразил ему на это, что трудности с восприятием того, что касается жизни за гробом, свидетельствуют как раз об обратном – о честности его веры.
И вот почему. Один, причем не очень молодой, священник как-то сказал мне, что ему очень трудно судить о смерти и учить своих прихожан не бояться ее, поскольку он сам никого из людей по-настоящему близких никогда не терял. Честно. Очень честно. И очень верно. Мне всегда страшно смотреть на вчерашнего семинариста, который важно и мягко, но чуть-чуть свысока втолковывает матери, потерявшей ребенка, что на самом деле это хорошо, что Бог так благословил и поэтому слишком уж убиваться не надо.
«Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы», – да, об этом говорит нам Христос в Своем Евангелии (Лк 20: 38). Но для того, чтобы эта весть вошла в сердце, каждому из нас необходим личный опыт бед, горя и потерь, опыт, ввергающий нас в бездну настоящего отчаяния, тоски и слез, нужны не дни или недели, а годы пронзительной боли. Эта весть входит в наше сердце только без наркоза и только через собственные потери. Как школьный урок ее не усвоишь. Смею утверждать: тот, кто думает, что верит, не пережив этого опыта боли, ошибается. Это еще не вера, это прикосновение к вере других, кому бы нам хотелось подражать в жизни. И более: тот, кто утверждает, что верит в бессмертие и ссылается при этом на соответствующую страницу катехизиса, вообще верит не в Бога, а в идола, имя которому – его собственный эгоизм.
Вера в то, что у Бога все живы, дается нам, только если мы делаем всё возможное для спасения жизни тех, кто нас окружает, только если мы не прикрываемся этою верой в чисто эгоистических целях – чтобы не слишком огорчаться, чтобы не сражаться за чью-то жизнь или просто чтобы не было больно.
Но откуда всё-таки в мире зло? Почему болеют и умирают дети? Попробую высказать одну догадку. Бог вручил нам мир: «Вот я дал вам» (Быт 1: 29). Мы сами, все вместе, испоганив его, виноваты если не во всех, то в очень многих бедах. Если говорить о войне, то наша вина здесь видна всегда, о болезнях – она видна не всегда, но часто (отравленная среда и т. п.). Мир в библейском смысле этого слова, мир, который лежит во зле, т. е. общество или мы все вместе – вот кто виноват.
В наших храмах среди святых икон довольно заметное место занимает «Нисхождение во ад» – Иисус на этой иконе изображен спускающимся куда-то в глубины земли, а вместе с тем и в глубины человеческого горя, отчаяния и безнадежности. В Новом Завете об этом событии вообще не говорится, только в Апостольском символе веры есть об этом два слова – descendit ad inferos («спустился во ад»), и довольно много в наших церковных песнопениях.
Иисус не только страдает сам, но и спускается во ад, чтобы там разделить боль других. Он всегда зовет нас с Собою, говоря нам: «По Мне гряди». Часто мы стараемся, действительно, идти вслед за Ним. Но тут…
Тут мы стараемся не видеть чужой боли, зажмуриваем глаза, затыкаем уши. В советское время мы прятали инвалидов в резервациях (как, например, на Валааме), чтобы никто их не видел, как бы жалея психику своих соотечественников. Морги в больницах часто прятали на заднем дворе, чтобы никто никогда не догадался, что здесь иногда умирают. И проч., и проч. Мы и теперь, если считаем себя неверующими, пытаемся играть со смертью в «кошки-мышки», делать вид, будто ее нет, как учил Эпикур, отгораживаться от нее и т. д. Иными словами, чтобы не бояться смерти, используем что-то вроде наркотика.
Если же мы считаем себя верующими, то поступаем не лучше: говорим, что она не страшна, что на то воля Божия, что не надо горевать по усопшему, потому что тем самым мы ропщем на Бога и проч. Так или иначе, но, подобно неверующим, также отгораживаемся от боли, заслоняем себя от нее инстинктивно, словно от удара занесенной над нами руки, то есть тоже используем если не наркотик, то во всяком случае анальгетик.
Это для себя. А для других мы поступаем еще хуже. Человеку, которому больно, пытаемся внушить, что это ему только кажется, причем кажется, ибо он Бога не любит и т. д. и т. п. А в результате человека, которому плохо, тяжело и больно, мы оставляем наедине с его болью, бросаем одного на самом трудном месте жизненной дороги.
А надо бы просто спуститься с ним вместе в ад вслед за Иисусом – почувствовать боль того, кто рядом, во всей ее полноте, неприкрытости и подлинности, разделить ее, пережить ее вместе.
Когда у моей восьмидесятилетней родственницы умерла сестра, с которой они вместе в одной комнате прожили всю жизнь, примерно через год она мне сказала: «Спасибо вам, что вы меня не утешали, а просто всё время были рядом». Думаю, что в этом и заключается христианство, чтобы быть рядом, вместе, ибо утешать можно человека, который потерял деньги, или посадил жирное пятно на новый костюм, или сломал ногу. Утешать – это значит показывать, что то, что с кем-то случилось, не такая уж большая беда. К смерти близкого такое утешение отношения не имеет. Здесь оно больше чем безнравственно.
Мы – люди Страстной Субботы. Иисус уже снят с креста. Он уже, наверное, воскрес, ибо об этом повествует прочитанное во время обедни Евангелие, но никто еще не знает об этом. Ангел еще не сказал: «Его здесь нет. Он воскрес», об этом не знает никто, пока это только чувствуется, и только теми, кто не разучился чувствовать…
Впервые опубл.: Русская мысль. 1995. № 4095 (5—11 октября). С. 9. (под заголовком «Нисхождение во ад: Из “Записок московского священника"»).
Пасхальная победа. Иисус и Гораций
Митрополит Антоний (Блум) заметил как-то, что именно наше отношение к смерти может помочь нам понять, христиане мы или нет. Прежде всего в силу того, что Христос воистину «смертию смерть попрал», не символически, а действительно победил смерть и сделал нас, христиан, участниками этой победы. Всё остальное в Его миссии подчинено именно этому, а поэтому апостол Павел, не очень точно цитируя пророчество Исайи, воскликнул: «Поглощена смерть победою» (1 Кор 15: 54, сравн. Ис 25: 8). Мы, зная эти слова, не догадываемся, как правило, насколько глубоко раскрыта в них суть того, что произошло в ночь, когда Иисус воскрес из мертвых.
Смерть поглощена. Субъектом при глаголе «поглощать» может быть только одно слово – вода. Именно она, «река времен», используя известные слова Державина, «уносит все дела людей» и топит их «в пропасти забвенья», то есть в конце концов поглощает всё. Как в античной мифологии (вспомним реки подземного мира – Лету, Ахерон, Коцит, Флегетон и Стикс), так и в Ветхом Завете вода символизирует царство смерти. Уход из жизни уподобляется у греков переправе через подземные воды на лодке Харона, в Библии – человек, умирая, как бы тонет в этих водах. Как в седьмой главе книги Бытие говорится о потопе, случившемся «во дни Ноя… до того дня, как вошел Ной в ковчег… пока не пришел потоп и не истребил всех» (см. также Мф 24: 37–39), так и в других ветхозаветных текстах вода – это почти всегда знак смерти. В псалмах там, где речь идет о воде, на самом деле говорится о смерти, а погружение в воду во время крещения, согласно апостолу Павлу, означает, что мы умираем вместе с Христом и вместе с Ним подвергаемся погребению, чтобы, соединившись с Ним подобием Его смерти, быть вместе с Ним и подобием воскресения (Рим 6: 3–5). Что происходит, когда смерть поглощается победою? Она (смерть!) умирает сама. С ней случается именно то, во что прежде она ввергала всех без разбора людей. Нам в XX веке не совсем понятно, что хочет сказать апостол, когда радостно возвещает о том, что смерть умерла, однако для его адресатов это было ясно. Понятно это было и Иоанну Дамаскину, который в 7-й песне канона Святой Пасхи передал эту формулу апостола Павла другими словами, но абсолютно точно: «Смерти празднуем умерщвление». В чем же тут дело?
Как раз в те годы, когда проповедует, а затем умирает на кресте Иисус, по миру распространяются стихи Квинта Горация Флакка (умер в 8 году до н. э.). Лейтмотив поэзии Горация – страх перед смертью и способы его преодоления. От книги к книге, из оды в оду в разных, действительно, прекрасных с любой точки зрения и в высшей степени изящных стихах (жаль, что теперь Горация не читают!), поэт варьирует одну и ту же мысль: кто бы ты ни был, бедный поселянин или потомок древних царей, всё равно ты умрешь, всем придется сесть в лодку и вблизи увидеть темные воды Стикса, всем суждено плыть по этой волне, каждого из нас ждет этот час, Плутон неумолим, и никакими жертвоприношениями его нельзя склонить к тому, чтобы он тебя пощадил. Твой достойнейший, восклицает поэт с бесконечно грустной иронией, наследник доберется до твоего добра и будет расплескивать по каменному полу вина, хранившиеся у тебя за ста замками. Рано или поздно, но умрет каждый. Вот, в общем, и всё – ни о чем другом Гораций не может даже думать. Луга одеваются травами, на деревьях появляются листья, а с гор уже сбежали снега (отсюда плещеевское «Уж тает снег, бегут ручьи»), нимфы и грации уже водят свои хороводы, а мы всё ближе к тем местам, где теперь древние римские цари, ибо мы пыль и тень. Всё, что накопил ты в течение жизни, попадет в жадные руки наследника, когда ты попадешь на суд к Миносу, где тебе не помогут ни красноречие, ни благочестие, ни знатность рода. Страх перед смертью – вот, кажется, главное чувство, которое владеет и поэтом, и его читателями. Причем Гораций далеко не первый, а скорее, наоборот, один из последних по времени авторов, греческих и латинских, кто говорит о страхе перед смертью.
В течение целой исторической эпохи, начиная с IV века до н. э. весь, по сути, античный мир как пожаром был охвачен этим страхом. Философы (Эпикур и вся его школа и стоики, одним из последних в ряду которых был живший уже во II веке по Р.Х. Марк Аврелий) мучительно искали средства от этого страха, фармацевты с печалью сообщали, что нет среди целебных трав лекарства от смерти, а поэты приглашали забыться, хотя бы на минуту, сбежать от страха перед смертью в мир, где льется рекою вино, где радуют обоняние запахи разнообразных кушаний, услаждают слух своей чудной игрой флейтистки, арфистки и проч., в общем, жить по принципу: «ешь, пей, веселись» (Лк 12: 19) или «будем есть и пить, ибо завтра умрем» (Ис 22: 13; 1 Кор 15: 32). Забыться, идя по этому пути, довольно просто, но действие такого наркотика быстро кончается. К нему приходится обращаться снова, причем каждый раз увеличивая дозу, а затем снова тоска, и снова уныние, а в результате остается лишь один выход – самоубийство. Гораций, как человек по-настоящему тонкий и глубоко чувствующий, как бьется у нас сердце, а к тому же во многом очень похожий на интеллигентов нашего XX столетия, предлагает еще одно средство от этого страха – погружение в мир художественных образов, уход в искусство и в созерцание прекрасного, но и это не помогает.
Страх перед смертью и отвращение к жизни, как потом скажет блаженный Августин, – вот два чувства, которыми живут почти без исключения люди в последние века истории античного мира. Мир этот уже почти парализован. В это самое время начинает свою проповедь Иисус. Начинается новая эра. Он умирает, а мы, присутствуя в лице Иоанна Богослова у Его креста и видя Его кончину, исцеляемся от страха перед смертью.
Греки боялись смерти не всегда. Геродот (V век до н. э.) в своей «Истории» рассказывает про афинянина Телла, которого один из семи мудрецов назвал самым счастливым из всех людей, ибо он «жил в цветущее время родного города, у него были прекрасные и благородные сыновья, и ему довелось увидеть, как у всех них также родились и остались в живых дети. К тому же ему была суждена славная кончина. Во время войны… он обратил врагов в бегство, а сам пал доблестной смертью. Афиняне же устроили ему погребение за государственный счет… оказав этим высокую честь». Спартанский поэт Тиртей еще раньше восклицал:
- Доля завидная – пасть в передних рядах ополченья,
- Родину-мать от врагов оберегая в бою.
Грек, живущий в полисе, до такой степени дорожил своим городом-государством, что считал его живым организмом, как Нестор в гомеровской «Илиаде», который сравнивает людей с листьями на ветвях могучего дуба, – одни листья падают, другие, наоборот, появляются, а дерево продолжает расти и становится только больше. Личная неповторимость и вообще личность грека, живущего в полисе, были как бы растворены в коллективе, в обществе, в массе, что всегда довольно типично для архаического мира. Именно потому гоготали над Еврипидом краснощекие афинские парни, как написал в одном из своих стихотворений Н. С. Гумилёв, а Сократ был вынужден выпить чашу с цикутой, что оба они не были похожи на остальных своих сограждан, выделялись из массы, были не такими, как все остальные.
О том, что у древнего грека не было своего «я», очень любил говорить А. Ф. Лосев, всегда подчеркивая, что в греческом языке не было даже слова для обозначения такого понятия, как «личность». А пока человек не выделил себя из массы и не противопоставил себя этой массе, он, действительно, не боится смерти, так как просто не знает, что это такое.
Но вот наступает IV век до н. э., и внуки, а может быть, и дети именно тех краснощеких афинских парней, что хохотали над Еврипидом, вдруг обнаруживают, что полис, их город-государство, который раньше, в сущности, обожествлялся и считался почти живым существом, – это не больше, чем территория, на которой стоят их дома и пасутся их овцы. У полиса больше нет своего «я»: оказывается, что людей, которые живут в одном городе друг рядом с другом, больше уже ничто не объединяет в одно единое целое, каждый просто живет своей собственной жизнью, не гордясь уже теперь тем, что он гражданин такого-то полиса и что его полис лучше всех других в Элладе. Человечество оказывается в пропасти индивидуализма, и каждый чувствует себя теперь потерянным в огромном мире, где нет никаких идеалов, кроме разве что денег. Наступает эпоха всеобщего разочарования, человек уходит в личную жизнь, он уже живет не ради блага родного полиса, как жил Телл из Афин, а ищет хоть какого-то личного счастья, и тут с ужасом обнаруживает, что смерть ничего общего не имеет с той воспетой в «Илиаде» сменой поколений в ряду граждан, которая некогда делала полис только моложе и сильнее.
Оказывается, что смерть – это мое (!) небытие. Мир вокруг меня остается, а я ухожу, бросаю дом, семью, деревья вокруг моего дома, которые я растил с такой любовью, причем уход этот, увы, неизбежен и неотвратим, – вот что такое смерть. Это то единственное событие, которое неминуемо будет иметь место в жизни каждого. Сделав это открытие, греческая, а затем и римская цивилизация погружаются в то состояние истерического страха, которое так тонко передал в своей поэзии Гораций. Закат античности приближается, и как раз в это время в Вифлееме рождается Иисус.
Когда читаешь жизнеописания мучеников II–III веков н. э., а вернее, протоколы их допросов и отчеты об их мученичестве, то поражаешься не мужеству, с которым они идут на смерть (оно, если хотите, кажется нам естественным, ибо за то и почитает мучеников Церковь, что они предпочли смерть со Христом жизни без Него), а тому ужасу, который охватывает осуждающих этих мучеников на смерть римских чиновников, когда те понимают, что эти подсудимые не боятся смерти. Вот что было более всего непонятно римлянам: как можно не бояться смерти. Часто из такого жизнеописания становится ясно, что вершащий суд чиновник – это совсем не злой, а скорее, наоборот, совестливый человек, которому совсем не хочется никого осуждать на смерть; он предпочел бы зафиксировать в протоколе, что подсудимый отрекся от своего суеверия, и отпустить его на все четыре стороны, но будущий мученик почему-то не боится смерти. Почему? Понять это несчастный судья не в силах, хотя он читал и Горация, и Вергилия, и Сенеку, и многих других писателей и ученых; откуда это отсутствие страха перед смертью – для него какая-то непостижимая тайна.
Нам эта тайна известна: ученики поверили в Иисуса, Который не открыл им какую-то истину, не передал им тайну противоядия против смерти, а открылся им Сам и передал им Самого Себя. В этом смысле Иисус выступает прямо-таки как антипод Сократа, который призывал своих учеников поменьше думать о нем и больше задумываться над истиной. Иисус, наоборот, зовет учеников не принять какую-то систему взглядов, а просто идти вслед за Ним. Поэтому христианство – это не доктрина, а наш реальный, живой и подлинный диалог со Христом, в христианстве ценна не теория, а именно опыт христиан.
Смерть помогает всё увидеть без прикрас и развенчивает всё фальшивое или хотя бы частично не подлинное. Умирая, перед лицом смерти человек перестает врать, играть роль и даже просто вести себя как надо или как того требует его положение, в присутствии смерти он делается таким, каков он на самом деле. Смерть настолько подлинна, что в ее присутствии никакая неподлинность невозможна. Можно играть, и зачастую удачно, любую роль, пока ты жив, но наедине со смертью ты непременно станешь самим собой. Поэтому научить какому-то приему, используя который, можно будет не бояться смерти, невозможно. Если христианин не боится смерти, то не в силу того, что таков принцип христианства, а просто по той причине, что Иисус дал нам ее не бояться.
Мы не боимся смерти, ибо знаем из опыта или, во всяком случае, чувствуем, что за ее порогом нас ждет жизнь вечная. Это действительно так. Более того, дерзаю утверждать, что не боимся ее не только мы, христиане, ее не боятся и те неверующие люди, которые живут в христианском окружении и находятся, быть может, сами того не сознавая, под влиянием Евангелия. О том, что такое страх перед смертью, мы знаем не из опыта, а в основном из книг, он нами просто не пережит, ибо свет Христов, как говорится во время литургии Преждеосвященных Даров, действительно, просвещает всех. Беда наша, причем очень серьезная, заключается, однако, в том, что в силу своей душевной черствости мы начинаем думать, что христианам, раз мы не боимся смерти, негоже горевать об усопших. В действительности же это не так. Metus mortis, или «страх перед смертью», – это не та боль, которую естественно испытывает всякий здоровый человек при разлуке с близкими (и это ужас, если он почему-то ее не испытывает!), metus mortis – это страх перед тем, что тебе самому в ближайшее время предстоит не быть, ужас перед тем небытием, которое ждет именно тебя.
В Москве при МГУ вот уже приблизительно пять лет с успехом функционирует Французский университетский коллеж. Профессора из Франции (среди них есть блестящие) приезжают на несколько дней в Россию и так, сменяя друг друга, в течение всего учебного года читают лекции московским студентам и вообще всем, кто изъявит желание эти лекции слушать. И вот недавно одна весьма образованная дама посетовала в разговоре со мной на то, что неоправданно большую роль в жизни коллежа, на ее взгляд, играет слово individu и, следовательно, тот крайний индивидуализм, который там проповедуется и, с ее точки зрения, является антиподом христианства. В действительности же именно то, что делает коллеж, подготавливает (хотя, уверен, что читающие в нем лекции профессора об этом не подозревают) человека к встрече с Иисусом.
Почему? По той простой причине, что только через крайний индивидуализм, как это было во времена проповеди Иисуса и Его непосредственных учеников, можно прийти к настоящему христианству. Чтобы стать христианином, необходимо сначала вырасти из коллективного сознания, вырваться из «мира», ибо тот мир, о котором говорит апостол, что он «во зле лежит», – это не мир в смысле monde (или world), а socit, то есть «общество», мир человеческих отношений, сложившихся без Бога, вне Бога и вопреки воле Божьей.
Только оказавшись в бездне индивидуализма, только на грани гибели человек, выросший как в греческом полисе, так и в СССР, может понять, что такое его «я». И в греческом полисе, и в условиях любого традиционного быта, а равно и при советской власти, в любой системе, где чувство собственного «я» размыто в коллективном сознании, человек действительно воспринимает себя самого как «колесико и винтик» (по удачному выражению Ленина, который стать таким колесиком требовал от каждого). При советской власти никто не чувствовал и просто не мог почувствовать себя ответственным за ситуацию вокруг себя, ибо понимал, что изменить эту ситуацию не может, а поэтому не осознавал себя личностью. В СССР многие из нас работали чуть ли не сутками, но при этом всё равно ни при каких условиях не могли заработать больше 140, к примеру, рублей, ибо работа по совместительству для многих была запрещена, – в этих условиях человек чувствовал себя обязанным работать, но не осознавал своей ответственности за благосостояние семьи просто по той причине, что прекрасно знал, что честным путем обеспечить это благосостояние невозможно, при этом он видел, что его семья живет плохо, но всё-таки от голода не погибает, и поэтому мирился с обстоятельствами. Никто не мог бросить работу, уехать на три месяца в горы или в тайгу, считая, что, вернувшись, найдет работу снова, ибо знал, что, во-первых, его тут же объявят тунеядцем, а во-вторых, у него образуется перерыв в стаже, с которым его не возьмут на работу, не будут платить стопроцентной зарплаты по больничному листу и потом (через двадцать пять лет!) не дадут той пенсии, что ему была бы положена. Естественно, в такой ситуации человек не чувствовал себя личностью и как бы забывал, что у него есть его «я», его уникальность и неповторимость. Однако при этом он (советский человек) чувствовал себя в этих условиях по-своему уютно, потому что уезжать в горы на три месяца, строго говоря, не так уж необходимо, а жить плохо (при том, что какая-никакая крыша над головой есть и minimum денег до зарплаты остается, а за квартиру платить необязательно, главное – заплатить за телефон, чтобы не выключили!), в общем, можно.
Но личностью почувствовать себя в такой ситуации нельзя. Для этого нужно было вырваться из системы. Вот в чем была трагедия советского общества. Человек не видел в самом себе своего «я» и поэтому не мог почувствовать Бога, но зато он почти не задумывался о смерти – она существовала как бы помимо его сознания.
Только осознав собственную уникальность, можно обнаружить и уникальность Бога; открыв свое «я», затем оказаться лицом к лицу с Его «Я». Только пройдя через джунгли отчаяния и почувствовав, что стоишь над бездной («Вся жизнь моя – стояние над бездной», – воскликнул как-то Юргис Балтрушайтис), можно почувствовать Бога и Его присутствие в этом мире. Вот почему Гораций, слабый, изнеженный, безнравственный и капризный индивидуалист, был гораздо ближе к Иисусу (разумеется, не в хронологическом смысле), чем честный, смелый и высоконравственный Телл из Афин. Последний чувствовал себя «колесиком и винтиком» родного полиса и не мыслил себя вне его. Бога встретить можно только в пустыне, а он уйти из полиса, оторваться от того тела и коллектива, в котором вырос, не мог, – для него богом был полис.
Другое дело Гораций, который в своем индивидуализме дошел до предела: тот мир, в котором он жил, был для него ничуть не меньше пустыней, чем место, где начал проповедь Предтеча. Как выразитель настроений людей своего времени, Гораций, как никто другой из людей того мира, откровенно рассказал, что делалось в сердцах тех, к кому пришел Иисус. Пришел, ибо приход Его был абсолютно необходим – человечество уже погибало.
В начале XX века новоевропейский интеллигент, оказавшийся, подобно Горацию и его современникам, в пропасти индивидуализма, именно там встретил Иисуса – так пришли в Церковь Н. А. Бердяев, отец Павел Флоренский, архиепископ Иоанн (Шаховской) и их современники. В их эпоху уже не Гораций, а другой поэт, Иннокентий Анненский, певец тоски и отчаяния, думаю, что не менее тонко, чем его римский предшественник, рассказал о тех муках, которые в безднах индивидуализма переживали его современники.
Сегодня история почти повторяется еще раз: мы вновь, как путники на дороге в Эммаус, встречаем Иисуса, и среди нас тоже есть поэт, подобный Горацию или Анненскому, прошедший именно по их дороге, такой же, как они, языческий Предтеча Иисусов – Иосиф Бродский. Не случайно он так любил Горация и во многом принадлежал к школе Анненского.
Христос лучше любого социума объединяет людей воедино, но на совсем другой основе: не вокруг принципа или идеи, а вокруг Себя. Но чтобы встреча наша с Ним по-настоящему состоялась, необходимо помнить, что Свою пасхальную победу над смертью и над всеми живущими в нас страхами Он разделяет лишь с теми, кто осознал, что такое смерть, с теми, кто пережил ужас одиночества и побывал в бездне индивидуализма. Тот же, кто живет в мире, похожем на Афины времен храброго Телла, в мире, где мое «я» растворено в коллективном «мы», увы, просто не заметит приближающегося к нему Иисуса и примет Его за случайного путника на дороге. Религия, которую он будет исповедовать, быть может, и покажется кому-то чисто внешне похожей на православие, но на самом деле это будет язычество в христианской оболочке, обычная племенная религия, возможно, добрых, но еще не повстречавших Христа людей.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4121 (11–17 апреля). С. 16–17.
Война глазами христианина
Служба пожарной охраны, отряды спасателей, которые ориентированы на работу во время землетрясений и других стихийных бедствий, аварийная служба по ремонту электросети, водопровода и даже канализации не просто нужны, а именно необходимы человечеству и будут нужны ему всегда, вне зависимости от политической ситуации. Другое дело – армия. Служба здесь несравненно более престижна, но нужна армия будет лишь до тех пор, пока не выработается механизм решения конфликтов между государствами мирным путем.
В начале 60-х годов, когда нелепый и смешной Н. С. Хрущёв заявил, что будущее планеты, по его мнению, связано со всеобщим и полным разоружением, его рассуждения на эту тему казались то ли маниловскими мечтаниями, то ли бесстыдным пропагандистским трюкачеством. Прошло тридцать пять лет, и вот теперь оказывается, что Хрущёв говорил хотя и в нелепой форме, но о том, что уже сегодня мало-помалу воплощается в реальность.
После конца Второй мировой войны других мировых войн уже не было (и, возможно, ыть не может!) – имели место карательные экспедиции США против Вьетнама, СССР – против Афганистана, России – против Чечни и т. д. В то же время все самые серьезные политические противоречия и конфликты решаются теперь мирным путем за столом переговоров. Ту роль, которая в прежние времена отводилась армии, теперь играют, и со значительно большим успехом, а главное, без крови, дипломаты. Международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Международный суд в Гааге и проч.) выработали с 40-х по 90-е годы механизм много более действенный, чем военный.
В результате армия в решении политических проблем между достойными друг друга по силе противниками больше не используется, но, увы, повсюду применяется в целях удержания в повиновении непокорных сателлитов (Афганистан и Чечня), при решении внутриполитических противоречий или в затяжных и бесперспективных конфликтах на развалинах рухнувших или разрушающихся империй. Одна ко и тут опыт показывает, что выход из этих тупиков можно найти только в ходе мирного урегулирования, причем при участии международных организаций, а иногда (для разведения дерущихся) при участии военных из какого-то иностранного государства.
Таким образом, армия, которая в прежние исторические эпохи защищала рубежи отечества или, в крайнем случае, добивалась успеха в отстаивании национальных интересов за его пределами, превратилась теперь, во-первых, в политическую полицию, а во-вторых, – в своего рода «мясорубку», в которой гибнут молодые жизни при том, что этим не достигается никаких положительных результатов. Если раньше при помощи насилия можно было чего-то добиться, то теперь насилие заводит только в тупик – это какая-то новая реальность, с которой нельзя не считаться.
Абсолютно ясно, что армия в этих условиях уже не может восприниматься как символ нации и предмет национальной гордости, как христолюбивое воинство, которое принято поминать во время богослужения. Она неминуемо становится объектом жесткой критики с самых разных сторон (со стороны общества, солдатских матерей, антивоенных организаций, политиков и т. д.). У нас, особенно в стенах Государственной Думы, такую критику обычно называют шельмованием армии, но на самом деле она неизбежна и естественна. Увы, в сегодняшней России ее голос слышен слишком слабо.
Если войны былых времен непременно кончались победой одной и поражением другой стороны, то в сегодняшних войнах ни побед, ни поражений не бывает. В тех войнах, что ведутся теперь, возможен только момент, когда вдруг всем оказывается ясно, что война завела стороны в тупик, выход из которого может быть найден только после прекращения огня и разведения воюющих сторон. Победы возможны теперь только дипломатические.






