Исчезающая ложка, или Удивительные истории из жизни периодической таблицы Менделеева Кин Сэм
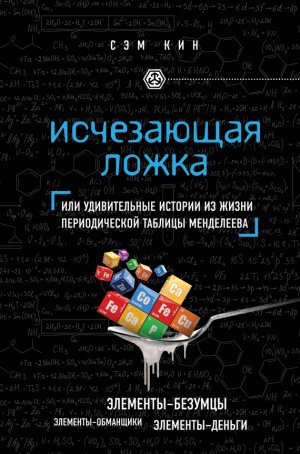
Sam Kean
The Disappearing Spoon: And Other True Tales of Madness, Love, and the History of the World from the Periodic Table of the Elements
© 2010 by Sam Kean The Disappearing Spoon: And Other True Tales of Madness, Love, and the History of the World from the Periodic Table of the Elements
© Бавин С.П., перевод на русский язык, 2019
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2024
Введение
В детстве (было это в начале 1980-х) я любил болтать с полным ртом – там могли быть еда, инструменты дантиста, пузырьки, что угодно. Даже если никого рядом не было, я все равно разговаривал – сам с собой. С этого увлечения и начался мой интерес к периодической системе элементов. Мне часто доводилось лежать в одиночестве с градусником под языком. Во втором и третьем классах я болел ангиной не меньше десяти раз, мне было больно глотать. В такие дни я оставался дома и без всякого смущения лечился ванильным мороженым и шоколадной подливкой. Кроме того, во время постельного режима у меня всегда был лишний шанс разбить старенький ртутный градусник.
Бывало, я держал его под языком и вдруг громко отвечал на воображаемый вопрос. Градусник выскальзывал у меня изо рта и разбивался о деревянный пол, капельки ртути начинали кататься по доскам, как шарики из крошечных подшипников. В мгновение ока прибегала мама и, несмотря на свой артрит, быстро нагибалась и начинала сгонять шарики в кучу, как барашков. Она ловко орудовала зубочисткой как маленькой клюшкой, собирая капельки так близко, что они почти касались друг друга. Вдруг после очередного толчка одна капелька поглощала другую. Получался один ровный шарик, подрагивавший там, где только что было два. Мама повторяла этот фокус снова и снова, по всему полу, пока вся жидкость не сливалась в одну серебристую лужицу.
После того как вся ртуть была собрана, мама брала пустую пластмассовую баночку из-под таблеток (этот пузырек с зеленой этикеткой всегда стоял у нас на кухне, на полке для безделушек, между голубой керамической кружкой – памятью о семейной встрече в 1985 году – и плюшевым мишкой с удочкой). Мама загоняла шарик на конверт, а потом до капли сливала содержимое последнего погибшего градусника к покоившейся в сосуде ртути – блестящий шарик в бутылочке уже достиг размеров ореха-пекана.
Иногда, прежде чем поставить пузырек на место, мама наливала ртуть в колпачок и давала нам с братьями полюбоваться, как в нем катается волшебный металл, так легко рассыпающийся и сливающийся воедино. Я искренне сочувствовал тем детям, чьи матери настолько боялись ртути, что даже не давали им есть тунца[1]. Средневековые алхимики, несмотря на свою жажду золота, считали ртуть самым могучим и романтическим веществом во Вселенной. В детстве я их очень хорошо понимал. Я даже готов был вслед за ними поверить, что ртуть не вписывается в прозаические природные категории – она одновременно является твердым телом и жидкостью, металлом и водой, частичкой рая и ада; что в ней живут потусторонние духи.
Позже я узнал, что ртуть имеет такие свойства именно потому, что является химическим элементом. В отличие от воды (H2O) или углекислого газа (CO 2) и абсолютного большинства тех веществ, с которыми нам приходится сталкиваться в жизни, ее нельзя разложить на более простые составляющие. На самом деле ртуть – один из самых высокомерных элементов. Ее атомы предпочитают дружить только с другими атомами ртути, сводя к минимуму контакты с окружающим миром. Поэтому ртуть и собирается в шарики. Большинство жидкостей, которые мне доводилось разливать в детстве, вели себя иначе. Вода разливалась повсюду, ровно то же происходило с растительным маслом, уксусом и растаявшим желе. Ртуть никогда не оставляла пятен. Родители всегда заставляли меня носить тапки после того, как случалось разбить градусник – чтобы мельчайшие осколки стекла не вонзились мне в ноги. Но не помню, чтобы меня пугали разлитой ртутью.
Долгое время я интересовался 80-м элементом в школе, искал упоминания о нем в книгах, как другие следят, не написали ли об их знакомом в газетах. Я вырос на Великих равнинах. На уроках истории нам рассказывали, как Льюис и Кларк[2] прошли через Южную Дакоту и остальную территорию Французской Луизианы, захватив с собой микроскоп, компасы, секстанты, три ртутных термометра и другие инструменты. Но тогда я не знал, что они взяли с собой еще и шестьсот ртутных слабительных пилюль, каждая вчетверо больше всем знакомой таблетки аспирина. Это лекарство называлось «Желчными пилюлями доктора Раша» – по имени Бенджамина Раша, одного из участников подписания Декларации независимости США и врача-героя, отважно работавшего в Филадельфии во время эпидемии желтой лихорадки, разразившейся в 1793 году. Его любимым лекарством от всех болезней была кашица из хлорида ртути, принимаемая перорально. Несмотря на весь прогресс медицины в период с 1400 по 1800 год, врачи все еще оставались скорее знахарями, чем медиками. Руководствуясь своеобразной симпатической магией (магией подобия), лекари предполагали, что прекрасная и заманчивая ртуть может исцелять страждущих, проводя их через жестокий кризис – яд уничтожает яд. Доктор Раш потчевал пациентов своим раствором, пока они не начинали исходить слюной; через недели и месяцы такого лечения у людей часто выпадали волосы и зубы. Несомненно, снадобье мистера Раша травило или просто убивало тех, кого пощадила желтая лихорадка. Тем не менее, поднаторев в таком лечении в Филадельфии, Раш снабдил этим лекарством Льюиса и Кларка. Ртутные пилюли обладали побочным слабительным эффектом, благодаря которому современные археологи могут с легкостью находить те места, где разбивали лагеря эти первопроходцы. Учитывая, какой дрянной пищей и грязной водой им приходилось довольствоваться в пути, все участники отряда то и дело имели проблемы с желудком. Во многих местах на пути экспедиции образовались небольшие скопления ртути – вероятно, как раз там, где исследователи устраивали отхожие места. Пожалуй, иногда лекарство доктора Раша срабатывало слишком уж хорошо.
Ртуть оказалась и в кабинете естествознания. Впервые увидев кавардак элементов в периодической таблице, я не нашел там ртуть. Но она там есть – между плотным и мягким золотом и таллием, тоже, кстати, ядовитым. Символ ртути – Hg – состоит из двух букв, которых, казалось бы, и близко нет в ее названии. Все дело в том, что эти буквы – из латинского названия hydrargyrum, которое переводится как «вода-серебро». Этот факт помог мне понять, как очень древние языки и мифология повлияли на формирование периодической системы. Некоторые следы мифологии вы можете заметить и в названиях самых новых, сверхтяжелых элементов, расположенных в нижнем ряду таблицы.
Для ртути нашлось место и в кабинете литературы. Когда-то шляпники использовали ярко-оранжевый ртутный раствор для отделения меха от шкуры[3]. И эти мастера, вынужденные вдыхать пары ртути, постепенно начинали походить на Безумного Шляпника из «Алисы в Стране чудес», – теряя и волосы, и разум. Наконец, я осознал, насколько ядовита ртуть; наверное, именно из-за своей токсичности пилюли доктора Раша прочищали кишки так хорошо. Ведь организм пытается избавиться от любых ядов, в том числе от ртути. Но, как ни вредно глотать ртуть, ее пары еще токсичнее. Они истрепывают «проводки» нашей центральной нервной системы и прожигают дыры в мозгу[4], подобно прогрессирующей болезни Альцгеймера.
Впрочем, чем яснее я представлял себе опасность ртути, тем сильнее привлекала меня ее разрушительная красота. Помните «Тигра, светло горящего»[5] Уильяма Блейка? Шли годы, родители обновили кухню и убрали полку с кружкой и медвежонком, сложив все эти безделушки в картонную коробку. В один из последних визитов домой я докопался до бутылочки из-под таблеток и открыл ее. Покачивая пузырек, я ощущал, как в нем перекатывается тяжелая жидкость. Заглянув через край, я не мог оторвать глаз от маленьких капель, расплескавшихся по стенкам. Они просто лежали там, искрясь, как совершенные водяные шарики, которые можно встретить только в фантазиях. Все детство разлитая ртуть стойко ассоциировалась у меня с жаром. Но на этот раз, представляя, что кроется за ужасной симметрией этих крошечных сфер, я ощутил озноб.
Интересуясь этим элементом, я познакомился с его историей, этимологией, ролью в алхимии, литературе, криминалистике и психологии. Но я собрал и много других историй о химических элементах – особенно хорошо эта коллекция пополнялась в годы обучения в колледже. Там я занимался исследованиями, а также познакомился с несколькими любезными профессорами, которые охотно отвлекались от работы, чтобы немного поболтать о науке.
В колледже я выбрал физику в качестве профильного предмета, но постоянно мечтал поскорее вырваться из лаборатории и вновь взяться за перо. Я чувствовал себя жалким среди одноклассников, одаренных молодых ученых, которые обожали метод проб и ошибок, мне же это было не дано. Я застрял в Миннесоте на пять унылых лет и получил диплом с отличием по физике. Но, несмотря на то что я провел в лаборатории сотни часов, зазубрил тысячи уравнений, начертил десятки тысяч схем с блоками и наклонными съездами без учета трения, истинное образование я приобрел в беседах с профессорами. Они рассказали мне о Ганди и о Годзилле, и об ученом-евгенике, попытавшемся украсть Нобелевскую премию при помощи германия[6]. О том, как куски металлического натрия бросают в реку, где они взрываются и глушат рыбу. О людях, блаженно задыхающихся азотом в космических шаттлах. О бывшем профессоре из нашего кампуса, который экспериментировал со вставленным в его собственную грудь кардиостимулятором, питающимся от плутония. Профессор ускорял и замедлял аппарат, манипулируя огромными электромагнитными катушками.
Я накрепко зафиксировал в памяти все эти случаи. А недавно, вспомнив о ртути за завтраком, осознал, что почти со всеми элементами из периодической системы связана какая-нибудь смешная, или странная, или страшная история. В то же время таблица Менделеева – одно из величайших интеллектуальных достижений человеческого рода. Это одновременно и научный шедевр, и сборник рассказов. Я написал эту книгу, чтобы тщательно отобразить все ее слои – как рисунки на кальке в учебнике по анатомии. Все эти рисунки рассказывают об одном и том же, но делают «срезы» на разной глубине. В простейшем смысле периодическая система – это каталог всех веществ, встречающихся в нашей Вселенной. В таблице сто с небольшим элементов, обладающих яркими индивидуальностями. Из них состоит все, что мы видим и что нас окружает. Таблица построена так, что ученый-химик легко улавливает взаимосвязи между различными элементами и может объединить их в семейства. Если рассмотреть таблицу на более сложном уровне, то можно увидеть, что в ней закодирована информация о происхождении каждого атома, а также о том, в какие атомы он может превращаться, на какие элементы распадаться[7]. Эти атомы естественным образом объединяются в динамические системы, включая живые существа. Периодическая система позволяет прогнозировать, какие связи будет образовывать тот или иной атом. В таблице даже угадываются «коридоры» гнусных элементов, наносящих вред живым существам. А порой они бывают и смертельно ядовиты.
Наконец, периодическая система – это удивительное человеческое достижение, артефакт, отражающий чудесные, коварные и порочные грани человеческого существа. Таблица позволяет понять, как мы взаимодействуем с окружающим миром.
История нашего вида записана в виде компактного и красивого либретто. Все эти уровни заслуживают специального изучения, от простого к сложному. Сюжеты из периодической таблицы не только станут для вас увлекательным чтением, но и помогут понять такие вещи, о которых никогда не пишут в учебниках и лабораторных пособиях. Мы едим химические элементы и дышим ими; люди ставят на них и проигрывают огромные суммы; философы обращаются к элементам, задумываясь о значении науки. Элементы отравляют людей и порождают войны. Между водородом в левом верхнем углу и искусственно синтезированными эфемерными веществами, занимающими нижние ряды, вы найдете пузыри, бомбы, деньги, алхимию, политические игры, историю, яды, преступления и любовь. А также немного науки.
Часть I. Положение: столбец за столбцом, ряд за рядом
1. Прописка – это судьба
Услышав выражение «таблица Менделеева», большинство читателей вспомнят большую схему, которая висит в кабинете химии. Это асимметричное собрание рядов и столбцов, которые словно выглядывают из-за плеч учителя. Обычно таблица огромная, метра два в ширину. Она одновременно и подавляет вас, и кажется величественной, подчеркивая важность химии. Вы знакомитесь с ней уже в сентябре, и она остается незаменимой до самого конца мая. Кстати, это единственное наглядное пособие, которым можно пользоваться на экзамене – когда в вашем распоряжении нет ни конспектов, ни учебников. Разумеется, когда-то периодическая система могла вас и раздражать, не в последнюю очередь потому, что многим она нисколечко не помогает, хоть и висит у всех на виду, как гигантская и абсолютно легальная шпаргалка.
С одной стороны, периодическая система кажется организованной и безукоризненной – практически идеальный образец научной схемы. С другой – это такой паноптикум длинных чисел, аббревиатур и каких-то последовательностей, напоминающих компьютерные сообщения об ошибках ([Xe]6s24f15d1), что порой сложно обозревать таблицу без досады. И хотя она, несомненно, связана с другими науками, в частности с биологией и физикой, эта связь не всем понятна с первого взгляда. Вероятно, главным разочарованием для большинства учеников было то, что многие люди действительно понимали таблицу, знали, как она работает, запросто выуживали из нее разнообразные факты. Наверное, такое же раздражение одолевает дальтоников, на глазах у которых дети с нормальным зрением находят семерки и девятки в цветной головоломке. Речь о важной, но неочевидной информации, которая так никогда и не складывается в цельную картину. Многие вспоминают о таблице со смешанным чувством увлеченности, пристрастия, неполноценности и брезгливости.
Прежде чем познакомить класс с периодической системой, каждый учитель химии должен убрать из нее всю информацию и показать школьникам пустую сетку.
На что она похожа? На какой-то замок с неровными стенами – как будто королевские каменщики немного не достроили левую часть. С обеих сторон возвышаются высокие оборонительные бастионы. В таблице 18 зубчатых столбцов и семь горизонтальных рядов. Снизу примостилась полоса из двух дополнительных рядов. Стена замка сложена из «кирпичей», и в этом кроется первое неочевидное свойство таблицы – каждый «кирпичик» может стоять только на своем месте. Каждая клетка содержит один элемент, тип простого вещества. В настоящее время таблица состоит из 112 элементов, существование еще нескольких предстоит подтвердить[8]. Весь замок развалится, если неправильно поставить хотя бы один кирпичик. Это не преувеличение: если ученые придут к выводу, что какой-то элемент должен находиться в другой клетке или что два элемента можно поменять местами, вся стройная система разрушится.
Еще одна архитектурная особенность замка заключается в том, что в разных частях его стен сосредоточены разные материалы. Таким образом, все кирпичи состоят из разных веществ, и у каждого элемента – свои уникальные характеристики. 75 % элементов являются металлами, поэтому почти все они – сероватые холодные твердые вещества (по крайней мере, при обычной температуре). В нескольких столбцах в «восточной части» стены содержатся газы. Всего два элемента – ртуть и бром – при комнатной температуре являются жидкостями[9]. Между металлами и газами (если представить, что таблица Менделеева – это карта США, то этот регион окажется примерно на месте штата Кентукки) находятся несколько сложно классифицируемых элементов. Они имеют аморфную структуру, благодаря чему могут образовывать чрезвычайно активные кислоты – в миллиарды раз более сильные, чем те вещества, которые обычно хранятся на складе реагентов. Вообще, если бы каждый кирпичик состоял именно из того вещества, которое он обозначает, то химический замок был бы химерой с пристройками и флигелями из самых разных времен. Можно сказать, что таблица напоминает здание в стиле Даниэля Либескинда, в котором, казалось бы, несовместимые материалы сплетены в элегантное целое.
Таблица Менделеева напоминает замок с неровными стенами, с обеих сторон которого возвышаются высокие оборонительные бастионы.
Чертежи для стен нашего замка создавались так долго именно потому, что с координатами элемента в таблице связана практически вся интересная научная информация о нем. Прописка фактически определяет его судьбу. Теперь, когда вы примерно представляете, как построена система, я могу перейти к более дельной метафоре: предположим, что таблица – это карта. Чтобы поближе познакомить вас с ней, давайте начертим ее в направлении с востока на запад. По пути поговорим как о самых известных, так и о менее популярных элементах.
Начнем с 18-го столбца, крайнего справа. В нем расположены благородные (инертные) газы. «Благородный» – немного старомодное слово, которое ассоциируется скорее с этикой и психологией, чем с химией. Действительно, термин «благородные газы» зародился в колыбели западной философии – Древней Греции. Именно там жил Платон, впервые предложивший термин «элемент» (по-гречески – «стойхейя»), используя это слово как общее название для мельчайших частиц материи. Он опирался на идеи древнегреческих философов Левкиппа и Демокрита, впервые развивших концепцию атома. Платон покинул Афины около 400 года до н. э. – после того как ушел из жизни его наставник Сократ, оставаться в городе Платону было небезопасно. Затем он долгое время странствовал и писал философские труды. Разумеется, Платон не представлял, что такое «элемент» с химической точки зрения. Но если бы он об этом знал, ему, несомненно, больше всего понравились бы элементы с «восточного края» таблицы – особенно гелий.
Для осознания того, что же такое «химический элемент», ученым потребовалось около 2200 лет – поиск начался примерно в 400 году до н. э. в Древней Греции и завершился к 1800 году в Европе.
В своем диалоге «Пир», произведении о любви и страсти, Платон заявляет, что каждое существо стремится найти свою недостающую половинку. Если говорить о людях, то это стремление выражается в виде страстей и плотской любви, а также всех забот, с ними связанных. Кроме того, во всех своих диалогах Платон подчеркивал, что абстрактные и неизменные сущности по природе своей более благородны, чем те субстанции, которые перемешиваются друг с другом и взаимодействуют с грубой материей. Вероятно, именно поэтому он и обожал геометрию с ее идеальными окружностями и кубами, существующими только в нашем разуме. Применительно к нематематическим объектам Платон развил теорию «форм», в соответствии с которой все предметы являются «тенями» того или иного идеального типа. Например, все деревья – это несовершенные «модели» идеального дерева, к безупречной «древесности» коего они тяготеют. То же можно сказать о рыбах и «рыбости» и даже о чашах и «чашести». Платон верил, что эти идеальные формы – не чисто умозрительные конструкты, а действительно существуют в реальности, пусть они и парят где-то в «эмпиреях», недоступных для обыденного человеческого восприятия. Сложно представить степень его изумления, если бы он узнал, что через много веков ученые будут создавать идеальные формы из гелия.
В 1911 году голландский ученый Хейке Камерлинг-Оннес остужал ртуть в жидком гелии. И обнаружил, что при температуре ниже -293 °C эта система утрачивает электрическое сопротивление и становится идеальным проводником. На самом деле это поразительное явление – представьте, что вы замораживаете до такой температуры iPod и обнаруживаете, что батарея совершенно перестает разряжаться, независимо от того, с какой громкостью и как долго вы включаете на нем музыку. Чудо продолжается до тех пор, пока жидкий гелий поддерживает в микросхемах нужную температуру. Русско-канадская группа ученых в 1937 году сотворила с гелием еще более поразительную вещь. Оказалось, что при абсолютном нуле (-273 °C) гелий приобретает свойство сверхтекучести: становится жидкостью с нулевой вязкостью и нулевым гидравлическим сопротивлением, то есть идеально текучей жидкостью. Сверхтекучий гелий не подчиняется силе тяжести, течет вверх и перетекает через стены. На тот момент эти открытия были ошеломляющими. Ученые иногда хитрят и считают, что при таких процессах трением можно пренебречь, но делается это лишь для упрощения расчетов. Даже Платон не мог предположить, что кто-то когда-то обнаружит одну из его идеальных форм.
Кроме того, гелий – самый яркий пример «элементарного» вещества. Этот газ нельзя расщепить или как-либо изменить обычными химическими методами. Для осознания того, что же такое «химический элемент», ученым потребовалось около 2200 лет – поиск начался примерно в 400 году до н. э. в Древней Греции и завершился к 1800 году в Европе. Дело в том, что большинство элементов очень редко встречаются в чистом виде. Сложно было понять, что делает углерод углеродом, так как этот элемент встречается в виде тысяч соединений, каждое из которых обладает особенными свойствами. Сегодня мы знаем, что, например, углекислый газ – не элемент, так как каждая его молекула состоит из атомов углерода и кислорода. Но углерод и кислород являются элементами, так как их нельзя разложить на более простые составляющие, не разрушив атомы. Возвращаясь к теме диалога «Пир» и к теории Платона о страстной тяге к недостающей половинке, отметим, что практически все элементы «тяготеют» к атомам других элементов, с которыми они «стремятся» образовать соединения. Эти соединения «маскируют» истинную сущность элементов, даже самые чистые из которых, например молекулярный кислород (O2), содержащийся в воздухе, в природе чаще всего встречаются в соединениях. Но ученые могли бы гораздо раньше догадаться о том, что же такое «элемент», если бы обнаружили гелий, который не вступает в реакцию ни с одним другим веществом и всегда является чистым элементом[10].
Такие свойства гелия неслучайны. Во всех атомах содержатся отрицательно заряженные частицы, называемые электронами, которые расположены в разных «слоях», по-научному называемых энергетическими уровнями. Последние концентрически вложены друг в друга. На каждом уровне для заполнения и достижения равновесия требуется определенное количество электронов. На самом глубоком уровне может быть максимум два электрона. На большинстве других – до восьми. В атоме элемента содержится равное количество отрицательно заряженных электронов (на энергетических уровнях) и положительно заряженных протонов (в ядре). Таким образом, атом электрически нейтрален. Атомы могут свободно обмениваться электронами. Если атом приобретает лишние электроны или испытывает их нехватку, он становится ионом.
Важно понимать, что все атомы всегда – насколько это возможно – заполняют самые глубокие энергетические уровни собственными электронами, частично «оголяя» из-за этого внешний уровень. Затем они отдают свои внешние электроны, делятся ими или «крадут» недостающие, чтобы заполнить внешний энергетический уровень. Некоторые элементы обмениваются электронами очень «дипломатично», тогда как другие проявляют в этом крайнюю несдержанность. Половина химической науки заключена в следующей фразе: атомы, у которых есть пробелы во внешнем энергетическом уровне, будут драться, обмениваться, клянчить, заключать союзы и разрывать их ради одной цели – собрать там полный комплект электронов.
Гелий – элемент № 2. У него есть два электрона, именно столько требуется ему для заполнения своего единственного энергетического уровня. Благодаря такой «закрытой» конфигурации гелий является поразительно независимым элементом. Ему не приходится взаимодействовать с другими атомами, делиться электронами или воровать их, он всегда целый. Можно сказать, что гелий гармоничен сам по себе. Более того, подобная конфигурация наблюдается во всем 18-м столбце под гелием – у газов неона, аргона, криптона, ксенона и радона. У всех этих элементов внешние оболочки «закрыты», на них красуется полный комплект электронов. Поэтому ни один благородный газ не вступает в реакцию с другими элементами при нормальных условиях. Вот почему, несмотря на исключительно упорные попытки на протяжении всего XIX века обнаружить и назвать эти элементы, 18-й столбец пустовал вплоть до 1895 года. Такая отрешенность от мирской суеты, роднящая благородные газы с идеальными окружностями и треугольниками, несомненно, очаровала бы Платона. Именно с очарованием можно сравнить чувства ученых, обнаруживших гелий и его собратьев на Земле, – неудивительно, что эти газы были названы «благородными». Можно выразить эту идею и на языке Платона: «Он, обожающий все совершенное и вечное и презирающий тленное и мирское, несомненно, предпочел бы благородные газы всем другим элементам. Ведь благородные газы никогда не изменяют себе, не колеблются, не потакают другим элементам – не то что плебеи, торгующие всякой всячиной на рынке. Эти газы непогрешимы и идеальны».
Но инертность, свойственная благородным газам, в мире элементов встречается редко. На один столбец влево от благородных газов находятся самые реактивные и энергичные вещества периодической таблицы – галогены. А если мы представим периодическую систему в виде глобуса (такую карту называют проекцией Меркатора), то запад и восток сомкнутся и рядом с инертными газами окажутся самые активные металлы с крайнего запада, из первого столбца таблицы. Они называются «щелочными». Уравновешенные благородные газы образуют своеобразную «демилитаризованную зону», а по обе стороны от них гнездятся нестабильные соседи.
В некоторых отношениях щелочные металлы напоминают обычные, но, в отличие от большинства металлов, они не ржавеют и не корродируют, а спонтанно взрываются в воздухе или воде. Щелочные металлы очень легко образуют соединения с галогенами. На внешнем энергетическом уровне в атомах всех галогенов содержится по семь электронов, то есть недостает всего одного электрона до полного октета. У щелочных металлов на внешнем энергетическом уровне всего один электрон, а под ним – полный октет[11]. Поэтому совершенно естественно, что щелочные металлы легко отдают свой единственный внешний электрон галогенам, а между образующимися в результате ионами – положительным и отрицательным – возникает сильная химическая связь.
Подобные связи образуются все время, а электроны являются важнейшими компонентами атома. Они занимают почти все его пространство, вращаясь, подобно облакам, вокруг компактного центра атома – ядра. Такое неравномерное распределение элементарных частиц сохраняется даже несмотря на то, что частицы ядра – протоны и нейтроны – гораздо массивнее электронов. Если увеличить атом до размеров стадиона, то его ядро можно будет сравнить с теннисным мячом на 50-ярдовой отметке[12]. Электроны стали бы похожи на булавочные головки, молниеносно проносящиеся вокруг ядра. Но они летали бы так быстро и врезались в вас настолько часто, что вы просто не смогли бы попасть на стадион: облака электронов преградили бы вам путь, как непроницаемая стена. Таким образом, при столкновении двух атомов их ядра не соприкасаются; происходит лишь обмен электронами[13].
Маленькая оговорка: не стоит буквально понимать модель, в которой маленькие электроны на огромной скорости проносятся вокруг плотного ядра. Точнее, электроны не похожи на маленькие планеты, вращающиеся вокруг огромного ядра (Солнца). Аналогия с планетарной системой хороша, но, как и любой аналогией, не увлекайтесь ею. Многие известные ученые убедились в ее неверности на собственном горьком опыте.
Ионные связи объясняют, почему между галогенами и щелочными металлами легко образуются химические соединения – например, хлорид натрия (поваренная соль). Не менее активно связываются и атомы элементов, у которых есть два лишних электрона (например, кальций) и которым недостает двух электронов (кислород). Для них это простейший способ «удовлетворить взаимные нужды». Соединения между элементами, не относящимися к «взаимно противоположным» столбцам, образуются по схожим принципам. Два иона натрия (Na+) соединяются с одним ионом кислорода (O2), образуя оксид натрия (Na2O). В соответствии с этими же законами образуется хлорид кальция (CaCl2). Можно довольно точно угадать, какую формулу будет иметь соединение двух элементов, если проверить номера столбцов, из которых они взяты, и узнать их заряды. Эти принципы отлично сочетаются с двусторонней симметрией таблицы.
К сожалению, не все в периодической системе так просто и гладко. Для некоторых элементов характерен такой нонконформизм, что о них стоит поговорить отдельно.
Есть один старый анекдот о лаборанте, который ни свет ни заря врывается в кабинет к профессору, страшно воодушевленный, несмотря на то что целую ночь провел за работой. Он держит в руке закупоренную колбу с пузырящейся зеленой жидкостью и восклицает: «Я открыл универсальный растворитель!» Профессор многозначительно смотрит на склянку и спрашивает: «А что это за универсальный растворитель?» Лаборант с жаром произносит: «Это кислота, разлагающая любые вещества!» Профессор еще мгновение осмысливает эту поразительную новость – ведь универсальный растворитель не только станет научным чудом, он еще и озолотит обоих химиков, – а потом спрашивает: «А как вам удалось принести его в стеклянном сосуде?»
Замечательная концовка: так и представляю себе ехидно ухмыляющегося Гилберта Льюиса[14]. Электроны – это движущая сила периодической системы, и именно Льюис проделал огромную работу, пролившую свет на то, как они взаимодействуют и образуют межатомные связи. Работы Льюиса, связанные с природой электронов, особенно много значили для изучения кислот и оснований, поэтому он по достоинству оценил бы абсурдное заявление лаборанта. Возможно, соль этого анекдота напомнила бы ему, как недолговечна может быть научная слава.
Один из самых замечательных фактов из жизни Гилберта Льюиса заключается в том, что он, вероятно, был величайшим из ученых, так и не получивших Нобелевскую премию.
Льюис вырос в Небраске, в зрелости ему довелось немало попутешествовать. Он учился в колледже и университете в Массачусетсе, потом продолжил образование в Германии – под руководством Вальтера Нернста. Обучение у Нернста оказалось таким тяжким – как по объективным, так и по субъективным причинам, – что Льюис выдержал в Германии всего несколько месяцев, а потом вернулся в Массачусетс и поступил на академическую работу. Эта деятельность ему также не пришлась по душе, поэтому вскоре он отправился на Филиппины, незадолго до того перешедшие под контроль США, и стал работать на американское правительство. С собой он захватил всего одну книгу – «Теоретическую химию» Нернста. На Филиппинах Льюис годами выискивал у Нернста самые мелкие ошибки и с настоящей одержимостью публиковал статьи с их опровержениями[15].
Через какое-то время Льюис истосковался по дому и перебрался в Калифорнийский университет в городе Беркли. Там он 40 лет проработал на химическом факультете, превратив его в лучший в мире. Подобная фраза напоминает счастливый конец истории, но до этого еще далеко. Один из самых замечательных фактов из жизни Льюиса заключается в том, что он, вероятно, был величайшим из ученых, так и не получивших Нобелевскую премию. Никто не номинировался на нее чаще, но неприкрытые амбиции и бесконечные дискуссии, которые Льюис вел по всему миру, лишили его шансов на достаточное количество голосов. Вскоре он начал отказываться от престижных должностей, выражая так свой протест (а возможно – и по принуждению) и превратился в глубокого научного отшельника.
Нобелевская премия не досталась Льюису не только из-за межличностных конфликтов, но и потому, что его исследования были обширными, но не слишком глубокими. Он не открыл ни одной удивительной вещи, такой, узнав о которой вы скажете: «Ух ты!» Нет, он провел всю жизнь за уточнением того, как электроны из атомов взаимодействуют в различных средах. Особенно интересовали Льюиса два типа молекул – кислоты и основания. Любые взаимодействия атомов, при которых они обмениваются электронами, называются химическими реакциями. В результате могут образовываться или распадаться соединения. Кислотно-основные реакции представляют собой яркие и зачастую бурные примеры такого межатомного обмена. Работа Льюиса с кислотами и основаниями значила для науки не больше, чем любые другие исследования, связанные с изучением электронного обмена на субмикроскопическом уровне.
Примерно до 1890 года ученые пробовали кислоты и основания на вкус – языком или окунув в жидкость палец.
Разумеется, это не самый безопасный метод, который, к тому же, не особенно точен. За несколько десятилетий удалось установить, что кислоты, в сущности, являются донорами протонов. Многие кислоты содержат водород. Это простейший элемент, в ядре которого присутствует всего один протон, а вокруг него вращается единственный электрон (вот такое маленькое ядро у водорода). При смешивании с водой кислота (возьмем, к примеру, соляную – HCl) расщепляется на ионы Н+ и Cl-. Когда водород теряет единственный электрон, его ядро превращается в «голый» протон H+. Слабые кислоты, например уксусная, отдают в раствор малое количество протонов. Сильные же, в частности серная, высвобождают множество протонов.
Существует версия, что Моцарт умер от передозировки сурьмы, которую принимал как лекарство от сильного жара[16].
Льюис считал, что такое понимание кислоты является слишком ограниченным. Действительно, многие вещества проявляют кислотные свойства, но не содержат при этом водорода. Поэтому ученый взглянул на проблему под иным ракурсом: он обратил внимание не на водород, отдающий электрон, а на хлор, захватывающий эту частицу. Соответственно, Льюис представил кислоту не как донора протонов, а как акцептора электронов. Напротив, основания (к ним относятся такие вещества, как известь или щелок) по своим свойствам противоположны кислотам, и их можно считать донорами электронов. Эти определения не только более универсальны, но и основаны на свойствах электронов. Такая парадигма лучше сочетается с концепцией периодической таблицы, структура которой в значительной степени основана на электронных оболочках элементов.
Льюис сформулировал эту теорию еще в 1920-1930-х годах, но современные ученые продолжают развивать его идеи, создавая все более сильные кислоты. Сила кислоты определяется по pH-шкале. Чем меньше число pH, тем сильнее кислота. В 2005 году химик родом из Новой Зеландии (на самом деле группа химиков из университета Калифорнии, среди которых были и сотрудники Института катализа СО РАН из Новосибирска. – Прим. ред.) синтезировал карборановую кислоту, основным элементом которой является бор. Эта кислота имеет значение pH, равное -18. Для сравнения: вода имеет pH = 7, а соляная кислота в наших желудках – 1. Но, в соответствии с необычными правилами расчетов, действующими на шкале pH, снижение pH на одну единицу (например, с 4 до 3) соответствует увеличению силы кислоты в 10 раз. Таким образом, если сравнить желудочный сок с pH = 1 и карборановую кислоту с pH = -18, оказывается, что последняя сильнее в 10 миллиардов миллиардов раз. Примерно такое количество атомов потребуется, чтобы сделать из них нить от Земли до Луны.
Существуют еще более сильные кислоты, основным элементом которых является сурьма, – она может похвастаться, пожалуй, самой красочной историей среди всех элементов периодической системы[17]. Навуходоносор, вавилонский царь, при котором в VI веке до н. э. были выращены знаменитые висячие сады, приказал выкрасить стены своего дворца в желтый цвет, и для этого использовалась вредная сурьмяно-свинцовая смесь. Возможно, неслучайно его сын сошел с ума, стал спать на улице и есть траву, как бык. Примерно в ту же эпоху египтянки применяли другую форму сурьмы в качестве косметики – чтобы подводить глаза и одновременно приобретать колдовскую силу, позволявшую наводить сглаз на врагов. Средневековые монахи – не говоря уж об Исааке Ньютоне – крайне интересовались «сексуальными» свойствами сурьмы. Они считали, что этот полуметалл двулик и напоминает гермафродита. Сурьмяные пилюли также были известны в качестве слабительного. В отличие от современных лекарств, эти жесткие таблетки не растворялись в кишечнике. Пилюли считались такими драгоценными, что люди даже рылись в своих экскрементах, извлекали из них таблетки и использовали их повторно. В некоторых крепких семьях такое слабительное передавалось от отца к сыну. Вероятно, именно поэтому сурьмой, несмотря на ее токсичность, так интересовались медики. Возможно, Моцарт умер именно от передозировки сурьмы, которую принимал как лекарство от сильного жара.
Постепенно химики нашли ей лучшее применение. К 1970-м годам удалось выяснить, что способность сурьмы собирать вокруг себя элементы, активно захватывающие электроны, делает ее великолепным сырьем для синтеза специальных кислот. Результаты получились не менее ошеломляющими, чем сверхтекучесть гелия. При реакции пентафторида сурьмы SbF5 с плавиковой кислотой HF получается вещество, имеющее pH = -31. Эта суперкислота в 100 тысяч миллиардов миллиардов раз агрессивнее желудочного сока и прожигает стекло, проникая через него так же легко, как вода через бумагу. Эту кислоту нельзя собрать в колбу, так как она ее сразу проест, а потом сожжет вам руку. Сразу отвечу на вопрос профессора: эту кислоту можно переносить в специальных емкостях с тефлоновым покрытием.
В годы войны Льюис не занимался ничем важным и умер в одиночестве в своей лаборатории в 1946 году.
Но все-таки это соединение сурьмы не является сильнейшей кислотой в мире. Сами по себе фторид сурьмы SbF5 (акцептор электронов) и плавиковая HF (донор протонов) довольно активны. Но прежде чем они породят суперкислоту, требуется в определенном смысле «перемножить» их взаимодополняющие силы. Самой сильной «одиночной» кислотой является все-таки карборановая кислота – соединение бора (HCB11Cl11). На сегодня она остается и наиболее парадоксальной: это одновременно и самая сильная, и самая неагрессивная кислота в мире. Чтобы было понятнее, напомню: кислота распадается на положительно и отрицательно заряженные ионы. Карборановая расщепляется на H+ и сложную структуру из всех остальных атомов (CB11Cl11), напоминающую по форме клетку. Именно отрицательная часть (остаток) большинства кислот оказывает корродирующий и каустический эффект, в частности, разъедает кожу. Но остаток карборановой кислоты является одной из самых стабильных молекул, синтезированных человеком. Атомы бора делятся электронами столь щедро, что молекула ведет себя почти как гелий и не отрывает электроны от других атомов. Поэтому привычной кислотной агрессии не наблюдается.
Итак, для чего же нужна карборановая кислота, если не для растворения стеклянных колб и не для прожигания банковских сейфов? Во-первых, она позволяет резко повысить октановое число бензина, во-вторых, улучшает усвоение витаминов. Но гораздо важнее ее роль в химической «амортизации». Многие химические реакции, в которых участвуют протоны, идут небыстро и с потерями. Они протекают в несколько этапов, а протоны разлетаются по раствору в ничтожные доли секунды, так что экспериментаторы не могут отследить, что же именно происходит. Но поскольку карборановая кислота так стабильна и неагрессивна, она сначала наполняет раствор протонами, а потом «фиксирует» молекулы в важных промежуточных состояниях. Карборан удерживает промежуточные соединения, словно на мягкой и надежной подушке. Напротив, сурьмяные суперкислоты такую амортизацию практически не обеспечивают – они просто разрывают на куски молекулы, которые интересуют ученых. Льюис был бы рад узнать об этой и других прикладных задачах, в основе которых лежат его исследования электронов и кислот. Возможно, это скрасило бы последние мрачные годы его жизни. Хотя в годы Первой мировой войны он работал на правительство, а до 60 лет успел внести немалый вклад в химию, во время Второй мировой его не пригласили участвовать в Манхэттенском проекте[18]. Это сильно его уязвило, так как многие химики, которых он позвал в Беркли, сыграли важную роль в создании атомной бомбы и стали национальными героями. Льюис же в годы войны не занимался ничем важным, коротая время за воспоминаниями и написанием печального бульварного романа о судьбе солдата. Он умер в одиночестве в своей лаборатории в 1946 году.
По общепринятому мнению, Льюиса погубили сигары – он выкуривал их по паре десятков в день в течение 40 с лишним лет и скончался от сердечного приступа. Но в тот вечер, когда его не стало, сложно было не заметить стоявший в лаборатории запах горького миндаля – признак цианистого водорода. В ходе своих исследований Льюис работал с цианидами, возможно, он принял яд, предчувствуя остановку сердца. Опять же, несколькими часами ранее в свой последний день Льюис присутствовал на обеде – куда до этого идти отказывался – с более молодым, харизматичным химиком-соперником, который уже получил Нобелевскую премию и работал консультантом в Манхэттенском проекте. Некоторые коллеги подозревали, что увенчанный лаврами коллега мог сильно расстроить Льюиса. Если так, то химические знания последнего могли печальным образом прийтись кстати.
Кроме исключительно активных металлов на запад таблицы и галогенов и благородных газов на ее восток, на этой химической карте есть и «Великие равнины» – столбцы с 3-го по 12-й, в которых находятся переходные металлы. Честно говоря, химия переходных металлов чрезвычайно разнообразна, поэтому им сложно дать какую-либо общую характеристику. Достаточно сказать: с ними нужно быть осторожными. Вы увидите, что тяжелые атомы переходных металлов имеют больше возможностей для распределения своих электронов. Как и у других элементов, у них есть разные электронные уровни (первый, второй, третий и т. д., считая от ядра), причем чем выше уровень, тем больше энергии в нем заключено. И эти металлы также стремятся захватывать электроны у других атомов, чтобы их верхние уровни содержали полные комплекты по восемь электронов. Но у переходных металлов сложнее определить, какой же уровень является внешним.
Если двигаться по таблице слева направо, то количество электронов у каждого следующего элемента на один больше, чем у его «западного» соседа. Так, у натрия, 11-го элемента, как правило, 11 электронов, у магния – 12-го – 12 и так далее. По мере укрупнения атомов, электроны в них распределяются не только на различных электронных уровнях, но и на так называемых оболочках (подуровнях), имеющих разнообразные формы. Атомы по природе прозаичны и предсказуемы. Они заполняют и оболочки, и электронные уровни в одном и том же порядке – он прослеживается во всей таблице. Элементы, находящиеся на левом ее краю, размещают первый электрон на s-оболочке, она сферическая. Эта оболочка маленькая, на ней умещаются всего два электрона – так образуются два сравнительно высоких столбца слева. Уложив эти электроны, атом ищет более вместительное хранилище. Элементы в правой части таблицы начинают упаковывать электроны один за другим на p-оболочку – по форме она немного напоминает человеческое легкое[19]. Здесь умещается шесть электронов, поэтому в правой части таблицы мы видим шесть высоких столбцов. Обратите внимание: во всех верхних рядах два электрона s-оболочки суммируются с шестью электронами p-оболочки, всего получается восемь. Именно столько электронов на верхнем уровне требуется большинству атомов для полного комплекта. И, если не считать самодостаточных благородных газов, все элементы предоставляют электроныс внешнего уровня для обмена при химических реакциях. Поведение этих элементов вполне логично: с добавлением нового электрона атом может предложить больше электронов для участия в реакциях.
Теперь переходим к сложной части. Переходные металлы занимают с 3-го по 12-й столбцы в рядах с четвертого по седьмой. Они размещают электроны на d-оболочках, на каждой из которых умещается по 10 электронов. По форме d-орбитали больше всего напоминают несуразных зверюшек, свернутых из воздушных шариков. Мы уже знаем, как элемент заполняет свои электронные оболочки, поэтому можем предположить, что переходные металлы будут выкладывать все дополнительные электроны с d-оболочек на внешний энергетический уровень и использовать их для участия в реакциях. Но нет! Переходные металлы запасают свои дополнительные электроны и прячут их под другими энергетическими уровнями. Это «решение» нарушить общепринятые нормы и упрятать свои d-электроны кажется некрасивым и нелогичным – Платону это не понравилось бы. Но так устроена природа, ничего с этим не поделаешь.
Ядро работает по законам, описанным самым парадоксальным нобелевским лауреатом в истории – Марией Гепперт.
Впрочем, как бы ни был сложен этот процесс, у него есть смысл. В принципе, если мы движемся по таблице горизонтально, с добавлением нового электрона к каждому переходному металлу свойства элемента должны немного меняться. Но, поскольку электроны с d-оболочек спрятаны глубоко в недрах атома, как в выдвижных ящиках с двойным дном, они словно скрыты под броней. Другие атомы, пытающиеся реагировать с металлами, не могут получить доступ к этим электронам, и получается, что многие металлы в ряду выделяют для химических реакций практически одинаковое количество электронов. Поэтому они очень похожи друг на друга в химическом отношении. Вот почему с научной точки зрения многие металлы выглядят и ведут себя почти одинаково. Все они – серые и холодные, поскольку их внешние электроны не оставляют им выбора, а заставляют приспосабливаться к обстоятельствам. Разумеется, чтобы еще более запутать ситуацию, некоторые скрытые электроны иногда всплывают наверх и начинают участвовать в реакциях[20]. Этим объясняются небольшие различия между некоторыми металлами и сложность их химических реакций.
Элементы с f-оболочками также довольно беспорядочны. F-оболочка появляется в первом из двух рядов металлов, расположенных под основной частью таблицы, – это группа лантаноидов, также именуемых «редкоземельными элементами». Если считать по номерам от 57-го до 71-го, то все лантаноиды следовало бы расположить в шестом ряду. Но их принято выносить в отдельный нижний ряд (оставив на своем месте лишь лантан), чтобы таблица оставалась более компактной и менее громоздкой. Лантаноиды прячут новые электроны еще глубже, чем переходные металлы, – зачастую на два энергетических уровня ниже. Таким образом, они еще более схожи между собой, нежели переходные металлы, их едва можно отличить друг от друга. Движение вдоль этого ряда напоминает поездку из Небраски в Южную Дакоту – вы куда-то едете и даже не замечаете, что пересекаете границы штатов.
В природе практически невозможно найти образец чистого лантаноида, поскольку они всегда перемешаны друг с другом. Известен случай, когда один химик из Нью-Гемпшира попытался выделить тулий, элемент номер 69. Он начал работать с огромными емкостями, наполненными тулиевой рудой. Ученый многократно обрабатывал руду различными химическими реагентами и кипятил смесь, на каждом этапе работы очищая небольшое количество металла. Растворение длилось так долго, что поначалу удавалось выполнить всего один-два цикла очистки в день. Но он выполнил этот трудоемкий процесс пятнадцать тысяч раз вручную и добыл из сотен фунтов руды всего несколько унций достаточно чистого металла[21]. Но даже в этой толике присутствовали небольшие примеси других лантаноидов. Их электроны были скрыты так глубоко, что никакие химические реагенты не позволяли их связать.
Электронные взаимодействия – это основа периодической системы. Но, чтобы по-настоящему понимать элементы, нельзя игнорировать ту часть, которая составляет до 99 % атомной массы, – я говорю о ядре. И если электроны подчиняются законам, сформулированным величайшим ученым, так и не получившим Нобелевской премии, то ядро работает по законам, описанным самым парадоксальным нобелевским лауреатом в истории. Это была женщина, чей путь в науке складывался еще сложнее, чем у Льюиса.
Мария Гепперт родилась в Германии в 1906 году. Ее отец был профессором в шестом поколении, тем не менее Мария никак не могла убедить ученых мужей, что женщина тоже имеет право поступить в аспирантуру. Поэтому она училась то на одном курсе, то на другом, слушая лекции везде, где могла. Наконец она получила докторскую степень в Ганноверском университете, защитив диссертацию перед советом профессоров, у которых никогда не училась. Неудивительно, что без связей и рекомендаций ее и после защиты не брали на работу ни в один университет. Гепперт смогла попасть в науку лишь окольным путем, заручившись помощью своего мужа, Джозефа Майера. Тот был американским профессором химии, приглашенным в Германию. Вместе с ним Мария в 1930 году уехала в Балтимор и под новой фамилией Гепперт-Майер стала всюду следовать за мужем – на работу и на конференции. К сожалению, в годы Великой депрессии Майер несколько раз оказывался без работы, семья была вынуждена перебраться в Нью-Йорк, а затем в Чикаго.
В большинстве университетов снисходительно относились к привычке Гепперт-Майер присутствовать на ученых собраниях и беседовать о науке. Кто-то даже снизошел до того, что предложил ей работу, правда, неоплачиваемую. Темы для нее подбирались типично «женские» – например, исследование природы цвета. После окончания Великой депрессии сотни ученых собрались под эгидой Манхэттенского проекта – возможно, самого впечатляющего мероприятия по обмену научными идеями в истории человечества. Гепперт-Майер также получила приглашение к участию, но на периферии, в бесполезном побочном проекте, посвященном выделению урана при помощи фотохимических реакций. Несомненно, в глубине души она раздражалась из-за такого удела, но тяга Марии к науке была столь велика, что она согласилась работать и на этих условиях. После окончания Второй мировой войны в университете Чикаго к Гепперт-Майер наконец-то отнеслись серьезно и предложили должность профессора физики. Она получила собственный кабинет, но факультет так и не платил ей.
Тем не менее Гепперт-Майер, воодушевленная этим назначением, в 1948 году занялась исследованиями ядра – сердцевины и сущности атома. Количество протонов – находящихся в ядре положительно заряженных частиц – и определяет сущность атома. Иными словами, если атом теряет или приобретает протоны, он превращается в другой атом. Как правило, атомы не теряют нейтроны, но в атомах одного элемента может содержаться разное их количество. Такие разновидности атомов называются изотопами. Например, изотопы свинца-204 и свинца-206 имеют одинаковый атомный номер (82), но разное количество нейтронов (122 и 124 соответственно). Атомный номер совместно с количеством нейтронов определяет массу атома. Ученым потребовалось немало лет, чтобы полностью описать взаимосвязи между атомным номером и атомной массой; но после того, как это удалось, устройство периодической системы значительно прояснилось.
Разумеется, Гепперт-Майер знала об этом, но ее работа касалась иной тайны, которую не так легко осознать, обманчиво простой проблемы. Простейший элемент в природе – водород – является и самым распространенным. Второй элемент таблицы – гелий – занимает второе место в этой классификации. В эстетически совершенной Вселенной третью позицию должен был бы занимать третий элемент таблицы, литий, и так далее. Но наша Вселенная не столь аккуратна. Третьим по распространенности является восьмой элемент, кислород. Но почему? Ученые предполагали, что у него очень стабильное ядро, которое не дезинтегрируется (не распадается). Но такое объяснение лишь ставит перед нами следующий вопрос: почему у некоторых элементов – например, у кислорода – встречаются такие стабильные ядра?
У периодической системы есть своя грамматика, и если научишься читать между строк, то узнаешь множество новых историй.
В отличие от многих современников, Гепперт-Майер усмотрела в этом явлении параллель с невероятной стабильностью благородных газов. Она предположила, что протоны и нейтроны в ядре располагаются на оболочках, подобно электронам, находящимся вокруг ядра. Возможно, заполнение таких внутриядерных оболочек повышает стабильность ядра. С точки зрения неспециалиста, такая аналогия кажется разумной и красивой. Но Нобелевские премии не выдают за гипотезы, особенно выдвигаемые женщиной-профессором, работающей на общественных началах. Более того, эта идея возмутила физиков-ядерщиков, поскольку химические и ядерные реакции протекают независимо друг от друга. Нет никакой причины, по которой основательные домоседы, какими являются протоны и нейтроны, могли бы вести себя как крошечные своенравные электроны, легко покидающие родной атом в поисках лучшей жизни. Как правило, протоны и нейтроны этого не делают.
Но Гепперт-Майер следовала своей интуиции. Систематизировав ряд несвязанных экспериментов, она доказала, что у ядер действительно есть оболочки и что в природе образуются так называемые магические ядра. По сложным математическим причинам, среди магических ядер не прослеживается такая периодичность, как среди химических элементов; магическими являются атомы с номерами 2, 8, 20, 28, 50, 82. Благодаря исследованиям Гепперт-Майер, удалось показать, как в ядрах с этими номерами протоны и нейтроны самоупорядочиваются, образуя исключительно стабильные симметричные сферы. Следует отметить, что ядро кислорода является вдвойне магическим: этот элемент, обладающий восемью протонами и восемью нейтронами, невероятно стабилен, чем и объясняется его изобилие во Вселенной. Кроме того, эта модель легко объясняет непропорционально частую встречаемость некоторых других элементов – например, кальция (20). Неслучайно и то, что наше тело в значительной степени состоит из таких распространенных элементов.
Теория Гепперт-Майер напоминает о платоновской философии, согласно которой красивые фигуры являются наиболее совершенными. Предложенная ею модель магического ядра, имеющего форму шара, стала идеальной – по ней оцениваются все остальные ядра. Напротив, те элементы, которые находятся между магическими номерами, встречаются редко, поскольку их ядра деформированы и вытянуты. Ученым даже удалось обнаружить бедные нейтронами формы гольмия (67-й элемент), которые образуют деформированные неустойчивые ядра. Как вы уже догадываетесь по описанию модели Гепперт-Майер, ядра гольмия не слишком устойчивы. Но, в отличие от атомов с несбалансированными электронными оболочками, атомы с деформированными ядрами не могут ухватить нейтроны и протоны от других атомов, чтобы подправить свою форму. Поэтому такие атомы образуются с трудом, но даже когда это случается, они тут же распадаются.
Модель ядерных оболочек – это физический шедевр. Поэтому Гепперт-Майер, имевшая сомнительный статус в научном сообществе, наверняка с унынием узнала, что это открытие было повторно сделано физиками-мужчинами у нее на родине. Она могла полностью потерять надежду. Тем не менее открытие было сделано независимо и, когда немцы благородно признали важность работ своей соотечественницы и пригласили ее к сотрудничеству, карьера Марии пошла в гору. Она получила лестные отзывы, и в 1959 году они с мужем переехали – в последний раз – в Сан-Диего. Там Мария Гепперт-Майер наконец смогла заняться настоящей оплачиваемой работой в новом Калифорнийском университете. Тем не менее она до конца жизни так и не избавилась от клейма дилетанта. Когда в 1963 году Шведская академия объявила, что Гепперт-Майер получила высочайшую награду в своей профессии, газета Сан-Диего отметила этот великий день ее жизни унизительным заголовком «Мать из С. Д. получила Нобелевскую премию».
Но все относительно. Возможно, если бы газеты опубликовали статью под подобным заголовком о Гилберте Льюисе, он, вероятно, был бы польщен.
Просматривая периодическую систему ряд за рядом, мы немало узнаем об элементах. Но это лишь часть истории, причем даже не самая интересная. Элементы из одного столбца связаны гораздо теснее, чем соседи из одного ряда. На большинстве человеческих языков принято читать слева направо или справа налево, но таблицу Менделеева гораздо важнее уметь читать по вертикали, столбец за столбцом – кстати, так читаются некоторые формы японской письменности. Так нам открывается множество взаимосвязей между элементами, в том числе неожиданные примеры соперничества и антагонизма. У периодической системы есть своя грамматика, и если научишься читать между строк, то узнаешь множество новых историй.
2. Почти близнецы и паршивая овца: генеалогия элементов
Как-то раз Шекспир решил выдумать самое длинное слово в английском языке. И предложил Honorificabilitudinitatibus (хонорификабилитудинитатибус), которое может означать либо «преисполненный всяческих почестей», либо читаться как анаграмма, подсказывающая, что пьесы Шекспира написал не сам Бард, а Френсис Бэкон[22]. Но в этом слове всего 27 букв, и ему далеко до самого длинного в английском языке.
Разумеется, попытка найти самое длинное слово напоминает стремление удержаться на ногах под ударами волн. Вы быстро запутаетесь, ведь язык непрерывно развивается и постоянно меняет направление. Более того, он значительно отличается в разных контекстах. Слово Шекспира, произнесенное шутом в комедии «Бесплодные усилия любви», очевидно, происходит из латыни. Но мы, пожалуй, не должны учитывать такие заимствованные слова, даже если они и употребляются в английских фразах. Кроме того, если учитывать слова, которые просто обрастают множеством приставок и суффиксов (например, antidisestablishmentarianism, 28 букв, на русский язык переводится как «сопротивление отделению церкви от государства») или явную абракадабру (supercalifragilisticexpialidocious, 34 буквы)[23], то писатель сможет водить читателей за нос еще довольно долго, пока у него не онемеют руки.
Но если искать осмысленное слово, то самым длинным будет считаться то, которое было изобретено не с целью поставить рекорд по длине лексической единицы, а появилось в 1964 году в реферативном журнале Chemical Abstracts, служащем для химиков своеобразным справочником. Это слово обозначает важнейший белок, считающийся первым из открытых вирусов. Этот белок вируса табачной мозаики открыт в 1892 году и называется – набрали в грудь воздуха:
ацетилсерилтиросилсерилизолейцилтреонилсерилпролилсерилглютаминилфенилаланилвалифенилаланиллейцилсерилсеривалитриптофилаланиласпартилпролилизолейцилглютамиллейциллейциласпарагинилвалилцистейнилтреонилсерилсериллейцилглициласпарагинилглютаминилфенилаланилглютаминилтреонилглютаминилглютаминилаланиларгинилтреонилтреонилглютаминилвалилглютаминилглютаминилфенилаланилсерилглютаминилвалилтриптофиллизилпролифенилаланилпролилглютаминилсерилтреонилвалиларгинилфенилаланилпролиглициласпартилвалилтирозиллизилвалилтирозиларгинилтирозиласпарагинилаланилвалиллейциласпартилпролиллейцилизолейцилтреонилаланиллейциллейцилглицилтреонилфенилаланиласпартилтреониларгиниласпарагиниларгинилизолейцилизолейцилглютамилвалилглютамиласпарагинилглютаминилглютаминилсерилпролилтреонилтреонилаланилглютамилтреониллейциласпартилаланилтреониларгиниларгинилвалиласпартиласпартилаланилтреонилвалилаланилизолейциларгинилсерилаланиласпаргинилизолейциласпаргиниллейцилвалиласпарагинилглютамиллейцилвалиларгинилглицилтреонилглициллейцилтирозиласпарагинилглютаминиласпарагинилтреонилфенилаланилглютамилсерилметионилсерилглициллейцилвалилтриптофилтреонилсерилаланилпролилаланилсерин.
Эта анаконда по-английски записывается 1185 буквами[24], а по-русски – «всего» 1148-ю.
Теперь, когда большинство из вас просто пробежали глазами приведенное название, возможно, восприняв только «ацетил» и «серин», давайте еще раз взглянем на это слово. Распределение букв в нем оказывается довольно интересным. Буква «e», самая распространенная в английском языке, встречается 65 раз, буква «y» – наименее распространенная – целых 183 раза. Всего на одну букву, «l», приходится 22 % слова (255 раз). Причем буквы «y» и «l» разбросаны не как попало, а зачастую встречаются рядом друг с другом – они образуют 166 пар, расположенных с интервалом около семи букв. Все это неслучайно. Рассматриваемое нами длинное слово – это название белка, а белки построены на основе шестого, наиболее многофункционального элемента периодической системы – углерода[25].
Самое длинное название у вируса табачной мозаики, состоящее из 1148 букв.
В частности, атомы углерода образуют каркасы аминокислот, которые соединяются друг с другом как бусины, образуя белки. Белок вируса табачной мозаики состоит из 159 аминокислот. Поскольку биохимикам зачастую приходится подсчитывать множество аминокислот, они следуют простому лингвистическому принципу. Принято отсекать от названия аминокислоты суффикс «ин» – как в словах «серин» или «изолейцин» – и заменять на «ил», чтобы получался компонент «серил» или «изолейцил». Если расположить эти «илы» в правильном порядке, они точно описывают структуру белка. Мы с вами, не будучи лингвистами, легко понимаем значение составных слов. Так и биохимики в 1950-е и начале 1960-х годов давали молекулам официальные наименования вроде «ацетил… серин», чтобы можно было воссоздать формулу молекулы по ее названию. Это точная, хотя и сложная система. Тенденция к соединению корней и созданию составных слов исторически сложилась из-за того, что в развитии химии важнейшую роль сыграли немецкие ученые и немецкий язык, богатый сложными и длинными словами.
Но почему же аминокислоты связываются в первую очередь друг с другом? Дело в месте, которое углерод занимает в периодической системе. Для заполнения своего внешнего энергетического уровня атому углерода требуется восемь электронов – это универсальное правило называется «правилом октета». Напористость разных атомов и молекул в поиске пары у разных веществ отличается, и аминокислоты относятся к более или менее «цивилизованным» соединениям. На одном конце каждой молекулы аминокислоты находятся атомы кислорода, на другом – азота, а в середине – ствол длиной в два атома углерода. Кроме того, в аминокислотах содержится водород, а от главного ствола могут отходить разные веточки, в результате чего могут образоваться 20 разных молекул, но нас это пока не интересует. И углероду, и азоту, и кислороду требуется по восемь электронов для заполнения внешнего энергетического уровня, но одним элементам набрать такие комплекты легче, чем другим. У кислорода, элемента № 8, всего восемь электронов. Два из них находятся на нижнем энергетическом уровне, который заполняется в первую очередь. На внешнем уровне остается шесть – итак, до полного комплекта атому кислорода не хватает двух электронов. Найти их не так сложно, а агрессивный кислород может диктовать условия и обирать другие атомы. Но та же арифметика подсказывает, что бедный углерод, потратив два электрона на заполнение первой оболочки, остается всего при четырех электронах на втором уровне – и до октета ему недостает еще четырех. Сделать это не так просто, поэтому углерод не слишком привередлив при создании химических связей. Он готов соединяться практически с кем угодно.
Такая неприхотливость углерода – это огромное благо. В отличие от кислорода, ему приходится образовывать связи с другими атомами во всех возможных направлениях. На самом деле углерод может делиться своими электронами даже с четырьмя атомами одновременно. Таким образом, он способен образовывать длинные цепочки и даже объемные сети молекул. Поскольку углерод делится электронами, а не ворует их, углеродные связи получаются надежными и стабильными. Азоту также требуется создавать многочисленные связи для приобретения октета, но не в такой степени, как углероду. Белки, включая упомянутый выше белок табачной мозаики, используют эти простые правила. Атом углерода на конце одной аминокислоты делится электроном с атомом азота на конце другой аминокислоты. Образуются белки, в которых такие связи углерода и азота тянутся почти до бесконечности, как буквы в длинном-длинном слове.
Сегодня ученые способны «декодировать» гораздо более длинные молекулы, чем «ацетил… серин». В настоящее время рекорд принадлежит гигантскому белку, название которого, записанное полностью, насчитывало бы 189 819 букв. Но в 1960-е годы, когда в распоряжении ученых появились инструменты для быстрого определения последовательностей аминокислот, биохимики осознали, что вскоре им придется иметь дело с названиями соединений, каждое из которых занимает целую книгу (проверка их правописания была бы адской пыткой). Итак, было решено отказаться от неуклюжей немецкой системы и оперировать более краткими и удобными названиями, даже в научной литературе. Например, вышеупомянутая молекула с названием из 189 819 букв сегодня именуется милосердным словом «титин»[26]. Сомневаюсь, что какое-нибудь печатное слово окажется длиннее полного названия белка табачной мозаики или даже приблизится к нему.
Правда, никто не запрещает лексикографам время от времени просматривать биохимические статьи. Медицина всегда была богатым источником уморительно длинных слов. Оказывается, самое длинное нетехническое слово, содержащееся в Оксфордском словаре английского языка, связано с ближайшим «родственником» углерода – кремнием. Считается, что этот элемент, расположенный в таблице Менделеева под номером 14, в состоянии быть альтернативным источником иной, неуглеродной жизни, которая может существовать где-нибудь в других галактиках.
Вспомним, как выглядит генеалогическое древо. На его верхушке находятся родители, а ниже – дети, похожие на них. Подобным образом, углерод имеет больше общих черт с кремнием, расположенным непосредственно под ним, чем со своими соседями слева и справа – бором и азотом. Мы уже знаем, чем это объясняется. Углерод – элемент № 6, кремний – элемент № 14. Их разделяет промежуток в восемь клеток (еще один октет), и это неслучайно. У кремния два электрона заполняют первый энергетический уровень, еще восемь – второй. Остается четыре электрона, поэтому кремний претерпевает те же неудобства, что и углерод. Конечно, в такой ситуации кремний приобретает и некоторую химическую гибкость, подобно углероду. Поскольку именно это свойство углерода непосредственно связано с тем, что из него строится живая материя, заметное химическое сходство кремния с углеродом дало любителям научной фантастики богатую пищу для воображения. Возможно ли, что кремний является основой альтернативных – то есть чужеродных – форм жизни, которая существует по иным, внеземным законам? Но генеалогия не определяет судьбу, и дети никогда не бывают полными копиями своих родителей. Действительно, между углеродом и кремнием очень много общего, но это разные элементы, которые образуют несхожие соединения. И, к сожалению для всех читателей фантастических романов, кремний просто неспособен на то, на что способен углерод.
Забавно, но мы можем оценить, насколько ограничены возможности кремния по сравнению с углеродом, просто разобрав еще одно слово-рекордсмен. Это английское слово из Оксфордского словаря достигает удивительной длины по той же причине, что и упомянутое выше название белка табачной мозаики. Честно говоря, название белка – своего рода слово-формула, интересное в первую очередь своей новизной. Точно так же интересно бывает рассчитать значение числа «пи» до триллионного знака. А самое длинное нетехническое слово, присутствующее в Оксфордском словаре, – это pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, буквально переводимое как «воспаление легких, вызванное обильным вдыханием кварцевой вулканической пыли» и состоящее всего из 45 букв. Внимательные читатели могли заметить в этом слове компонент silico, означающий «кремний». Любители лингвистических курьезов между собой именуют это заболевание «p45», но с медицинской точки зрения неясно, можно ли считать этот недуг отдельной болезнью. Дело в том, что упомянутое слово обозначает лишь частный случай неизлечимого легочного заболевания пневмокониоз. Это слово (в английском языке его можно условно назвать «p16») означает болезнь, напоминающую пневмонию. Пневмокониоз относится к целому классу заболеваний, связанных с вдыханием асбестовой пыли. Он может развиваться и при вдыхании диоксида кремния, основного компонента песка и стекла. Строители, которым приходится целыми днями работать с пескоструями, а также рабочие сборочных линий, занятые в арматурно-изоляторном производстве, часто вдыхают наждачную пыль и заболевают кремниевой разновидностью пневмокониоза. Но поскольку диоксид кремния (SiO2) – самый распространенный минерал в земной коре, есть еще одна группа риска, подверженная пневмокониозу: люди, живущие поблизости от активных вулканов. Самые мощные вулканы превращают силикаты в тончайшую пыль и выбрасывают в воздух мегатонны такого вещества. Эта пыль постоянно проникает в легкие и накапливается в них.
Поскольку наши легкие все время имеют дело с диоксидом углерода (углекислым газом), организм с готовностью всасывает и диоксид кремния – очень похожее на углекислый газ вещество. Последствия этого могут быть фатальными. Возможно, именно из-за этого заболевания вымерли многие динозавры, когда около 65 миллионов лет назад с Землей столкнулся астероид или комета размером с мегаполис.
Зная все это, мы можем с легкостью разобрать по составу слово «p45» – со всеми его приставками и суффиксами. Легочное заболевание, развивающееся в результате вдыхания мельчайшей вулканической кремниевой пыли, которая попадает в легкие людей, в спешке спасающихся от извержения, пыхтя на бегу, называется «пневмония-обусловленная-микроскопическими-кусочками-вулканических-соединений-кремния». Но прежде, чем вы попытаетесь использовать это слово в разговоре, учтите, что многие борцы за чистоту языка его терпеть не могут. Кто-то придумал его, чтобы выиграть в 1935 году словесную викторину, и многие до сих пор насмешливо замечают, что это не лексема, а конкурсная придумка. Даже почтенные редакторы «Оксфордского словаря английского языка» нелестно характеризуют «p45», называя его «вздорным словом», которое лишь «предположительно имеет лексическое значение». Вся эта критика объясняется тем, что «p45» – просто расширенный вариант реального слова, переводящегося на русский язык как «пневмокониоз». «P45» создано на кончике пера, а не возникло в языке в ходе естественных лингвистических процессов.
Давайте подробнее познакомимся с кремнием и поговорим о том, насколько реалистичны гипотезы о существовании кремниевой жизни. Эта тема в научной фантастике не менее заезжена, чем лазерные пушки, но сама идея очень важна, так как расширяет наши «чисто углеродные» представления о живой материи. Энтузиасты этой гипотезы даже могут рассказать вам о некоторых вполне земных существах, жизнедеятельность которых серьезно зависит от кремния. Таковы, например, морскиеежи, чьи иглы содержат этот элемент, а также радиолярии (одноклеточные организмы), которые в ходе эволюции обзавелись настоящими кремниевыми доспехами. Успехи современной науки в области вычислительной техники и искусственного интеллекта также позволяют предположить, что на основе кремния можно создать не менее сложные «мозги», чем на базе углерода. Теоретически вполне возможно заменить все нейроны вашего мозга кремниевыми транзисторами.
Успехи современной науки в области вычислительной техники и искусственного интеллекта позволяют предположить, что на основе кремния можно создать не менее сложные «мозги», чем на базе углерода.
Но «p45» преподает нам урок практической химии, перечеркивающий многие надежды на встречу с кремниевой жизнью. Разумеется, «кремниевым существам» потребовалось бы каким-то образом поглощать соединения кремния и выводить их из организма – например, для восстановления поврежденных тканей. Ведь в обмене веществ у земных существ всегда принимает участие углерод. На Земле почти все создания, находящиеся у основания пищевой цепи (во многих отношениях это самые важные организмы), питаются газообразным диоксидом углерода. Кремний в природе также активно связывается с кислородом, образуя диоксид кремния SiO2. Но он совсем не похож на углекислый газ – это даже не газ, а твердый порошок (пусть и такой мелкий, как вулканическая пыль). При любой температуре он весьма неблагоприятен для живых организмов. Диоксид кремния переходит в газообразное состояние только при 2950 °C! Клеточное дыхание с участием твердых частиц попросту невозможно, поскольку они сцепляются друг с другом. Они не текут, отдельные молекулы таких веществ сложно захватить, а это очень важно для клеток. Даже самые примитивные формы кремниевой жизни – не сложнее ряски – едва могли бы дышать, а у более крупных форм со многими слоями клеток дела обстояли бы еще хуже. Не имея возможности газообмена с окружающей средой, растительные формы кремниевой жизни голодали бы, а животные задыхались бы от отходов собственной жизнедеятельности. Достаточно вспомнить, насколько губительна «p45» для наших легких, привыкших иметь дело с углекислым газом.
Смогли бы гипотетические кремниевые микроорганизмы всасывать кремний и избавляться от него какими-то иными способами? Возможно, но соединения кремния не растворяются в воде, а это самая распространенная жидкость во Вселенной. Таким образом, подобные существа были бы сразу лишены тех эволюционных преимуществ, которые нам дает кровь и другие жидкости, обеспечивающие циркуляцию питательных веществ и утилизацию отходов. Кремниевые формы жизни должны были бы выстраивать обмен веществ только на твердых соединениях, которые плохо смешиваются. Таким образом, сложно себе представить, как кремниевые существа могли бы делать что-либо.
Более того, поскольку в атоме кремния содержится больше электронов, чем в атоме углерода, он гораздо массивнее. Иногда это не проблема. Кремний вполне мог бы заменить углерод в марсианских аналогах жиров или белков. Но углерод также способен образовывать кольцевые молекулы, которые мы называем сахарами. Кольцо – это форма, для которой характерно значительное напряжение. Именно поэтому в кольцевых молекулах заключено много энергии. Кремниевые молекулы попросту недостаточно гибки, чтобы образовывать кольца. Существует и другая подобная проблема: атомы кремния не могут так тесно располагать свои электроны, чтобы из них создавались двойные связи, присутствующие практически во всех сложных биохимических соединениях. Если два атома совместно используют два электрона, то между ними возникает одинарная связь. Если электронов не два, а четыре, связь двойная. Соответственно, у кремниевой жизни было бы в сотни раз меньше возможностей для хранения химической энергии и синтеза гормонов. В общем, только радикальная биохимия допускает существование таких кремниевых форм жизни, которые способны расти, реагировать на раздражители, размножаться и нападать. Даже морские ежи и радиолярии используют кремний лишь в качестве опорного элемента, а не для дыхания или хранения энергии. Тот факт, что на Земле развилась именно углеродная жизнь, несмотря на то что кремния на нашей планете гораздо больше, чем углерода, по-видимому, все объясняет[27]. Я не рискну утверждать, что кремниевая биология принципиально невозможна. Но кремниевые твари должны были бы испражняться песком и жить на планете с постоянно извергающимися вулканами, ежесекундно выбрасывающими в атмосферу мельчайшую кремниевую пыль. В других условиях маловероятно, что 14-й элемент мог бы стать основой для жизни.
Правда, кремний обеспечил себе бессмертие, так и не породив жизни. Подобно вирусу – квазиживому существу, – кремний занял свою эволюционную нишу, паразитируя на другом элементе, расположенном в таблице прямо под ним.
В том столбце таблицы, где находятся углерод и кремний, можно заметить и другие интересные примеры генеалогии элементов. Под кремнием находится германий. Под германием мы неожиданно обнаруживаем олово. Спускаемся еще на период – под оловом располагается свинец. Итак, двигаясь прямо вниз по 14-му столбцу периодической системы, мы сначала встречаем углерод – основной элемент живых организмов, потом кремний и германий, на которых построена вся современная электроника. Далее идет олово – непримечательный серый металл, из которого делают баночки для кукурузы[28]. Замыкает эту последовательность свинец – элемент, более или менее губительный для всего живого. Каждый шаг, казалось бы, невелик, но наш путь демонстрирует, что небольшие изменения постепенно накапливаются, и разница между элементами становится огромной.
Еще один генеалогический урок заключается в том, что во многих семействах есть своя паршивая овца – кто-то, на кого остальная родня махнула рукой. В 14-м столбце таблицы Менделеева таков, несомненно, германий – элемент с совершенно незавидной судьбой. Кремний сегодня применяется в компьютерах, микросхемах, автомобилях и калькуляторах. Благодаря кремниевым полупроводникам люди долетели до Луны, благодаря кремнию функционирует интернет. Но если бы около 60 лет назад сложилась немного иная ситуация, в Северной Калифорнии сегодня раскинулась бы не Кремниевая, а Германиевая долина.
Современная полупроводниковая индустрия начала развиваться в 1945 году в корпорации Bell Labs в штате Нью-Джерси, всего в нескольких милях от места, где семьюдесятью годами ранее основал свою «фабрику изобретений» Томас Алва Эдисон. Уильям Шокли, инженер-электротехник и физик, попытался сконструировать небольшой кремниевый усилитель, чтобы заменить вакуумные трубки в мейнфреймовых компьютерах. Инженеры очень не любили такие трубки, поскольку эти длинные стеклянные сосуды, похожие на огромные лампочки, были неудобными, хрупкими и к тому же быстро перегревались. Тем не менее без вакуумных трубок было не обойтись, поскольку ни одно другое устройство не могло решать таких двойных задач. Вакуумные трубки одновременно и усиливали электронные сигналы, так что самые слабые из них не затухали, и служили для тока «воротами с односторонним движением» – электроны в них не могли пойти вспять по электрической цепи. Если когда-нибудь канализационные трубы у вас дома начинали пропускать стоки назад, вы вполне можете представить себе масштабы возможных проблем. Шокли решил поступитьс вакуумными трубками так же, как Эдисон в свое время со свечами. Инженер понимал, что решение связано с элементами-полупроводниками. Только они могли обеспечить нужный баланс, при котором в электрическую цепь попадало бы достаточно электронов для возникновения тока («проводник»), но не слишком много, чтобы процесс не становился неуправляемым («полу»). Правда, Шокли оказался замечательным новатором, но неважным инженером, и его «кремниевый усилитель» так ничего и не усилил. Тщетно промучившись над проблемой два года, он отдал эту задачу двум своим подчиненным, Джону Бардину и Уолтеру Браттейну.
Кремний обеспечил себе бессмертие, так и не породив жизни. Подобно вирусу, он занял свою эволюционную нишу, паразитируя на другом элементе, расположенном в таблице прямо под ним.
По замечанию одного биографа, Бардин и Браттейн «испытывали друг к другу такую любовь, какая только может быть между двумя лучшими друзьями. Казалось, они образовывали единый организм, в котором Бардин был мозгом, а Браттейн – руками»[29]. Этот альянс получился очень плодотворным, ведь Бардин, которого за глаза, наверное, называли «ботаником», был скорее теоретиком, чем практиком. И вот двое ученых вскоре пришли к выводу, что кремний слишком хрупок, чтобы собирать из него усилители, а также плохо поддается очистке. Кроме того, они знали о свойствах элемента германия, расположенного на один период ниже, прямо под кремнием. Поскольку германий имеет на один энергетический уровень больше, его электроны связаны слабее и лучше проводят электричество. На основе германия Бардин и Браттейн сконструировали первый в мире твердотельный (а не вакуумный) усилитель. Это произошло в декабре 1947 года. Они назвали свой прибор «транзистором».
Вероятно, новость поразила Шокли – правда, то Рождество он встречал в Париже и ему некогда было заявить, что он тоже приложил руку к этому изобретению (пусть и начал работать не с тем элементом). Шокли решил во что бы то ни стало отхватить свой кусок почестей за работу Бардина и Браттейна. Нет, он не был плохим человеком, но вел себя совершенно беззастенчиво, убедившись в верности своих догадок и будучи абсолютно уверенным, что заслужил славу «отца всех транзисторов». Подобную безапелляционность Шокли проявил и гораздо позже, уже на склоне лет, когда отверг всю физику твердого тела и занялся евгеникой – «наукой» о выведении совершенных людей. Он верил в касту «благословенной интеллигенции», подобную индийским жрецам-брахманам, и стал собирать средства на «банк спермы гениев»[30], а также выступать за стерилизацию бедняков и представителей различных меньшинств за денежное вознаграждение – так он предлагал предотвратить «снижение коллективного общечеловеческого интеллектуального уровня».
Спешно вернувшись из Парижа, Шокли стал без зазрения совести встревать в компанию изобретателей транзистора. В Bell Labs сохранились фотографии для прессы, на которых запечатлены трое ученых, как будто находящихся за работой. На таких снимках Шокли всегда стоит между Браттейном и Бардином, словно вклиниваясь в их живую связку и возложив свои руки на лабораторные приборы. Молодые сотрудники вынуждены выглядывать у него из-за спины, как будто они всего лишь скромные ассистенты. Эти фотографии и стали началом новой реальности, в которой научное сообщество признало изобретение транзисторов заслугой троих, а не двоих исследователей. Вскоре Шокли повел себя как мелочный князек в своей вотчине и вынудил Бардина, своего основного интеллектуального соперника, перейти на работу в другую лабораторию, не связанную с исследованиями полупроводников. Теперь именно Шокли мог разработать второе поколение германиевых транзисторов, более привлекательное с коммерческой точки зрения. Неудивительно, что Бардин вскоре покинул Bell Labs и перебрался на работу в Университет Иллинойса. Он был настолько уязвлен, что начисто забросил исследования полупроводников.
Германий также оказался невостребованным. К 1954 году транзисторные производства размножились, как грибы после дождя. Процессорные мощности компьютеров выросли на порядки, появились целые классы новых приборов – например, карманные радиоприемники. И на протяжении этого бума инженеры продолжали расточать комплименты кремнию. В частности, это было обусловлено тем, что германий оказался капризным элементом. Он, конечно, очень хорошо проводил электричество, но при этом сильно разогревался, и при высоких температурах германиевые транзисторы начинали барахлить. Существенное достоинство кремния заключалось и в том, что он является основным компонентом песка и поэтому в буквальном смысле «дешевле грязи».
Ученые по-прежнему верили в германий, но тратили огромное количество времени, придумывая применение кремнию.
Существенное достоинство кремния заключалось и в том, что он является основным компонентом песка и поэтому в буквальном смысле «дешевле грязи».
В том же 1954 году состоялось собрание, посвященное перспективам полупроводникового бизнеса. После очередного сложного доклада о том, что создание транзисторов на основе кремния представляется невозможным, встал какой-то дерзкий техасский инженер и заявил, что у него в кармане есть рабочий кремниевый транзистор, после чего поинтересовался, не желают ли коллеги посмотреть на прибор в действии. Этот новый Барнум[31] – а звали инженера Гордон Тил – вытащил германиевый записывающий проигрыватель, подключил его к внешним динамикам, а потом вскипятил масло и картинно погрузил прибор в бурлящую жидкость. Неудивительно, что аппарат мгновенно перегрелся и заглох. Выудив вареный проигрыватель, Тил извлек оттуда германиевый транзистор и заменил его своим, кремниевым. Потом он повторил фокус с маслом. Музыка как ни в чем ни бывало лилась из динамиков. В тот момент, когда толпа бизнесменов домчалась до платных наушников, установленных у задней стены конференц-зала, германий был забыт.
К счастью для Бардина, этот акт драмы имел счастливый, пусть и нескладный конец. Его работа с германиевыми полупроводниками была признана столь важной, что он, Браттейн и (эх!) Шокли в 1956 году были удостоены Нобелевской премии по физике. Бардин узнал эту новость однажды утром по радио (к тому времени, вероятно, это был приемник на кремниевых транзисторах), поджаривая яичницу на завтрак. Он так разволновался, что случайно опрокинул сковородку на пол. Знал бы он, что это не последний его «нобелевский прокол». За несколько дней до торжественной церемонии, которая, как известно, проводится в Швеции, он постирал свой белый галстук-бабочку и смокинг вместе с цветными вещами, так что они приобрели зеленый цвет (так мог сделать какой-нибудь из его студентов!). А в день церемонии они с Браттейном очень нервничали перед встречей с королем Швеции Карлом Густавом и наглотались хинина, чтобы успокоить желудки. Вероятно, лекарство не помогло, поскольку, когда Густав пожурил Бардина за то, что тот оставил своих сыновей в Гарварде (Джон опасался, что они могут провалить экзамен), а не взял их в Швецию с собой, тот прохладно отшутился: мол, обязательно исправит оплошность, когда приедет за Нобелевской премией в следующий раз.
Если не считать подобных промахов, церемония стала настоящим триумфом для полупроводников, хотя и очень кратким. Руководители Шведской академии наук, которая присуждает Нобелевские премии по химии и физике, в дальнейшем предпочитали вознаграждать исследования в области чистой науки, а не инженерии. Высокая честь, оказанная изобретателям транзисторов, была редким реверансом в адрес прикладной науки. Тем не менее уже в 1958 году в транзисторной индустрии разразился кризис. А поскольку Бардин уже не работал в этой области, дверь в нее оказалась открыта для нового героя.
Через эту дверь и прошел Джек Килби, хотя ему, наверное, пришлось при этом немного нагнуться – наш герой был высокого роста, примерно метр восемьдесят. Килби был типичный розовощекий канзасец и говорил медленно, как принято в тех краях. Он около 10 лет проработал в высокотехнологичном захолустье на заводе в городе Милуоки, пока не устроился на работу в компанию Texas Instruments. Килби имел диплом инженера-электротехника, но его первой задачей стало решение известной проблемы компьютерного оборудования, которая называется «тирания чисел». В принципе, дешевые кремниевые транзисторы работали хорошо, но для тонких компьютерных схем их требовалось великое множество. Таким образом, технологическим компаниям, включая Texas Instruments, приходилось держать целые ангары, в которых трудились низкооплачиваемые рабочие (в основном женщины). Эти труженицы и труженики целыми днями сутулились над микроскопами, ругались, исходили потом в защитных спецовках и паяли мелкие кремниевые детали. Такой процесс был не только дорогостоящим, но и неэффективным. В любой такой схеме обязательно попадались какие-то контакты, которые были повреждены при сборке или работали плохо. Но инженеры не могли сократить количество транзисторов – в этом и заключалась тирания чисел.
Килби прибыл на работу в Texas Instruments знойным июньским днем. Поскольку он был новичком, ему не полагался отпуск. И когда в июле тысячи сослуживцев отправились на обязательные каникулы, Джек остался практически в одиночестве. Несомненно, получив такую передышку и поработав в тишине, он убедился, что держать тысячи рабочих, клепающих транзисторные схемы, – это нонсенс. При почти полном отсутствии начальства, у Килби было достаточно свободного времени, чтобы развить идею нового устройства, которое он назвал «интегральной схемой». В обычных схемах приходилось собирать вручную не только транзисторы, но и другие детали. Углеродные резисторы и керамические конденсаторы также требовалось аккуратно сплетать медными проводками. Килби отказался от такой сборочной фазы, решив просто вырезать все детали – резисторы, транзисторы и конденсаторы – из цельного куска полупроводникового материала. Это была превосходная идея – представьте себе художественную и структурную разницу между высечением статуи из мраморной глыбы и постепенным тщательным ваянием каждого мускула, которые потом приходится связывать проволокой. Килби решил не полагаться на кремний, который мог оказаться не совсем чистым, и изготовил прототип своей схемы из германия.
Только один ученый – Дмитрий Иванович Менделеев – смог отследить и спрогнозировать схожие черты у элементов, навеки вписав свое имя в историю как автор периодической таблицы.
В итоге такие интегральные схемы действительно избавили инженеров от кропотливого ручного труда. Поскольку все элементы были вырезаны из одного и того же блока, ничего паять больше не требовалось. На самом деле вскоре такая пайка стала попросту невозможной, так как процесс вырезания интегральных схем оказалось легко автоматизировать. Стали появляться наборы микроскопических транзисторов – первые настоящие компьютерные чипы. Килби так и не получил заслуженного вознаграждения за свое достижение – один из протеже Шокли подал встречный патент, несколько более детальный, чем у Килби. Хотя он и опоздал на несколько месяцев, ему удалось отобрать права на изобретение. Но технологические энтузиасты по сей день воздают Килби должные почести инженера. В промышленной отрасли, где жизненный цикл изделия измеряется месяцами, микрочипы по-прежнему создаются тем же способом, принципиальные основы которого заложены более 50 лет назад. А в 2000 году Килби наконец-то получил Нобелевскую премию за изобретение интегральной схемы[32].
Грустно лишь то, что ничто не смогло восстановить репутацию германия. Первая германиевая схема, изготовленная Килби, сегодня хранится в Смитсоновском институте, но на реальном техническом рынке германий оказался не у дел: кремний гораздо дешевле и доступнее. Сэр Исаак Ньютон когда-то сказал, что своими успехами обязан тому, что стоял на плечах гигантов. Он имел в виду тех ученых, чьими достижениями воспользовался. Так и германий выполнил всю работу, чтобы кремний мог стать символом целой эпохи. Сам же германий остался рядовым и незаслуженно забытым обитателем периодической системы.
На самом деле такая судьба постигла не только его. Большинство элементов незаслуженно обойдены вниманием. Практически забыты даже имена многих ученых, открывших ряд элементов и заполнивших пустовавшие клетки. Но некоторые из элементов, в частности кремний, пользуются всемирной славой, которая не всегда оправданна. Когда ученые работали над первыми вариантами периодической таблицы, они уже замечали сходство между некоторыми элементами. Химические «триады», ярким примером которых является группа «углерод – кремний – германий», были первой подсказкой о существовании периодического закона. Но некоторые ученые оказались более восприимчивыми к деталям, чем коллеги, и смогли распознать неявные черты, объединяющие целые семейства элементов. В этом элементы напоминают нас с вами – ведь в некоторых семьях на протяжении многих поколений проявляется горбоносость или ямочки на щеках. Наконец один ученый – Дмитрий Иванович Менделеев – смог отследить и спрогнозировать такие схожие черты. Он навеки вписал свое имя в историю как автор периодической таблицы.
3. Галапагосы таблицы Менделеева
Можно сказать, что история периодической системы – это история многочисленных ученых, благодаря которым таблица приобрела современный вид.
Первый из героев этой главы носит одно из тех имен, которые из собственных стали нарицательными. Когда мы встречаем в исторических книгах упоминания о докторе Гильотене, Чарльзе Понци[33], Жюле Леотаре[34] или Этьене Силуэте[35], невольно улыбаемся оттого, что кто-то действительно носил такую фамилию. Мы поговорим об одном из создателей периодической системы, заслуживающих особых похвал, так как его знаменитая горелка позволила продемонстрировать больше студенческих фокусов, чем любой другой лабораторный прибор. Может показаться невероятным, что наш герой, немецкий химик Роберт Бунзен, на самом деле не изобретал «свою» горелку, а просто немного ее усовершенствовал и популяризовал в середине XIX века. Но даже без нее его жизнь оказалась полна всяких опасностей и катастроф.
В молодости Бунзен всерьез интересовался мышьяком. Хотя этот элемент № 33 был известен еще в античные времена (древнеримские отравители смазывали им инжир[36]), немногие законопослушные химики имели представление о нем. Все изменилось, когда Бунзен стал возиться с этим ядом в своих склянках. Сначала он работал с какодилатами[37] – соединениями на основе мышьяка. Название «какодилат» происходит от греческого слова со значением «зловонный». Бунзен признавался, что какодилаты смердели так ужасно, что даже вызывали у него галлюцинации, «мгновенно провоцировали дрожание рук и ног, приводили даже к головокружению и потере чувствительности». Язык «покрывался черным налетом». Вероятно, ради собственной безопасности Бунзен вскоре синтезировал вещество, по сей день считающееся наилучшим противоядием от мышьяка, – гидроксид железа. Это соединение, похожее на ржавчину, связывается с мышьяком, попавшим в кровь, и выводит его из организма. Тем не менее Бунзен не мог уберечься от всех опасностей. Из-за случайного взрыва химического стакана с мышьяком ученый лишился правого глаза и остался полуслепым на оставшиеся 60 лет жизни.
После этого случая Бунзен прекратил опыты с мышьяком и предался своей страсти к изучению естественных взрывов. Его привлекало все, что с шумом вырывалось из земли, и он посвятил несколько лет исследованию гейзеров и вулканов. Роберт самостоятельно собирал их пары и кипящие жидкости. Кроме того, Бунзен соорудил у себя в лаборатории модельгейзера Старый Служака и выяснил, как в гейзерах нагнетается давление и образуется фонтан. Роберт вновь занялся химией, поступив на работу в Гейдельбергский университет в 1850-х годах, и вскоре навечно вписал свое имя в историю науки, создав спектроскоп. Этот инструмент позволяет изучать состав вещества по спектру, который оно начинает излучать при нагревании. Каждый элемент периодической системы в этом случае дает узкие полосы в разных частях спектра. Например, атомы водорода всегда излучают красную, желто-зеленую, светло-голубую и синюю полосы. Если вы нагреете какое-то неизвестное вещество и спектроскоп покажет, что в его излучении есть именно такие спектральные линии, то можно быть уверенным, что здесь содержится водород. Это был фундаментальный прорыв в науке, первый способ проникнуть в суть экзотических соединений, не кипятя их и не разлагая в кислотах.
Бунзена привлекало все, что с шумом вырывалось из земли, и он посвятил несколько лет исследованию гейзеров и вулканов.
Собирая первый спектроскоп, Бунзен и его студент установили стеклянную призму внутри пустого ящика из-под сигар, чтобы исключить попадание света извне, а потом прикрепили сверху два окуляра от подзорных труб, чтобы заглядывать внутрь, как на диораме. Единственная серьезная проблема, с которой столкнулась спектроскопия на заре своей истории, – получить настолько горячий огонь, чтобы воспламенить анализируемые вещества. Поэтому Бунзен сконструировал еще одно устройство, за которое ему до сих пор благодарны все, кто хоть раз пытался расплавить пластмассовую линейку или пробовал поджечь карандаш. Роберт позаимствовал у местного техника примитивную газовую горелку и приделал к ней клапан, контролировавший поступление кислорода. Если вы припоминаете, как возились с горелкой Бунзена на уроках химии и нажимали кнопочку снизу – да, это тот самый клапан. В результате пламя горелки превратилось из неэффективного потрескивающего оранжевого огня в спокойный шипящий голубой язычок, который сегодня можно наблюдать на любой газовой плите.
Благодаря работе Бунзена, заполнение периодической таблицы стало быстро продвигаться. Сам Роберт скептически относился к идее классификации элементов по их спектрам, но других ученых такой подход не смущал, и спектроскоп почти сразу стали применять для идентификации новых элементов. Не менее важно и то, что спектроскопия помогла отсеять многие ошибочные сообщения об открытии новых элементов – оказалось, что в ранее неизвестных соединениях некоторые из них встречаются в необычных формах. Такой надежный способ определения состава веществ значительно способствовал пониманию строения материи на самом глубоком уровне. Тем не менее ученым требовалось не только находить новые элементы, но и упорядочивать их в виде стройной системы. И здесь мы должны отметить очередной значительный вклад Бунзена в развитие периодической системы: в 1850-е годы он сформировал в Гейдельберге целую научную школу, представители которой выполнили важную подготовительную работу, заложив основы периодического закона. Среди них был наш следующий герой, Дмитрий Иванович Менделеев, которого весь мир знает как создателя периодической системы элементов.
На самом деле Менделеев не создал свою таблицу с нуля, равно как и Бунзен – свою горелку. Было предпринято не менее шести попыток создать подобную матрицу, и все эти проекты строились на «химическом сходстве» различных элементов, замеченном еще раньше. Менделеев попытался понять, как можно объединить их все в сравнительно небольшие группы простых веществ со схожими свойствами, а потом вывел из этих опытов с периодизацией элементов научный закон. В этом он подобен Гомеру, собравшему из разрозненных греческих мифов эпос «Одиссея». Наука нуждается в своих героях не меньше, чем любая другая область деятельности, и Менделеев стал протагонистом в истории периодической системы элементов. На это есть несколько причин.
Менделеев попытался понять, как можно объединить все элементы в сравнительно небольшие группы простых веществ со схожими свойствами, а потом вывел из этих опытов с периодизацией элементов научный закон.
Начнем с того, что у него была интереснейшая биография. Менделеев родился в Сибири[38] и был в семье младшим из 14 детей. В 1847 году, когда будущему ученому исполнилось 13 лет, умер его отец. Овдовевшая мать, Мария Дмитриевна, решилась на героический по тем временам поступок и пошла работать на стекольную фабрику, где управляла рабочими-мужчинами. Это позволило ей прокормить большую семью. Но вскоре фабрика сгорела. Мать связывала большие надежды со смышленым младшим сыном, вместе с которым верхом на лошадях[39] отправилась в Москву, преодолев почти две тысячи километров по степям, перебравшись через заснеженные Уральские горы. Но в элитный Московский университет Дмитрия не приняли, так как сочли «не местным»[40]. Но Мария Дмитриевна не отчаивалась и отправилась с сыном еще дальше, в Санкт-Петербург, где учился когда-то отец Дмитрия Менделеева. На этот раз Дмитрию Ивановичу удалось поступить в университет. Его мать вскоре умерла, но еще успела увидеть приказ о зачислении сына.
Менделеев был превосходным студентом. После окончания университета он продолжил образование в Париже и Гейдельберге, где его научным руководителем некоторое время был прославленный Бунзен (между двумя химиками сложились непростые отношения – отчасти из-за неровного характера Менделеева, а также потому, что в лаборатории у Бунзена всегда было смрадно и шумно). В 1861 году Менделеев вернулся в Санкт-Петербург, где получил профессорскую кафедру, и в этот период начал задумываться о природе элементов. Его исследования привели к формулировке периодического закона в 1869 году.
Многие другие ученые также занимались проблемой классификации элементов. Некоторым даже почти удалось решить ее, пусть и не до конца, – при помощи тех же методов, что и Менделееву. В 1865 году английский химик Джон Ньюлендс, которому было около 30 лет, представил научному сообществу свой вариант таблицы. Но эту работу погубила тяга ученого к риторике. На тот момент благородные газы (от гелия до радона) были еще не известны, поэтому в верхних рядах периодической системы насчитывалось по семь элементов. Ньюлендс придумал причудливую метафору и сравнил семь столбцов периодической системы с нотами музыкальной гаммы – «до-ре-ми-фа-соль-ля-си». К сожалению, Лондонское химическое общество не оценило подобный изыск и высмеяло «музыкальную» химию Ньюлендса.
Более серьезным соперником Менделеева был Юлиус Лотар Мейер, немецкий химик с пышной белой бородой и аккуратно напомаженными черными волосами. Мейер также работал в Гейдельберге под руководством Бунзена и имел солидную профессиональную репутацию. В частности, Мейер открыл, что транспортировка кислорода в организме происходит благодаря связыванию этого газа с гемоглобином в красных тельцах крови. Мейер опубликовал свою таблицу практически одновременно с Менделеевым: двое ученых в 1882 году даже вместе получили престижную награду – медаль Дэви, которую можно считать предшественницей Нобелевской премии. Медаль была вручена с формулировкой «За открытие периодического закона». Это английская премия, но Ньюлендс стал ее обладателем лишь в 1887 году. Мейер продолжал заниматься важнейшей работой, лишь укреплявшей его репутацию – в частности, помог популяризовать ряд радикальных теорий, которые в итоге оказались верными. Менделеев же – невероятно! – даже отказывался верить в реальность атомов[41]. Позже он отрицал и существование некоторых других явлений и частиц – например, электронов и радиоактивности. Если бы в 1880 году мы соизмерили вклад Менделеева и Мейера в науку и задумались о том, кто из них является более крупным химиком-теоретиком, то, вполне возможно, выбрали бы Мейера. Итак, что же перед судом истории[42] отличает Менделеева от Мейера и четырех других конкурентов, предложивших свои варианты таблицы раньше него?
Менделеев очень быстро составил первый вариант таблицы, чтобы уложиться в сроки, поставленные типографией.
Во-первых, Менделеев в большей степени, чем кто-либо другой, понимал, что среди элементов могут периодически повторяться определенные, но не все, химические свойства. Он осознал, что такое соединение, как оксид ртути[43] (оранжевый порошок), не содержит в себе «газообразный кислород» и «жидкую металлическую ртуть», как полагали многие его современники. Это соединение состоит из двух элементов, один из которых в свободном состоянии представляет собой газ, а другой – жидкий металл. В соединении неизменным сохраняется лишь атомный вес каждого элемента, который Менделеев и считал определяющей чертой любого простого вещества – это вполне согласуется с современными представлениями.
Во-вторых, в отличие от других ученых, которые весьма по-дилетантски расставляли элементы по рядам и столбцам, Менделеев всю жизнь провел в химических лабораториях и очень, очень хорошо знал, каковы элементы на практике, как они плавятся, пахнут и реагируют. В особенности это касалось металлов, наиболее противоречивых элементов, которые было сложнее всего правильно систематизировать. Именно поэтому Менделеев смог уверенно классифицировать 62 элемента, известные на тот момент, по рядам и столбцам. Кроме того, он постоянно придирчиво пересматривал свою таблицу, даже записывал символы элементов на карточках и раскладывал в кабинете настоящий химический пасьянс. Важнее всего отметить, что и Менделеев, и Мейер оставили в своих системах пустые клетки, в которые не вписывались никакие из известных элементов. Но Менделеев, в отличие от щепетильного Мейера, набрался смелости и решился предсказать, что новые элементы еще предстоит открыть. «Ищите лучше, химики и геологи, – словно подсказывал он, – ищите, и найдете». Отслеживая черты известных элементов в каждом столбце, Менделеев даже смог предсказать плотность и атомный вес некоторых еще не открытых. Когда его прогнозы начали сбываться, это произвело гипнотический эффект. Более того, когда в 1890-х годах были открыты благородные газы, таблица Менделеева прошла важнейшее испытание: новые газы вписались в нее без проблем, достаточно было просто добавить еще один столбец. Кстати, сначала Менделеев не признавал существования инертных газов, но к моменту открытия всей этой группы его таблица уже была всеобщим достоянием.
Наконец, сыграл роль и неординарный характер Менделеева. Известно, что Федор Михайлович Достоевский, соотечественник и современник Менделеева, всего за три недели[44] написал роман «Игрок», чтобы погасить огромные карточные долги. Менделеев оказался в схожей ситуации: он очень быстро составил первый вариант таблицы, чтобы уложиться в сроки, поставленные типографией. Он уже подготовил первый том своей работы, 500-страничный фолиант, но успел описать всего восемь элементов. Все остальные следовало вместить в еще одну такую же книгу. Менделеев полтора месяца откладывал решение этой проблемы и в конце концов решил, что для максимально сжатого представления всех элементов можно объединить их в таблицу. Воодушевившись этой идеей, он забросил свой приработок на должности химического консультанта в местной сыроварне и полностью сосредоточился на создании таблицы. В печатном варианте книги Менделеев не просто предсказал, что под бором и кремнием должны располагаться два еще неизвестных элемента, но и предварительно назвал их. Его репутация нисколько не пострадала от того, что эти наименования получились таинственными и странными (в смутные времена люди стремятся найти пророков): экабор и экасилиций. Приставка «эка» в переводе с санскрита означает «один» – имелось в виду, что неизвестный еще элемент располагается в таблице на одну строчку ниже уже известного аналога.
Через несколько лет Менделеев, уже будучи известным ученым, развелся с женой и захотел жениться повторно. Строгие православные каноны не позволяли разведенному жениться ранее, чем через семь лет. Не желая ждать так долго, Менделеев решил подкупить священника и все-таки обвенчался с новой супругой. Юридически он стал двоеженцем, но власти не решались арестовать его. Когда один местный чиновник пожаловался царю на двойные стандарты, нечестный священник был расстрижен, но царь высокомерно ответил на жалобу так: «Это верно, у Менделеева две жены, но Менделеев-то у меня один!» Тем не менее терпение царя было не безграничным. В 1890 году ученого, увлекавшегося анархическими идеями, лишили академического поста за симпатии, которые он выказывал агрессивным левым студенческим группам.
Несложно понять, почему историков и других ученых так интересует биография Менделеева. Разумеется, никто сегодня не вспомнил бы историю его жизни, не создай он периодическую систему. Вообще, достижение Менделеева можно сравнить с работой Дарвина в биологии и Эйнштейна в физике. Никто из этих троих гениев не выполнил всю свою работу сам, от начала и до конца. Но их отличало умение увидеть далеко идущие следствия наблюдаемых явлений, а также способность подкрепить теоретические выкладки эмпирическими доказательствами. Подобно Дарвину, Менделеев нажил себе злопамятных врагов в научном сообществе. Давать названия элементам, которых ты никогда не видел, казалось неслыханной наглостью. Неудивительно, что это привело в бешенство одного из интеллектуальных наследников Бунзена – того человека, который открыл «экаалюминий» и по праву полагал, что именно он, а не неистовый русский заслужил честь назвать этот элемент.
Открытие экаалюминия, который сегодня известен под названием «галлий», заставляет задуматься о том, что же в действительности продвигает науку вперед: теории, формирующие наше представление о мире, либо эксперименты, простейший из которых способен разрушить самую элегантную теорию? Знаменитый экспериментатор (первооткрыватель галлия), повздоривший с Менделеевым, мог уверенно ответить на этот вопрос. Поль Эмиль Франсуа Лекок де Буабодран родился в семье виноделов во французском местечке Коньяк в 1838 году. Буабодран был симпатичным человеком с вьющимися волосами и пышными усами, любил носить щегольские галстуки. Возмужав, он переехал в Париж, научился работать с бунзеновским спектроскопом и вскоре стал лучшим в мире специалистом по работе с этим прибором.
Лекок де Буабодран достиг в спектроскопии такого мастерства, что в 1875 году, заметив в спектре минерала новые линии, он сразу же безошибочно заключил, что обнаружил ранее неизвестный элемент. Ученый назвал его галлием. Галлия – это латинское название Франции. Сторонники теорий заговора обвиняли Лекока де Буабодрана в том, что он хитро назвал элемент в честь себя, так как слово «лекок» в переводе с французского означает «петух», а латинское название петуха – gallus. Де Буабодран решил во что бы то ни стало подержать свою находку в руках, поэтому принялся тщательно выделять из минерала образец этого элемента. Потратив не один год, в 1878-м француз, наконец, получил чистый и красивый кусочек металла. При комнатной температуре галлий остается твердым, но уже при 29,8 °C плавится (как известно, нормальная температура человеческого тела – 36,6 °C). Поэтому прямо в руке галлий тает, превращаясь в зернистую густую кашицу, напоминающую ртуть. Это один из немногих жидких металлов, который можно потрогать, не сжигая палец до кости. Неудивительно, что галлий стал сплошь и рядом использоваться в профессиональных фокусах химиков. Эти шутки гораздо интереснее, чем номера с горелкой Бунзена. Поскольку галлий похож на алюминий, но очень легко плавится, химики порой любят подавать к чаю галлиевые ложечки и наблюдать за обескураженными гостями, на глазах у которых «Эрл Грей» разъедает столовые приборы[45].
Лекок де Буабодран опубликовал работу об этом причудливом металле в научных журналах, по праву гордясь своей находкой. Галлий был первым из элементов, открытых после 1869 года, когда Менделеев представил миру свою таблицу. Когда Менделеев прочитал о работе де Буабодрана, он попытался влезть на пьедестал француза и заявить, что галлий открыт на основе его, менделеевского, описания экаалюминия. Лекок де Буабодран сухо парировал, что это не так и всю работу он проделал сам. Менделеев продолжал протестовать, и двое ученых вступили в жаркую дискуссию на страницах научных журналов.
У них получился настоящий роман с продолжением, в котором авторы попеременно рассказывают свои главы. Вскоре спор перешел на повышенные тона. Лекок де Буабодран, раздраженный претензиями Менделеева, заявил, что задолго до россиянина периодическую таблицу разработал малоизвестный француз и что Менделеев просто присвоил идеи этого человека. Как известно, хуже подобного греха в науке считается лишь подтасовка данных. Кстати, Менделеев никогда не любил делиться славой. Мейер, напротив, уже в 1870 году ссылался в своих работах на таблицу Менделеева, в результате чего потомки даже стали полагать, что исследования Мейера в области периодического закона производны от менделеевских.
В свою очередь, Менделеев изучил результаты исследований де Буабодрана и безапелляционно заявил экспериментатору, что тот ошибся в расчетах, так как плотность и вес галлия отличаются от показателей, спрогнозированных для экаалюминия. Можно себе представить, сколько желчи было вложено в этот упрек, но, как замечает Эрик Скерри, историк и специалист по философии науки, «Менделеев всегда хотел подправить природу, чтобы она лучше вписывалась в его грандиозную таблицу». Следует отметить, что в этом случае Менделеев оказался прав: вскоре Лекок де Буабодран пересмотрел свои данные и опубликовал результаты, которые оказались гораздо ближе к прогнозу Менделеева. Скерри пишет: «Научное сообщество было ошеломлено тем, что Менделеев на кончике пера описал свойства нового элемента даже точнее, чем химик, который его открыл». Учитель литературы как-то рассказал мне, что сюжет становится великим – а история о создании периодической системы, безусловно, великая, – когда его кульминация оказывается «неожиданной, но совершенно закономерной». Полагаю, Менделеев, составивший гениальную схему своей таблицы, также был ею поражен. Но в то же время истинность таблицы необыкновенно убедительна, так как вся схема пронизана красивой и безусловной простотой. Неудивительно, что ощущение триумфа порой одурманивало ученого.
Если оставить в стороне персональные отношения, становится понятно, что здесь мы видим спор между теорией и экспериментом. Возможно ли, что теория настроила чутье де Буабодрана на нужный лад и помогла открыть новый элемент? Или же именно эксперимент бесспорно подтвердил свойства галлия, а теория Менделеева лишь удачно вписалась в реальность? Менделеев мог предсказать что угодно, но именно Буабодран обнаружил галлий, подтверждающий верность менделеевской таблицы. В свою очередь, французу пришлось пересмотреть расчеты и опубликовать новые данные, лучше соответствовавшие прогнозам Менделеева. Лекок де Буабодран утверждал, что никогда не видел таблицу Менделеева, но он мог слышать о ней от коллег, и подобные разговоры, ходившие в научном сообществе, стимулировали ученых внимательнее присматриваться к образцам – а нет ли там новых элементов? Великий Альберт Эйнштейн однажды отметил: «Теория определяет, что именно можно наблюдать».
В конце концов, мы, вероятно, не сможем определить, что – теория или эксперимент, голова или хвост науки – важнее для научного прогресса. Тем более, известно, что многие прогнозы Менделеева оказались ошибочными. На самом деле ему повезло, что Лекок де Буабодран, серьезный ученый, открыл экаалюминий. Если бы кто-то воспользовался одной из менделеевских ошибок – так, русский ученый считал, что существует много элементов легче водорода, и клялся, что в солнечной короне содержится уникальный элемент «короний», – то Менделеев вполне мог умереть в забвении. Но как мы прощаем античным астрологам их ложные и даже противоречащие друг другу гороскопы и помним о единственной комете, которую им удалось открыть, так и имя Менделеева связано для нас с триумфом. Более того, при упрощенном взгляде на историю легко переоценить вклад в науку, сделанный Менделеевым, Мейером и другими. Они, несомненно, проделали важную работу, соорудив каркас, на котором потомки смогли разместить все химические элементы. Но необходимо отметить, что в 1869 году было известно всего две трети элементов, и долгие годы многие из них находились не на своих местах даже в лучших таблицах.
Огромная работа отделяет современный учебник химии от менделеевского двухтомника. Особенно сложно было разобраться с пестрой компанией лантаноидов, расположенных в нижней части таблицы. Ряд лантаноидов начинается с лантана, 57-го элемента. Поиски подобающего места для них в периодической системе занимали химиков добрую часть XX века. Поскольку в глубине атомов лантаноидов скрыто множество электронов, эти металлы очень легко смешиваются друг с другом. Отделить одни лантаноиды от других не проще, чем распутать заросли плюща. Для их разделения практически бесполезна даже спектроскопия – ведь если ученый заметит в спектре десятки новых полос, он все равно не поймет, сколько именно элементов за ними скрывается. Даже Менделеев, не скупившийся на различные прогнозы, не решался что-либо утверждать о лантаноидах. К 1869 году было известно лишь несколько элементов тяжелее церия, второго по счету лантаноида. Но Менделеев – вместо того, чтобы отчеканить десяток новых «эка—» – признал свою беспомощность. После церия в таблице стали ряд за рядом расти пустые клетки. Позже, когда начали находиться новые лантаноиды, правильно расставить их было затруднительно, в том числе по той причине, что некоторые «новые» элементы оказывались просто смесями старых. Церий словно располагался на краю известной Менделееву ойкумены, как Гибралтар, который древние мореходы считали краем земли. Казалось, что после него ученых ждет какой-то водоворот или обрыв, через который океан выплескивается в никуда.
На самом деле Менделеев мог бы распутать все эти противоречия, если бы отправился всего на несколько сотен километров северо-западнее Петербурга, в Швецию. Именно там был открыт церий, и в этой же стране находилась неприметная шахта для добычи полевого шпата, расположенная поблизости от деревушки с забавным названием Иттербю.
Ранний (поперечный) вариант таблицы, составленный Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. После церия (Ce) видим огромный пробел, показывающий, как мало Менделеев и его современники знали о запутанной химии редкоземельных металлов.
В 1701 году дерзкий молодой человек по имени Иоганн Фридрих Беттгер, воодушевленный тем, как он сейчас одурачит целую толпу зевак безобидными фокусами, вытащил две серебряные монеты и приготовился к демонстрации волшебства. Он взмахнул руками, произвел над деньгами какие-то химические манипуляции – и вдруг серебро исчезло, а на его месте оказался цельный кусок золота. Это был самый убедительный алхимический опыт, который доводилось видеть местным жителям. Беттгер был уверен, что навсегда обеспечил себе прочную репутацию и, к сожалению, оказался совершенно прав.
Слухи о нем вскоре дошли до польского короля Августа Сильного, который схватил молодого алхимика и заточил его в замке, как Румпельштильцхена[46], чтобы тот прял золото для нужд королевства. Разумеется, Беттгер не мог выполнить такой приказ, и после немногих бесплодных экспериментов перед этим безобидным врунишкой, еще таким молодым, замаячила угроза виселицы. Отчаянно пытаясь спастись, Беттгер стал умолять короля о пощаде. Да, ему не удалось синтезировать золото, но он утверждал, что умеет делать фарфор.
В те времена подобное заявление казалось не менее бредовым, чем обещание сварить золото. С тех пор, как Марко Поло вернулся из Китая в конце XIII века, европейское дворянство было буквально одержимо белым китайским фарфором – таким прочным, что его не царапала пилочка для ногтей, но в то же время удивительно прозрачным, как яичная скорлупа. Об империях судили по роскошеству их сервизов, а о волшебной силе фарфора распространялись невероятные слухи. Так, считалось, что фарфоровая чашка обезвреживает любые яды. Еще рассказывали, что в Китае так много фарфора, что из него воздвигли девятиэтажную башню – просто из тщеславия. Кстати, такая башня действительно существовала[47]. Веками могущественные европейские семейства, например Медичи из Флоренции, выделяли средства на получение фарфора, но были вынуждены довольствоваться лишь жалкими имитациями.
К счастью для Беттгера, при дворе короля Августа нашелся умелый мастер, уже работавший с фарфором, – Эренфрид Вальтер фон Чирнхаус. Перед этим он брал пробы земли по всей Польше, пытаясь определить, где искать драгоценные металлы для короны. И сконструировал специальную печь, в которой достигалась температура до 1700 °C. В ней Чирнхаусу удавалось расплавлять фарфор и анализировать его. Король назначил смышленого Беттгера ассистентом Чирнхауса, и начались активные исследования. Двое химиков открыли, что таинственными компонентами китайского фарфора является белая глина, называемая каолином, и минерал полевой шпат, при высоких температурах сплавляющийся в стекло. Не менее важна и другая находка двоих мастеров: они выяснили, что, в отличие от многих других керамических материалов, фарфоровую глазурь и глину нужно варить одновременно, а не последовательно. Именно высокотемпературный сплав глазури и каолина придает фарфору его прозрачность и прочность. Усовершенствовав процесс, мастера с облегчением вернулись к королю и продемонстрировали, что у них получилось. Август изрядно их отблагодарил, мечтая, что фарфор немедленно сделает его самым влиятельным монархом в Европе. Разумеется, Беттгер рассчитывал, что после такого достижения ему будет дарована свобода. Но король, к сожалению, решил, что Иоганн – слишком ценный специалист, чтобы отпускать его, и даже усилил надзор над ним.
Секрет фарфора вскоре оказался разглашен, рецепт Беттгера и Чирнхауса распространился по всей Европе. В течение полувека европейские мастера, знавшие основы этого химического процесса, изготовляли и улучшали фарфор. Вскоре полевой шпат стали добывать повсюду в том числе в морозной Скандинавии. Там высоко ценились фарфоровые печи, поскольку они разогревались лучше и сохраняли тепло дольше, чем печи с металлическим дном. Для подпитки бурно развивающейся европейской промышленности копи полевого шпата появились и неподалеку от Стокгольма, вблизи от той самой деревушки Иттербю. Это произошло в 1780 году.
Слово «Иттербю» переводится со шведского языка как «отдаленная деревня». Это местечко ничем не отличается от любой другой прибрежной шведской деревушки: дома с красными крышами стоят у самой воды, на окнах большие белые ставни, в просторных дворах растут высокие ели. Люди перемещаются по архипелагу на паромах. Улицы названы в честь минералов и элементов[48].
Карьер в Иттербю прорыт с самой вершины холма до юго-восточной оконечности острова. Там добывали руду для производства фарфора и для других целей. Ученых гораздо больше интересовало то, что при обработке этих пород образовывались экзотические красители и разноцветные газы. Сегодня мы уже знаем, что яркие краски – это предсмертные вздохи лантаноидов, а шахта в Иттербю необычайно богата этими металлами сразу по нескольким причинам геологического характера. Давным-давно все химические элементы были равномерно распределены в земной коре, как будто какой-то повар высыпал в кипящий котел горсть пряностей и тщательно их перемешал. Но атомы металлов, особенно лантаноидов, обычно «ходят косяками». По мере того как расплавы пород остывали, лантаноиды слипались друг с другом. В итоге целые залежи лантаноидов сосредоточились в районе Швеции, точнее говоря – под Швецией. А поскольку Скандинавия находится практически на линии тектонического разлома, породы, богатые лантаноидами, в результате движения геологических плит поднялись из глубин земной коры наверх. Кстати, этому процессу способствовали и гидротермальные источники, которыми так увлекался Бунзен. Наконец, в эпоху последнего оледенения мощные скандинавские ледники стесали на полуострове толстый слой поверхностных пород. Именно поэтому в окрестностях Иттербю оказались богатые лантаноидами минералы, добывать которые удавалось без особого труда.
Но, хотя в Иттербю и сложились нужные экономические условия, в которых было выгодно развивать горнодобывающую промышленность, а геология этих мест оказалась крайне интересной с научной точки зрения, в регионе долгое время царили суровые нравы. К концу 1600-х годов Скандинавия едва успела перерасти ментальность жестоких викингов. В XVII веке на полуострове процветала охота на ведьм и колдунов, в стороне от этого варварства не оставались даже университеты, а его масштабы могли бы ужаснуть и жителей Салема[49]. Но в XVIII веке, когда Швеция постепенно установила политическую власть надо всем полуостровом, а шведское Просвещение завоевало регион в культурной сфере, в сознание потомков викингов начал проникать рационализм. В Скандинавии стали появляться выдающиеся ученые, которых было удивительно много, учитывая, каким малонаселенным оставался полуостров. Одним из крупнейших естествоиспытателей был Юхан Гадолин. Будущий великий химик родился в 1760 году в семье потомственных академиков (его отец одновременно руководил кафедрами физики и теологии, а дед совмещал еще более несхожие посты – профессора физики и епископа).
В молодости Юхан Гадолин немало попутешествовал по Европе. В частности, он побывал в Англии, где подружился со знаменитым изготовителем фарфора Джозайей Веджвудом и даже посетил месторождения глины, откуда тот брал сырье. Вернувшись на родину, Гадолин поселился в городе Турку, который сегодня находится на территории Финляндии на другом берегу Балтийского моря. Там Юхан приобрел славу геохимика. Геологи-любители стали доставлять ему из Иттербю необычные породы, чтобы проконсультироваться об их составе. Постепенно, благодаря публикациям Гадолина, научное сообщество все больше узнавало об этой замечательной маленькой шахте.
Конечно, у Гадолина не было ни инструментария, ни химической теории, которая позволила бы выделить все 14 лантаноидов, но шведский ученый проделал большую работу, определив основные группы этих элементов. Охота за ними стала для него своеобразным хобби. Когда гораздо позже, на закате жизни Менделеева, ученые вновь заинтересовались Иттербю и уточнили результаты Гадолина при помощи новых и более точных инструментов, новые элементы посыпались как из рога изобилия. Гадолин заложил в этой номенклатуре «географическую» тенденцию, назвав один из гипотетических элементов «иттрием». Химики поддержали эту традицию и стали именовать новые элементы в честь их общей «родины», неоднократно обессмертив Иттербю в периодической системе. С этой деревушкой связаны названия семи элементов – такой чести не удостаивались никакие другие места, человек или вещь. Названия иттербий, иттрий, тербий и эрбий происходят непосредственно от этого топонима. Оставалось назвать еще три элемента, но тут у химиков закончились буквы (согласитесь, «рбий» звучит некрасиво). Поэтому в таблице появились гольмий, поименованный в честь Стокгольма, тулий, чье название напоминает о мифической стране Туле, которую античные авторы помещали на месте Скандинавии. Наконец, по настоянию Лекока де Буабодрана, один из элементов был назван гадолинием – в честь самого Юхана Гадолина.
Шесть из семи элементов, открытых в Иттербю, оказались недостающими лантаноидами Менделеева. Но история могла сложиться совсем иначе, ведь Менделеев постоянно корректировал свою таблицу. Он мог бы самостоятельно заполнить целый нижний ряд, расположенный вслед за церием, если бы только сам отправился на северо-запад, через Финский залив и Балтийское море, на Галапагосские острова[50] периодической системы.
Часть II. Как создаются и расщепляются атомы
4. Откуда берутся атомы: «Мы все – звездная материя[51]»
Откуда берутся элементы? В течение многих веков в науке процветало заблуждение, что ниоткуда. Велись долгие метафизические споры о том, кто (или Кто) мог создать мироздание и почему Он это сделал, но все соглашались, что все элементы – ровесники нашей Вселенной. Они не появляются и не исчезают, а просто существуют. Более новые теории, в частности теория Большого взрыва, сформулированная в 1930-е годы, также принимали эту точку зрения за аксиому. Если все началось около 14 миллиардов лет назад с первозданного мирового зернышка, в котором содержалась вся материя Вселенной, то все, окружающее нас сегодня, очевидно, было заключено именно в нем. Конечно, там не было ни алмазных диадем, ни жестяных банок, ни алюминиевой фольги, но все сырье для создания элементов имелось.
Один ученый подсчитал, что уже через 10 минут после Большого взрыва сформировалась вся известная материя, а потом резюмировал: «Элементы были изготовлены быстрее, чем хорошая хозяйка зажарит утку с картошкой». Опять же, здесь мы имеем дело с общепринятым мнением о том, что история всех элементов протекает исключительно стабильно и является, в сущности, «астроисторией».
Но после 1930-х эта теория начала постепенно распадаться. К 1939 году немецкие и американские ученые доказали[52], что энергия Солнца и других звезд выделяется в ходе реакций ядерного синтеза, при которых из атомов водорода образуются атомы гелия. Объемы этой энергии совершенно несоизмеримы с крошечными размерами атомов. Другие ученые парировали: хорошо, количество водорода и гелия может незначительно колебаться, но нет никаких доказательств, что содержание других элементов в природе хоть как-то изменяется. Но наука не стояла на месте, телескопы совершенствовались, и ряды скептиков множились. Теоретически в результате Большого взрыва элементы должны были быть «равномерно разбросаны» во всех направлениях. Но наблюдения показали, что в самых молодых звездах содержатся почти исключительно водород и гелий, а в старых встречаются десятки элементов. Кроме того, некоторые крайне нестабильные элементы, отсутствующие на Земле, например технеций, существуют в некоторых звездах с «экзотической химией»[53]. Какие-то силы должны ежедневно создавать такие элементы.
В середине 1950-х годов некоторые дальновидные астрономы пришли к выводу, что звезды можно сравнить с небесными вулканами. Группа ученых – Джеффри Бербидж, Элинор Маргарет Бербидж, Уильям Фаулер и Фред Хойл – в общих чертах описали теорию звездного ядерного синтеза в своей знаменитой статье, вышедшей в 1957 году. Специалисты называют ее просто – B2FH[54]. В отличие от большинства научных статей, B2FH имеет эпиграф, в который вынесены две зловещие и противоречивые цитаты из Шекспира. В них авторы задаются вопросом, управляют ли звезды судьбами человечества[55]. И далее отстаивают точку зрения о том, что да, управляют. В начале статьи рассказывается, что в начале времен Вселенная была первозданной кашей из водорода с небольшими включениями гелия и лития. Постепенно атомы водорода стали слипаться друг с другом, образуя звезды. Огромное гравитационное давление, возникавшее внутри них, провоцировало слияние атомов водорода в атомы гелия. В результате чего сияют все звезды в небе. Но этот процесс, исключительно важный в космологии, неинтересен с научной точки зрения. В течение миллиардов лет звезда только и делает, что выпекает гелий. Лишь после полного выгорания водорода, указывают авторы B2FH – и в этом заключается основная научная ценность статьи, – ситуация начинает стремительно меняться. Звезда, которая целую вечность висела в пространстве и неспешно перерабатывала свой водород, преобразуется в нечто новое гораздо быстрее, чем мог бы мечтать любой алхимик.
Звезды, отчаянно пытающиеся поддержать высокую температуру при отсутствии водорода, начинают сжигать и плавить в своих недрах атомы гелия. Иногда два атома гелия целиком сплавляются друг с другом, образуя элементы с четными номерами, а в других случаях они теряют при этом часть протонов и нейтронов – так получаются элементы с нечетными номерами. Достаточно скоро внутри звезд накапливаются существенные количества лития, бора, бериллия и, особенно, углерода. В основном это происходит в глубине звезды – внешний слой, сравнительно холодный, состоит преимущественно из водорода до самой гибели звезды. К сожалению, при сжигании гелия выделяется меньше энергии, чем при сжигании водорода, поэтому звезда успевает израсходовать весь свой гелий всего за несколько сотен миллионов лет. Некоторые маленькие звезды после этого «умирают», на их месте остаются массы сплавленного углерода, известные нам как «белые карлики». Более тяжелые звезды (не менее чем в восемь раз массивнее Солнца) продолжают бороться за жизнь, синтезируя из углерода шесть еще более тяжелых элементов, вплоть до магния. Так они могут просуществовать еще несколько сотен тысяч лет. После подобного углеродного этапа умирает еще часть звезд, но самые крупные и горячие (в недрах которых может поддерживаться температура до пяти миллиардов градусов) за несколько миллионов лет сжигают и эти тяжелые элементы. В статье B2FH авторы анализируют разнообразные реакции синтеза и объясняют, как создаются все легкие элементы вплоть до железа. Эти процессы – настоящая эволюция элементов. В наше время благодаря статье B2FH астрономы могут объединить все элементы от лития до железа в категорию «звездных». Если на какой-то звезде обнаружено железо, то можно не заниматься поисками более легких элементов, поскольку там обязательно присутствуют и все остальные 25 первых элементов периодической системы.
Логично предположить, что в более крупных звездах должен происходить и дальнейший синтез с участием атомов железа, а также синтез более тяжелых атомов – до самых глубин периодической системы. Но здесь логика вновь нас подводит. Если обратиться к математике и подсчитать, сколько энергии выделяется при слиянии атомов, то можно убедиться: на слияние легких элементов в атом железа с его 26 протонами требуется очень много энергии. Таким образом, ядерный синтез элементов тяжелее железа[56] уже не идет на пользу изголодавшейся звезде. Железное ядро – последняя часть жизненного пути самых долговечных звезд.
Итак, откуда же берутся все остальные более тяжелые элементы, от 27-го (кобальта) до 92-го (урана)? Как ни странно, указывают авторы B2FH, они возникают при «маленьких больших взрывах». Массивнейшие из звезд (примерно в 12 раз тяжелее Солнца), спалив весь свой магний и кремний, очень быстро выгорают до железного ядра. Этот процесс занимает всего лишь около одного земного дня. Но прежде, чем погибнуть, звезда корчится в апокалиптической агонии. Когда у звезды не остается никакой энергии, которая позволила бы ей поддерживать собственный объем (его сравнительно легко поддерживать раскаленному газу), выгоревшая звезда схлопывается под действием собственной невероятной тяжести, всего за несколько секунд сокращаясь до считаных сотен километров. В ядре этой звезды протоны и электроны слипаются, образуя нейтроны, пока там не остается практически ничего, кроме последних. Затем, преодолев этот коллапс, звезда взрывается, разбрасывая материю во все стороны. Это не метафора. Возникает ослепительная сверхновая звезда, существующая примерно в течение месяца. Она простирается на миллионы километров и сияет ярче миллиардов звезд. И за этот месяц мириады частиц, обладающие непостижимыми импульсами, сливаются столько раз в секунду, что быстро преодолевают обычные энергетические барьеры и начинают образовывать элементы тяжелее железа. Многочисленные железные ядра покрываются толстым слоем нейтронов. Некоторые из них вновь распадаются, превращаясь в протоны, – так и образуются новые элементы. В этом рое частиц рождаются все существующие в природе комбинации элементов и изотопов, изрыгаемые в пространство.
Только в нашей Галактике сотни миллионов сверхновых прошли подобный цикл от реинкарнации до катастрофической гибели. В ходе одного из таких взрывов зародилась наша Солнечная система. Примерно 4,6 миллиарда лет назад сверхновая пронизала сверхзвуковым энергетическим всплеском плоское облако космической пыли шириной около 15 миллиардов километров. Раньше на месте этого облака существовало не менее двух других звезд. Частички пыли стали сцепляться с атомной пеной, прилетевшей от сверхновой, и все облако забурлило маленькими смерчами и вихрями, как гладь огромного пруда, в который швырнули множество камешков. Плотный центр облака стал закипать и превратился в Солнце (которое буквально выросло из останков других звезд), а вокруг него начали накапливаться более мелкие тела, ставшие планетами. Самые крупные планеты нашей системы, газовые гиганты, сформировались на том этапе, когда солнечный ветер – поток заряженных частиц, идущих от Солнца, – выдул легкие элементы на периферию системы. Среди всех гигантов наиболее богат газами Юпитер, по разным причинам ставший фантастическим заповедником элементов. На нем некоторые из них могут существовать в формах, невозможных на Земле.
С античных времен человеческий разум занимали фантазии о блестящей Венере, кольценосном Сатурне, Марсе, населенном инопланетянами. Именно в честь небесных тел названы и некоторые элементы. Планета Уран была открыта в 1781 году. Этот факт так воодушевил научное сообщество, что уже в 1789 году в ее честь назвали уран-металл – несмотря на то, что на той планете едва ли найдется и несколько граммов этого элемента. Именно по той же традиции получили названия нептуний и плутоний. Но в последние десятилетия самой интригующей планетой остается Юпитер. В 1994 году комета Шумейкеров – Леви 9 врезалась в Юпитер, и это было первое космическое столкновение, которое довелось наблюдать людям. Зрелище астрономов не разочаровало: в планету попал 21 ледяной кусок, и огненные шары разлетались более чем на 2000 километров. Это драматическое событие заинтересовало и широкую публику: вскоре специалистам NASA пришлось отвечать на некоторые ошеломляющие вопросы, поступавшие во время конференций в прямом эфире. Кто-то спросил, правда ли, что ядро Юпитера – это огромный алмаз, превышающий по размерам Землю. Другой участник конференции поинтересовался, как связано Большое Красное Пятно Юпитера с земной «гиперпространственной физикой», о которой он «что-то слышал». Якобы такая физика допускает возможность путешествий во времени. Через несколько лет после столкновения с кометой Шумейкеров – Леви Юпитер своей гравитацией изменил траекторию эффектной кометы Хейла – Боппа и направил ее к Земле. Вскоре после этого в Сан-Диего 39 членов секты «Врата рая» совершили самоубийство, ибо полагали, что Юпитер чудесным образом направил эту комету к нам вместе с заключенным в ней космическим кораблем, который должен перенести их души в высшие духовные миры.
В настоящее время эти странные мнения не подтверждаются. Кстати, Фред Хойл, один из соавторов B2FH, несмотря на свою профессиональную квалификацию и заслуги, не верил ни в дарвиновскую теорию эволюции, ни в Большой взрыв, а выражение это впервые употребил в насмешку в одной из радиопередач на Би-би-си. Но упомянутый выше вопрос об алмазе все-таки научно обоснован. В свое время некоторые ученые всерьез доказывали (или втайне верили), что огромный Юпитер действительно может породить такой гигантский драгоценный камень. Некоторые по-прежнему надеются, что на Юпитере удастся обнаружить не только жидкие алмазы, но и твердые, размером с «кадиллак». А если уж говорить о действительно экзотических веществах, отметим, что, по мнению ученых, странное магнитное поле Юпитера может генерироваться лишь океаном жидкого черного «металлического водорода». На Земле металлический водород удавалось зафиксировать лишь в течение нескольких наносекунд, в самых экстремальных условиях, какие только можно создать в лаборатории. Но многие физики убеждены, что Юпитер – необъятный резервуар металлического водорода и океан этого вещества достигает глубины в 30 тысяч километров.
Причина, по которой элементы существуют на Юпитере в столь необычном состоянии, заключается в том, что эта планета (а также, в меньшей степени, Сатурн – второй по величине газовый гигант нашей планетарной системы) является своеобразной переходной формой. Юпитер – не столько огромная планета, сколько маленькая неудавшаяся звезда. Если бы на этапе формирования Юпитер вобрал в себя примерно в десять раз больше дейтерия, чем имеет сейчас, то мог бы стать бурым карликом. То есть звездой, массы которой едва хватаетдля вялотекущего ядерного синтеза и излучения «низковаттного» рыжеватого света[57]. Тогда в нашей Солнечной системе было бы две звезды. Далее мы увидим, что в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Юпитер действительно остыл настолько, что какой-либо ядерный синтез на нем невозможен – но сохранил достаточные массу, температуру и давление, чтобы атомы на нем оказывались очень близко друг к другу и вели себя совсем не так, как на Земле. Внутри Юпитера создается «переходная среда», свойства которой неблагоприятны как для ядерных, так и для привычных нам химических реакций. В таких условиях вполне могут существовать и алмазы величиной с небольшую планету, и маслянистый металлический водород.
Некоторые ученые по-прежнему надеются, что на Юпитере удастся обнаружить не только жидкие алмазы, но и твердые, размером с «кадиллак».
Атмосферные условия на поверхности Юпитера также приводят к удивительным взаимодействиям между элементами. Но такие явления вполне нормальны на планете, где существует Большое Красное Пятно. Это огромный циклон, в три раза шире нашей Земли, который уже несколько веков продолжает бушевать в атмосфере Юпитера. Возможно, метеорологические процессы в нижних слоях атмосферы этой планеты еще более зрелищны. Поскольку солнечный ветер донес до орбиты Юпитера лишь самые легкие, а значит, самые распространенные элементы, состав этой планеты, в принципе, должен быть почти как у настоящей звезды: 90 % водорода, почти 10 % гелия и следовые количества других легких элементов, вплоть до неона. Но последние спутниковые наблюдения показали: содержание гелия в верхних слоях атмосферы на четверть меньше ожидаемого, а неона – на 90 % меньше, чем полагали ученые. Неслучайно в более глубоких слоях атмосферы эти элементы обнаружились в изобилии. Очевидно, какие-то силы переместили гелий и неон из одних мест в другие. Вскоре астрономы поняли
,что получить представление об этих силах позволит метеорологическая карта планеты.
В ядре настоящей звезды все микровзрывы уравновешиваются постоянным центростремительным воздействием гравитации. На Юпитере такая ядерная печь отсутствует, поэтому ничто не мешает сравнительно тяжелым атомам гелия и неона проникать из внешних газообразных слоев вглубь атмосферы. Пройдя примерно четверть пути к центру планеты, эти газы оказываются в непосредственной близости от слоя жидкого металлического водорода, где сильнейшее атмосферное давление превращает их в жидкости.
Большинство читателей видели, как гелий и неон красочно светятся в стеклянных трубках – так называемых неоновых лампах. Трение, возникающее при перемещении капелек этих элементов, плавающих в атмосфере Юпитера, может возбуждать атомы газов аналогичным образом, поэтому капельки напоминают жидкие метеоры. Таким образом, если сравнительно крупные капли падают достаточно быстро и достаточно далеко, то кто-нибудь, парящий прямо над поверхностью водородного юпитерианского океана, мог бы взглянуть в кремово-оранжевые небеса планеты и полюбоваться невообразимым световым шоу. Представьте себе фейерверки, озаряющие юпитерианскую ночь триллионами ярко-малиновых линий, которые уже получили среди ученых название неонового дождя.
История скальных планет Солнечной системы (Меркурия, Венеры, Земли, Марса) иная, их драмы не столь зрелищны. На первом этапе формирования Солнечной системы образовались газовые гиганты, для этого потребовалось всего около миллиона лет. Тем временем сравнительно тяжелые элементы скапливались в небесном «каменном поясе», примерно по центру которого пролегает орбита Земли. Там они тихо дожидались своего часа в течение еще нескольких миллионов лет. Когда Земля и другие планеты земной группы наконец приняли форму плотных шарообразных тел, эти элементы были распределены в них более или менее равномерно. Как заметил великий Уильям Блейк, можно было бы поднять горсть земли и подержать в руке всю Вселенную, всю периодическую систему сразу. Но элементы начали перемешиваться друг с другом, группируясь вместе со своими близнецами и собратьями по периодической системе. После миллиардов таких переходов вверх и вниз по земной коре сформировались значительные залежи многих элементов. На всех скальных планетах тяжелое железо опустилось ближе к ядру. Именно там и сосредоточены основные его запасы. Например, на Меркурии можно наблюдать не менее чудесное явление, чем в атмосфере Юпитера: иногда меркурианское жидкое ядро выделяет железные «снежинки». Причем они не шестиугольные, как всем знакомые земные (из замерзшей воды), а больше напоминают микроскопические кубики[58]. Земля могла превратиться в летящий ком урана, алюминия и других элементов, но события стали разворачиваться иначе: планета достаточно сильно остыла и затвердела, в результате дальнейшее перемешивание элементов осложнилось. Сегодня на Земле многие элементы сгруппированы в компактные отложения, которые, однако, встречаются повсюду в земной коре. За исключением некоторых известных случаев, ни одна страна не обладает монополией на добычу какого-либо элемента.
По сравнению со скальными планетами других звездных систем, четыре планеты в нашей обладают различным содержанием каждого элемента. Вероятно, большинство планетарных систем сформировались на месте взрывов сверхновых, и точное соотношение элементов в каждой системе зависит от того, какое количество энергии выделилось при конкретном взрыве и сформировало элементы. Кроме того, важен состав окружающей среды (космической пыли), с которой смешивались звездные выбросы. В результате состав элементов каждой планетарной системы получился уникальным. Из уроков химии вы, вероятно, помните, что под каждым элементом в периодической системе записан номер, соответствующий его атомной массе. Он равен средней сумме масс протонов и нейтронов, содержащихся в атомах данного элемента. Так, атомная масса углерода равна 12,011 единицы. Это именно среднее значение. Большинство атомов углерода весит ровно 12 единиц, а оставшиеся 0,011 приходятся на незначительную долю атомов с массой 13 или 14 единиц. Но в другой галактике средняя атомная масса углерода может быть чуть выше или чуть ниже. Более того, сверхновые звезды порождают множество радиоактивных элементов, которые начинают распадаться сразу же после взрыва. Крайне маловероятно, что в двух разных звездных системах соотношение радиоактивных и нерадиоактивных элементов окажется одинаковым, если только две эти системы не образовались одновременно.
Учитывая существенное разнообразие звездных систем, а также их невероятно древнее происхождение, читатель может задать резонный вопрос: откуда у ученых есть хотя бы приблизительное представление о том, как образовалась Земля? Принцип таков: они анализируют количество и положение распространенных и редких элементов в земной коре и дедуктивным методом пытаются объяснить, как те или иные простые вещества оказались там, где они есть сейчас. Например, «дату рождения» нашей планеты помогли установить сравнительно распространенные свинец и уран. Соответствующими исследованиями (невероятно скрупулезными и тщательными) занимался один аспирант, работавший в Чикаго в 1950-е годы.
Все самые тяжелые элементы радиоактивны. Большинство из них, в частности уран, в результате распада превращаются в стабильный свинец. Наш следующий герой, Клэр Паттерсон, профессионально сложился в годы работы над Манхэттенским проектом. Поэтому он точно знал скорость распада урана. Он также знал, что на Земле встречаются три разновидности свинца. Каждый тип (изотоп) свинца имеет свою атомную массу – 204, 206 или 207. Некоторое количество свинца всех трех типов существовало еще до того, как родилась наша сверхновая, а какие-то атомы «моложе», так как появились в результате распада урана. Но самое интересное заключается в том, что в этом процессе могут получаться лишь два из трех изотопов – 206 и 207. Содержание же изотопа 204 в природном свинце постоянно, поскольку он не образуется при распаде какого-либо другого элемента. Важнейшее открытие заключалось в том, что отношение количества изотопов 206 и 207 к изотопу 204 увеличивается со строго определенной скоростью, так как распадающийся уран продолжает пополнять запасы двух более тяжелых изотопов. Если бы Паттерсон смог определить, насколько это соотношение повысилось сегодня по сравнению с первыми днями существования Солнечной системы, он смог бы вычислить ее возраст.
Как водится, в этой бочке меда была своя ложка дегтя. Ведь никто не знал исходного содержания свинца, поэтому Паттерсону оставалось лишь догадываться, как далеко в прошлое придется заглянуть, чтобы отследить данную тенденцию. Но он нашел способ обойти эту проблему. Ведь не вся космическая пыль, парящая вокруг Солнца, вошла в состав планет. Из нее же образовались метеориты, астероиды и кометы. Поскольку они сформировались из того же материала, что и планеты, и с тех самых пор плавают в холодном вакууме, эти тела сохранили в себе кусочки материи, из которых состояла первозданная Земля. Более того, поскольку на вершине пирамиды звездного ядерного синтеза находится железо, оно содержится во Вселенной в огромном изобилии. Так, многие метеориты состоят из чистого железа. Здесь важно отметить, что химически железо и уран не смешиваются, а железо и свинец, напротив, очень даже. Поэтому содержание свинца в метеоритах ровно такое же, как в новорожденной Земле: ведь в этих глыбах железа отсутствует уран, который мог бы подмешать в них новые атомы свинца. Паттерсон принялся с воодушевлением собирать куски метеоритов в Каньоне Дьявола, штат Аризона, а затем приступил к работе.
Но почти сразу ему пришлось столкнуться с более серьезной и общей проблемой, связанной с индустриализацией. Люди с античных времен использовали мягкий и ковкий свинец для масштабных архитектурных работ, в частности, при создании водопроводов. Кроме того, с тех пор как были изобретены свинцовые красители, а в конце XIX – начале XX века – еще и бензин с антидетонационными свинцовыми присадками, содержание свинца в окружающей среде стало расти так же быстро, как и уровень углекислого газа в атмосфере. Повсеместное присутствие свинца поставило крест на первых опытах Паттерсона, связанных с анализом метеоритов. Ему пришлось пойти на гораздо более радикальные меры – например, кипятить оборудование в концентрированной серной кислоте, чтобы не допускать попадания «антропогенного» испаряющегося свинца в первозданные космические камни. Позже в одном интервью Паттерсон замечал: «Если вы войдете в такую чистую лабораторию, как моя, то свинец из ваших волос загрязнит ее к чертям».
Такая скрупулезность вскоре переросла в одержимость. Читая воскресный выпуск комикса «Мелочь пузатая», Паттерсон счел, что грязнуля Пиг-Пен, герой этого сериала, напоминает ему все человечество: мы все измазаны в свинце, как Пиг-Пен в уличной пыли. Но эта зацикленность на борьбе со свинцом дала два важных результата. Во-первых, когда он максимально вычистил свою лабораторию, ему удалось дать наиболее точную на сегодня оценку возраста Земли – 4,55 миллиарда лет. Во-вторых, эта непримиримость помогла Паттерсону стать общественным активистом. Именно его мы должны поблагодарить за то, что наши дети больше не едят чипсы с красителями, содержащими свинец, а на автоматах на бензозаправочных станциях уже никто не клеит рекламу «не содержит свинца». Заслуга Паттерсона в том, что запрет свинцовых красителей сегодня представляется как нечто само собой разумеющееся, и мы знаем, что автомобиль не должен выбрасывать в воздух свинец, который потом осядет у нас на волосах и в легких.
Итак, Паттерсону удалось определить дату рождения Земли, но это лишь один из многих вопросов. Венера, Меркурий и Марс появились одновременно с нашей планетой, но они совершенно не похожи на Землю, за исключением некоторых общих поверхностных деталей. Чтобы сложить воедино все мелкие подробности нашей истории, ученым предстояло пробраться по некоторым темным коридорам, пролегающим по таблице Менделеева.
В 1977 году отец и сын, физик и геолог Луис и Уолтер Альваресы изучали в Италии залежи известняка, сформировавшиеся примерно в ту же эпоху, когда вымерли динозавры. Слои известняка казались равномерными, но в узкой прослойке, образовавшейся около 65 миллионов лет назад (именно тогда и произошло это массовое вымирание), нашлись едва заметные следы красной глинистой пыли. Еще более удивительным было то, что содержание элемента иридия в этой глине в 600 раз превышает его обычный уровень. Иридий – сидерофил, так называются «железолюбивые»[59] элементы. Именно поэтому большая его часть сосредоточена в расплавленном железном ядре нашей планеты. Основными источниками иридия являются железные метеориты, астероиды и кометы – что и заставило Альваресов призадуматься.
Благодаря Паттерсону запрет свинцовых красителей – нечто само собой разумеющееся, и мы знаем, что автомобиль не должен выбрасывать в воздух свинец, который потом осядет у нас на волосах и в легких.
На многих небесных телах, например на Луне, зияют кратеры от древнейших столкновений с космическими камнями. Нет никаких причин полагать, что Земля избежала подобных «бомбардировок». Если 65 миллионов лет назад в Землю действительно врезался такой космический странник размером с большой город, он мог присыпать всю планету толстым слоем пыли, насыщенной иридием. Это колоссальное облако должно было окутать всю Землю и погубить значительную часть растительности. Подобный катаклизм вполне мог бы привести к очень быстрой смерти не только динозавров, но и 75 % всех видов (99 % существ, обитавших на Земле в ту эпоху). Убедить в этой гипотезе научное сообщество было непросто, но Альваресы вскоре установили, что слой иридиевой пыли прослеживается по всему миру. Это позволило уверенно исключить альтернативную гипотезу о том, что ее залежи являются последствием выброса, сопровождавшего взрыв какой-то близкой сверхновой. Когда другие геологи (работавшие на нефтедобывающую компанию) открыли на полуострове Юкатан в Мексике кратер шириной 180 километров и глубиной около 900 метров, образовавшийся около 65 миллионов лет назад, теория об астероиде, иридии и вымирании динозавров получила веское подтверждение.
Правда, сохранялись небольшие сомнения, всегда сопровождающие научный поиск. Допустим, астероид затмил небо пылью, вызвал кислотные дожди и километровые цунами, но за несколько десятков лет все должно было прийти в норму. Загвоздка в том, что, по данным археологии, вымирание динозавров растянулось на сотни и даже тысячи лет. Сегодня многие геологи полагают, что крупные вулканы, располагавшиеся на территории современной Индии, по случайному совпадению активно извергались незадолго до юкатанского взрыва и вскоре после него, внеся свою лепту в уничтожение динозавров. В 1984 году некоторые палеонтологи стали доказывать, что вымирание динозавров вписывается в длительную периодическую закономерность; возможно, примерно каждые 26 миллионов лет на Земле происходят массовые вымирания видов. Вдруг мы имеем дело с простым совпадением: астероид упал на Землю, когда эра динозавров близилась к концу?
Геологи начали обнаруживать и другие слои красной глины, богатой иридием. Эти вкрапления хронологически совпадали с другими крупными вымираниями видов. Вслед за Альваресами некоторые люди стали полагать, что именно астероиды или кометы вызывали все подобные катаклизмы в истории Земли. Альварес-отец считал эту идею сомнительной, в особенности потому, что никто не мог объяснить ее наиболее важную и совершенно неправдоподобную деталь – регулярность таких космических катастроф. Интересно отметить, что Альварес изменил свое мнение благодаря еще одному неприметному элементу – рению.
Коллега Альвареса-старшего Ричард Мюллер вспоминал в своей книге «Немезида», как однажды в 1980-е годы Альварес ворвался к нему в кабинет, размахивая перед собой «смехотворной» спекулятивной статьей о периодических вымираниях, на которую он должен был написать экспертную рецензию. Луис уже кипел от гнева, но Мюллер решил еще сильнее его раззадорить. Двое ученых стали спорить до хрипоты. Суть аргументации Альвареса, по версии Мюллера, была такова: учитывая беспредельные размеры космоса, Земля – просто микроскопическая цель. Астероид, пролетающий мимо Солнца, может угодить в нашу планету с вероятностью чуть выше, чем один на миллиард. Происходящие столкновения могут быть исключительно редкими и случайными, неравномерно распределенными во времени. Как же можно полагать, что подобные катаклизмы происходят регулярно?
Мюллер никак не мог обосновать свою точку зрения, но все-таки стал аргументировать возможность того, что какое-то явление способно вызывать регулярные падения крупных метеоритов. Наконец дебаты утомили Альвареса, и он потребовал от Мюллера ответить, что же это может быть за явление. Далее наступил момент, который Мюллер описал как «приправленный адреналином миг импровизированной гениальности». Он сел и выпалил, что, возможно, у Солнца есть блуждающая поблизости звезда-спутник, вокруг которой Земля также вращается, но слишком медленно и незаметно для нас. И именно сила притяжения этой звезды направляет на Землю астероиды, когда наша планета в очередной раз сближается с ней. Вот так!
Возможно, Мюллер теоретизировал об этой звезде-соседке, позже прозванной Немезидой (в греческой мифологии – богиня возмездия)[60], лишь полусерьезно. Тем не менее эта идея озадачила Альвареса, поскольку соблазнительно легко объясняла одно из свойств рения. Как мы помним, для каждой звездной системы характерно свое уникальное соотношение изотопов. В слоях глины, богатой иридием, также прослеживались небольшие примеси рения. Основываясь на соотношении двух типов этого элемента (радиоактивного и нерадиоактивного), Альварес знал, что любой предполагаемый убийственный астероид должен был прилететь из нашей Солнечной системы, ибо указанное соотношение в слоях глины было точно таким же, как на Земле. Если Немезида действительно пролетает мимо раз в 26 миллионов лет и одну за другой сбрасывает на нас космические скалы, то во всех этих астероидах содержание рения также должно быть одинаковым. Важнее всего то, что гипотеза о Немезиде позволяла объяснить, почему динозавры вымирали так медленно. Возможно, мексиканский кратер был лишь самой большой воронкой, возникшей в результате «артобстрела», длившегося на протяжении многих тысяч лет, пока Немезида была поблизости. Возможно, следует говорить о миллионах мелких ударов, положивших конец славной эпохе ужасных ящеров, а не об одном смертельном столкновении.
В тот день в кабинете Мюллера возмущение Альвареса мгновенно утихло, едва он осознал, что регулярно падающие на Землю астероиды, возможно, реальность. Удовлетворенный, он удалился. Но Мюллер не мог избавиться от своей интуитивной идеи, и чем больше он размышлял над ней, тем сильнее убеждался в ее реалистичности. Почему Немезида не может существовать? Мюллер стал беседовать об этом с коллегами-астрономами и публиковать статьи о Немезиде. Собрав доказательства и приложив определенные усилия, он написал свою книгу. В середине 1980-х выдалось несколько славных лет, когда казалось, что если даже Юпитер при достаточной массе мог бы воссиять, то почему у Солнца не может быть звезды-соседки?
К сожалению, в пользу существования Немезиды не было приведено никаких серьезных доказательств. Если первая теория о катастрофическом столкновении Земли с астероидом страдала от нападок критиков, то гипотеза о Немезиде заставила скептиков выстроиться и дать по ней ружейный залп. Казалось крайне маловероятным, что астрономы, в течение многих тысячелетий изучавшие ночное небо, просто просмотрели такое тело – даже если Немезида в последнее время и была максимально удалена от нас. Это тем более маловероятно потому, что если ближайшая к нам звезда, альфа Центавра, находится в четырех световых годах от Земли, то Немезида должна была бы приблизиться на половину светового года, чтобы совершить очередное возмездие. До сих пор существуют романтики и убежденные сторонники существования Немезиды, пытающиеся разгадать, где она скрывается. Но чем дольше ее не удается увидеть, тем менее вероятным представляется ее существование.
Тем не менее никогда не следует недооценивать, на что способны люди, которым дали пищу для размышлений. В руках у ученых имелись три факта: регулярные вымирания видов; колебания уровня иридия, предполагающие «космическое вмешательство»; а также уровень рения, подсказывающий, что гипотетические «снаряды» прилетают именно из нашей Солнечной системы. Ученые чувствовали, что напали на какой-то след, даже если эти события и не были вызваны Немезидой. Исследователи искали другие циклические явления, способные приводить к подобным результатам. Вскоре возникла идея, что катастрофы могли быть вызваны движением Солнца.
Многие люди полагают, что после революции в астрономии, произведенной Коперником, Солнце заняло незыблемое место во времени и пространстве, но на самом деле это не так. Оно медленно движется под действием «приливных сил» нашей спиральной галактики и немного раскачивается, как на карусели[61]. Некоторые ученые полагают, что именно из-за такого покачивания Солнце иногда приближается к колоссальному облаку дрейфующих комет и другого естественного космического мусора, окружающему нашу систему. Его называют «облаком Оорта». Все его объекты появились одновременно с рождением нашей сверхновой. И всякий раз, когда Солнце оказывается на пике или на дне своей волнообразной траектории (что происходит примерно раз в 26 миллионов лет), оно может захватывать небольшие опасные тела, которые на огромной скорости летят в сторону Земли. Большинство из них отклоняются под действием гравитации Солнца (или Юпитера, который уберег нас от удара кометы Шумейкеров – Леви), но многие из этих глыб успевают проскользнуть и могут обрушиться на нашу планету. Эта теория пока не доказана, но если она когда-нибудь подтвердится, то окажется, что мы несемся по Вселенной на огромной, смертельно опасной карусели. Как минимум стоит поблагодарить иридий и рений за подсказку об этом. Ведь вскоре нам, возможно, потребуется уклониться от следующего астероида.






