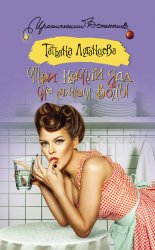Не девушка, а крем-брюле Булатова Татьяна

До Василисы из кухни доносилась татарская речь, кое-что она даже понимала, но особо не вслушивалась, потому прекрасно знала, как бы абика не отказывалась помочь, Гулька все равно своего добьется. Так и вышло.
Низамовская бабушка вынесла из своей комнаты коричневый пузырек со спиртом, опустила туда иглу с пропущенной сквозь ушко шелковой ниткой, прочитала намаз и позвала Ладову:
– Айда, свет садись.
У Василисы подкосились ноги.
– Айда-айда, – улыбнулась беззубым ртом абика и постучала сухой ладонью по стулу, приглашая Ладову присесть.
– Опять зубы не надела, – проворчала Низамова и уставилась на Василису, как удав на кролика. Отступать было некуда: позади – запертая на железный засов дверь, впереди – обретенная в муках красота. – Иди, что ли, – заволновалась Гулька, как будто это ей предстояло пройти через горнило испытаний.
Ладова глубоко вздохнула и, мысленно попрощавшись с ни о чем не подозревающими родителями, выдвинулась на передовую.
– Хава Зайтдиновна, – взмолилась Василиса. – Это больно?
– Не, – прошамкала абика и нацепила на нос очки. – Аллах поможет, – пообещала она православной Ладовой и, достав иголку, точным движением проткнула ее ухо.
Василиса негромко ойкнула и вытаращила глаза: в ушах стоял тот самый хруст, о котором ее предупреждала Низамова. Бабка завязала узелок, обрезала нитку и снова засунула иголку в пузырек со спиртом.
– Абика, – позвала ее Гулька и перешла на татарский, потому что так было проще: Хава Зайтдиновна половины русских слов, доступных среднестатистическому татарину России, просто не понимала. И Ладова это знала, поэтому не обижалась и не чувствовала себя не в своей тарелке, когда в доме у Низамовых звучала татарская речь.
Проткнув второе ухо, абика посмотрела на свою внучку как на умалишенную и протянула той руку ладонью вверх. И тут наконец Василиса поняла, о чем переговаривались эти двое. Гульназ торопливо расстегнула болтавшийся в ухе золотой полумесяц и ловко вытащила серьгу из уха. Сначала – из одного, потом – из другого.
– Не надо! – взбунтовалась Ладова и лихорадочно затрясла головой.
– Брезгуешь, что ли? – скривилась Гулька и с обидой поджала губы.
– Да что ты! – разволновалась Василиса. – Они ж золотые!
– Так золотые и надо, – успокоила ее Гульназ, а Хава Зайтдиновна щелкнула портновскими ножницами, осторожно вытянула окровавленную шелковую ниточку и легко вставила серьги собственной внучки в чужие уши. – На, – Низамова протянула Ладовой зеркало, чтобы та полюбовалась собственной красотой.
Василиса с опаской заглянула в сверкающий серебром овал и увидела свое испуганное лицо, к которому приклеились два золотых татарских полумесяца.
– Теперь ты татарка, – серьезно произнесла Гульназ, а потом задорно расхохоталась: – Васька! Все! Расслабься! А то у тебя вид, словно ты в туалет хочешь!
Низамова вытаращила глаза, надула щеки и напряглась так, что ее смуглое личико побагровело. Абика быстро поняла, кого изображает ее внучка, и захихикала:
– Айда! Есть давай!
Это предложение понравилось Ладовой гораздо больше, чем все остальное. Она с готовностью отправилась на низамовскую кухню и, пока шла, чувствовала, как покачиваются в ее истерзанных ушах довольно тяжелые золотые полумесяцы. А потом на пару с Гулькой они наворачивали кыстыбый[5], запивая их наваристым говяжьим бульоном, в котором плавала мелко порубленная свежая зелень. И абика сидела напротив таких разных девчонок, с умилением переводя взгляд с одного лица на другое, и послушно отвечала на вежливые вопросы Василисы о здоровье, о погоде, о телевизоре, возле которого Хава Зайтдиновна проводила весь день, периодически переключаясь на приготовление обеда или ужина.
Внимание полной белоголовой девочки абике было особенно приятно, потому что она видела, как менялось выражение Гулькиного лица, когда речь заходила о Василисе. И плохо говорящая по-русски татарка ласково называла Ладову «кызым» и подкладывала ей на тарелку очередной кусок, что вполне отвечало духу татарского гостеприимства, согласно которому на столе, равно как и в тарелке, не должно быть пустых мест.
А Василиса этого даже не замечала и бездумно отправляла в рот всякие вкусности, напрочь забыв, что несколько часов тому назад поклялась начать новую жизнь, направленную на похудание. Не помнила об этом и Гулька, капризно отодвигающая от себя то чак-чак[6], то пиалу с сухофруктами. И абика настойчиво продолжала угощать Ладову, таким образом удовлетворяя свою самую насущную потребность – быть полезной взбалмошной худосочной Гульназ, внешний вид которой вполне подходил под жалостливое определение «И в чем только душа держится?». «То ли дело ее подруга: какой простор для души!» – радовалась Хава Зайтдиновна и мечтала о том, что рано или поздно наступит время, когда тонкие низамовские кости обрастут мясом и Гулька станет напоминать девочку, а не высушенное насекомое.
Впрочем, сама Гульназ ни о чем подобном не мечтала. Во сне к ней настойчиво являлся придурок Бектимиров и делал всякие непристойные предложения: крепко прижимался, дышал в висок или в затылок, одним словом, до куда дотянется. Просыпалась Низамова растревоженная, сердитая, срывалась на абику, на родителей и даже всерьез подумывала о том, не рассказать ли все Ладовой, потому что держать все это в себе было невыносимо. Но всякий раз, когда она собиралась «вывалить все начистоту», происходило нечто, что придавало внятный смысл ее жизни и отвлекало внимание от всяких сомнительных глупостей, которые Гулька приписывала вмешательству нечистой силы и никак не связывала с пробуждающейся в себе сексуальностью. К тому же кандидатура Бектимирова никак не соответствовала ее представлениям о настоящей любви. И слава богу, потому что иначе она извела бы себя за то, что испытывает странное влечение к главному врагу всей своей жизни, доставшемуся ей в наследство от отца так же, как и родинка над губой.
Короче говоря, дел у нее было предостаточно, потому что мир был несовершенен и явно нуждался в улучшении. Над ним Гулька и продолжала активно работать, попутно исправляя ошибки природы или неправильного воспитания. Например, в случае с Ладовой.
Низамова пристрастно посмотрела в лицо подруге и смело разрушила царившую за столом идиллию:
– Не думай, Васька, что уши проткнули и дело с концом. У нас с тобой вообще-то другая задача.
– Какая? – Ладова чуть не поперхнулась.
– Худеть! – объявила Низамова, и стало ясно, что если завтра Василиса добровольно не явится на школьный стадион, то она обязательно заставит ее это сделать.
– Я не побегу! – категорически отказалась Ладова и повернулась к абике: – Скажите, чтоб она от меня отстала!
Хава Зайтдиновна пожала плечами: мол, сами разбирайтесь, я-то тут при чем?
– Нашла союзника! – скривилась Гулька, державшая, как она говорила, всю семью в кулаке. – Никто тебе, Василиса, не поможет. Даже температура. Поэтому готовь кроссы, спортивки, и завтра встречаемся в школьном саду в шесть часов утра…
Потом Низамова немного подумала и решила поменять место встречи.
– Не, Васька, не в школьном саду… Я тебя около твоего подъезда ждать буду.
– Не жди, я все равно не выйду, – воспротивилась Ладова насилию над собой. Но не тут-то было: вошедшая в роль гуру Гулька спокойно проронила:
– Выйдешь… Как миленькая! А с тобой – весь подъезд. И знаешь почему?
– Почему? – Василисе стало интересно.
– Потому, что я буду орать. Вот так, – предупредила Низамова и заверещала что есть мочи: – А-а-а-а-а!
От истошного вопля подпрыгнула клевавшая носом в кухонном тепле абика и погрозила внучке кривым указательным пальцем: «Шайтан, кызым!»
– Я-то тут при чем? – как ни в чем не бывало заявила Гульназ. – Это она идти не хочет… Сколько можно уговаривать?
– Не надо меня уговаривать, – рассердилась Ладова и боком вышла из кухни. – Я домо-о-о-ой! – крикнула она Низамовым и начала обуваться.
– Ну и иди! – отказалась Гулька провожать подругу и осталась сидеть рядом с абикой.
«Обиделась!» – догадалась Василиса, но тоже пошла на принцип и мириться не предложила: просто аккуратно притворила за собой дверь низамовской квартиры.
Когда домашние обнаружили изменения, произошедшие во внешности дочери, за столом возникла продолжительная пауза.
– Ты проткнула уши? – задала глупый вопрос Галина Семеновна, а Василиса молча кивнула головой, качнув золотыми полумесяцами.
– Покажи, – на секунду заинтересовался Юрий Васильевич, а потом снова уткнулся в тарелку: на ужин были жареные караси. И есть их нужно было медленно, тщательно пережевывая рыбье мясо, чтобы, не дай бог, не пропустить кость, так и норовившую впиться в горло.
– Юра! – старшая Ладова жалобно посмотрела на Василису. – Юра! Ты видишь?
– Вижу, – буркнул Ладов, вытащил изо рта кость и, рассмотрев ее, аккуратно выложил на ободок тарелки.
– Васенька, – жалобно произнесла Галина Семеновна. – Ну почему ты не посоветовалась?
– Потому что было не с кем, – честно ответила Василиса. – Вас рядом не было. Да и потом я и сама не ожидала…
– Ну как же так? Не ожидала? – Никак не могла взять в толк Галина Семеновна. – Ты что, в одну секунду решила? Сидела-сидела и решила?
Ладова не рискнула посвятить родителей в перипетии своего сложного выбора и просто кивнула головой в знак согласия.
– И кто же это тебе сделал? – разволновалась Галина Семеновна, потому что больше всего на свете боялась инфекций, не подчиняющихся лечению. Соответственно, как только она предположила, что прокалывание происходило не в косметическом кабинете, воображение сразу же нарисовало ей грязные иглы, лежащие рядком на белом лотке, грязные руки и в перспективе – очередь в СПИД-центр.
– Дай догадаюсь, – промычал с набитым ртом Юрий Васильевич, занятый поиском очередной косточки.
– Жуй лучше! – в сердцах прикрикнула на него жена и снова приступила к допросу, но уже с ласковой интонацией: – Скажи мне, пожалуйста…
– Мам, – простонала Василиса. – Ну что ты ко мне пристала? Ну что ты со мной как с инвалидом разговариваешь?! Ну, если злишься, так и скажи.
– Я не злюсь, – возмутилась Галина Семеновна.
– Ну как же не злишься! Я же вижу: на папу ты, главное, кричишь, а со мной – как с посторонней, очень вежливо. Как будто наказываешь!
– Умница, Васька, – хмыкнул старший Ладов и с вызовом посмотрел на супругу: – Галь! Ну чего ты от нее хочешь? Ну, проколола и проколола! Давай серьги купим, а то ты посмотри, что у нее в ушах болтается! Стыд один.
– Ничё не стыд! – тут же вступилась за честь золотых полумесяцев Василиса и любовно коснулась их, как будто те придавали ей силы. – А покупать мне ничего не надо. Мне же Гулька серьги подарила. На шестнадцатилетие. Не помните, что ли?
– Я так и знала! – всплеснула руками Галина Семеновна и встала из-за стола: – Понятно, чья работа. Сама бы ты не догадалась! Надеюсь, ее мать продезинфицировала иголку?
– Продезинфицировала, – подтвердила Василиса, умолчав про то, что экзекуция проводилась полуграмотной абикой, а не знаменитым стоматологом Эльвирой Тимуровной Низамовой, к помощи которой, кстати, ее родители прибегали неоднократно.
«Все-таки молчание – золото!» – с облегчением подумала младшая Ладова, когда увидела, что при упоминании о тете Эле материнское лицо просветлело, а дыхание стало ровным. И все потому, что страх распространения инфекции отступил, и жизнь показалась гораздо лучше, чем пять минут назад.
– И все-таки серьги надо вернуть, – напомнил о себе Юрий Васильевич, наконец-то закончивший ужинать. Татарские полумесяцы в ушах единственной дочери лишали его покоя. Не нравились они ему, хоть ты тресни. Напоминали, так сказать, о двухвековом монголо-татарском иге и неприятно теребили чуткую православную душу Ладова, хотя он и в церкви-то ни разу не был.
– Да верну я, верну, – заверила отца Василиса и с тоской подумала о том, что ей предстоит снова подвергать свои уши опасности. – Вот заживут чуть-чуть и вставлю свои.
– Надо золотые, – задумчиво произнесла Галина Семеновна и зажгла газовую колонку, чтобы вымыть посуду.
– А где я их возьму? – беззлобно поинтересовалась Василиса, абсолютно не претендующая на то, чтобы родители бросились в ювелирный магазин.
– Я возьму, – гордо объявила ее мать и величаво выплыла из кухни.
Пока ждали возвращения Галины Семеновны, дважды прозвенел телефон. И дважды ни Василиса, ни Юрий Васильевич не тронулись с места, словно договорившись не впускать в свой домашний мир никого из посторонних.
Когда телефон зазвонил в третий раз, отец и дочь поднялись одновременно. Но в прихожую заторопилась именно Василиса, нутром чувствовавшая, что звонят ей. Она даже знала кто.
– Васька! – заговорщицки зашелестела в трубке Низамова. – Я знаю, что делать!
Ладова промолчала.
– Ты чё? Разговаривать со мной не хочешь?! – возмутилась на том конце Гулька и по проводам к травмированному уху Василисы потекли импульсы неудовольствия.
– Хочу, – Василиса сознательно удерживала дистанцию, памятуя, что Низамова даже не удосужилась закрыть за ней дверь.
– Тогда говори, – приказала ей Гулька.
– А чего говорить? – замешкалась Ладова.
– Чего хочешь, то и говори, – приободрила ее Гульназ и приготовилась слушать.
– Вообще-то это ты мне звонишь, – напомнила подруге Василиса и почувствовала, как очередной импульс неудовольствия впился ей в ухо.
– Точно! – Интонация у Низамовой изменилась. – Я вот что звоню, – протянула она и перешла на шепот: – Ты там одна?
– Одна, – подтвердила Ладова.
– Тебе надо начать курить! – по слогам проговорила в трубке Гулька, а Василиса автоматически закрыла рукой нижнюю мембрану трубки.
– Зачем? – изумилась она, не отрывая руки.
– Чё? – грохнула Низамова возле уха. – Чё ты там говоришь? Говори в трубку!
– Зачем? – повторила свой вопрос Ладова, предусмотрительно сняв руку с мембраны.
– Когда курят, худеют, – сообщила ей Низамова. – Я точно знаю.
– Откуда?
– Какая разница? Главное – помогает!
– Я не буду курить, – прошептала Василиса и на всякий случай огляделась по сторонам.
– Будешь! – пообещала ей Гулька и повесила трубку.
Ладова еще пару секунд послушала приветливое пиканье и положила трубку на полочку в коридоре.
– Кто звонил? – полюбопытствовала Галина Семеновна, выглянув из-за двери в коридор.
– Гулька, – ответила Василиса и выдернула шнур из телефонной розетки, чтобы не вступать в контакт с подругой, чья активность увеличивалась с каждой минутой и грозила окончательно лишить Ладову спокойствия.
– Идешь куда-нибудь?
– Нет, – Василиса была предельно немногословна.
– Тогда иди сюда, – позвала ее мать и уселась на диван с таинственным видом.
Когда Василиса расположилась рядом, Галина Семеновна достала из кармана домашнего платья сизую картонную коробочку с обтертыми краями и протянула ее дочери.
– Что это? – вяло проговорила та, не выказав особого интереса.
– Открой – увидишь, – гордо произнесла старшая Ладова и впилась взглядом в коробочку.
Без особых усилий сняв крышку, она обнаружила под ней кусок желтоватой ваты с незначительными вкраплениями опилок. «Для гнезда тара явно маловата», – подумала Василиса и приподняла колючий комок. Под ним на дне располагались увесистые золотые серьги с рубинами. Василиса вздрогнула: нечто подобное она замечала в ушах матерых теток. Например, точно такие же она видела в ушах продавщицы из мясного отдела соседнего гастронома. «Только не это!» – расстроилась Ладова, понимая, что сейчас мать заставит ее это примерить.
– Красивые? – залюбовалась серьгами Галина Семеновна. – Мамино приданое. Где-то еще кольцо есть, тоже с рубином.
– Я не ношу кольца. – Василиса попыталась сразу же пресечь материнский энтузиазм.
– Восемнадцать будет – наденешь. Сейчас рано. Не по возрасту, – отметила старшая Ладова и достала серьги из коробочки. – Давай снимай свое безобразие. Фамильные надевать будем.
– Так это же тебе бабушка подарила, – попробовала улизнуть Василиса, но не тут-то было: Галина Семеновна решительно собралась изменить к лучшему внешний вид собственной дочери.
– Мама, – взмолилась девочка, – я в них как тетка буду!
– А в этих ты как кто? – резонно уточнила Галина Семеновна и по-своему была права. Золотые полумесяцы не так уж и украшали ее дочь.
– Эти лучше. – Василиса категорически не хотела расставаться с Гулькиным имуществом.
– Чем это они лучше? – продолжала окучивать дочь Галина Семеновна. – Вон папу послушай… И потом – это свои, родные, бабушкины. Разве ты не хочешь сделать моей маме приятное?
Как можно было сделать приятное покойнице, Василиса не представляла и поэтому мысленно попросила почившую в бозе старуху, которой она, кстати, никогда не видела, заранее простить ее за отказ надеть это рубиновое сокровище.
Если бы это похожее на альбиноса создание обладало чуть большей твердостью по отношению к своему близкому кругу – родителям и Низамовой, жизнь его могла измениться бы в одно мгновение. Но для Василисы такой возможности не существовало: ее преданность им была всепоглощающей. Означило ли это, что Ладова не имела собственного голоса? Не умела говорить «нет»? Не принимала серьезных решений? Не умела постоять за себя? Отнюдь! Но когда дело касалось ее близких, боязнь обидеть делала Василису безвольной и заставляла вместо «нет» говорить «да».
Вот и сейчас, сидя рядом с матерью на видавшем виде диване, она неуклюжим паромом металась между двумя берегами трудного выбора: надевать – не надевать.
– Мама, – сделала еще одну попытку измученная внутренним разладом Ладова. – Давай завтра. У меня еще уши не зажили.
– А завтра твои уши заживут, – саркастично заявила Галина Семеновна и позвала мужа: – Юра! У тебя водка есть?
– Галя… – потер затылок Юрий Васильевич, – откуда?
– Как, Юра, откуда? Я ж оставляла!
– Нет, Галь, я не видел, – заявил Ладов, предположив: – Ты, может, на компресс извела?
– Знаю я твой компресс! – махнула рукой жена и задала очередное задание: – Одеколон давай.
– Одеколон – пожалуйста, – обрадовался Юрий Васильевич и бросился в ванную.
– Мама, – напомнила о себе Василиса. – Ты как будто меня не слышишь…
– Я… тебя, Васька, слышу, – моментально отреагировала Галина Семеновна. – А вот ты меня нет. Серьги чужие – надо отдать.
– Серьги не чужие, – воспротивилась Василиса. – Серьги Гулькины.
– Вот именно, что Гулькины! Да еще и татарские. И вообще, как я буду в глаза Эльвире Тимуровне глядеть? Мы что с твоим отцом нищие, золотые серьги не можем дочери купить? Можем! – воскликнула Галина Семеновна и подвинулась к дочери, протянув руку за одеколоном.
Юрий Васильевич с готовностью открутил крышку и подал жене. Парфюм был французский или почти французский, просто из Польши.
– Не жалко? – Василиса попыталась на секунду отсрочить страшный момент.
– Для тебя, дочь, – серьезно произнес Ладов, – нам с матерью ничего не жалко.
«Вот и плохо!» – проворчала про себя Василиса и вымученно улыбнулась отцу.
– Снимай, Васька, – приказала мать и показала дочери щедро облитую одеколоном серьгу из заветной коробочки.
– Я не умею, – вывернулась та.
– Э-эх, а туда же! – укоризненно посмотрела на дочь Галина Семеновна и храбро взялась за золотую дужку.
Василиса ойкнула, и руки у старшей Ладовой предательски затряслись.
– Больно? – побледнела она.
– Больно, – подтвердила дочь, наивно полагая, что сейчас мать отступится, махнет рукой и отложит все манипуляции на неопределенное время, а там, глядишь, и про рубиновые серьги забудется, и уши заживут, и можно будет вставлять все, что заблагорассудится. Но, заметив, как изменилась в лице Галина Семеновна, младшая Ладова тут же преисполнилась к ней невыносимой жалости и предложила:
– Давай я сама.
Напуганная мамаша возражать не стала и быстро-быстро закачала головой в знак согласия. И Василиса, переступившая через собственное сопротивление, мужественно вытащила из левого уха Гулькин золотой полумесяц и протянула руку за фамильным сокровищем. Вот здесь и началось самое неприятное: оказалось, что вытаскивать гораздо проще, чем вставлять. Во-первых, само движение напоминало прокол. Во-вторых, мочка распухла. И втретьих, младшая Ладова, как и всякий нормальный человек, в отличие от Низамовой, просто боялась боли.
Родители застыли над Василисой, как молодожены в загсе.
– Больно? – то и дело спрашивала Галина Семеновна у дочери и бросала красноречивые взгляды на побледневшего от напряжения мужа.
– Нормально, – успокаивала родителей Василиса и, зажав губу, снова и снова пыталась вставить сверкавшую рубином бабкину серьгу в измочаленное ухо. И когда это произошло, из родительской груди вырвался вздох облегчения и это при условии, что Василисина мочка увеличилась ровно вдвое.
– Теперь вторая, – прошептал Юрий Васильевич и приготовился к очередному этапу дезинфекции.
– Может, не будем? – неожиданно сдала свои позиции Галина Семеновна, и ее лицо скривила страдальческая улыбка.
«А как же?» – хотел спросить Ладов, но вместо этого промычал что-то нечленораздельное, кивая в сторону дочери. И как это ни странно, жена его поняла и даже ответила на непрозвучавший вопрос:
– Ну и что, что разные? Кому это мешает? Даже экстравагантно: в одном ухе – одна сережка, в другом – другая. Подумают, что это последний писк моды.
С «последним писком моды» Василиса не согласилась и легко вытащила золотой полумесяц из правого уха.
– Давай, – протянула она руку за рубиновым кошмаром и приготовилась к новой серии драматического сериала «Как стать красивой».
Со второй серьгой Василиса справилась гораздо быстрее, точным движением вставив ее в ухо.
– Слава богу! – в один голос воскликнули старшие Ладовы и начали обнимать друг друга.
«Совсем спятили!» – подумала Василиса и встала с дивана.
– Вы чего?
– Да ничего, Васька, – подскочила к ней Галина Семеновна и стала обнимать дочь с таким энтузиазмом, как будто не видела ее последние лет десять.
– Ма-а-ам, – попробовала высвободиться из материнских объятий Василиса, но вместо этого оказалась в еще более плотных тисках. Видя эту кучу-малу, обычно выдержанный Юрий Васильевич Ладов не справился с нахлынувшими эмоциями и сгреб в охапку свое женское царство.
«Три медведя», – промелькнуло в голове у Василисы, но она смирилась с отсутствием кислорода и послушно замерла, не мешая родителям наслаждаться жизнью. А что? Их чувства ей были понятны: вот они все вместе, в обнимку, довольны и счастливы… И никого, на самом деле, не волнует, что сама Василиса предпочла бы оказаться в других объятиях. Но судьба не торопилась исполнять обещанное и терпеливо готовила Василису Юрьевну Ладову к главной встрече ее жизни.
Именно об этом она подумала без пятнадцати шесть, когда затрещал будильник. Не встать было нельзя, потому что ровно через пятнадцать минут ее все равно разбудило бы громкое Гулькино приветствие.
То, что Низамова явится, Ладова знала наверняка. И мало того, что явится, еще и полдома перебудит. Хотя что это за время, шесть часов утра? Добрая половина соседей наверняка уже на ногах!
Большая стрелка будильника неумолимо двигалась к двенадцати – Василиса вздохнула и решила не умываться, боясь, что свою сирену Низамова включит как раз в тот момент, когда она будет в ванной. И тогда все человечество узнает о предстоящей пробежке и терпеливо будет ждать, высунувшись из окон, чтобы рассмотреть ее, Василисины, жирные ноги, обтянутые красным трико.
– Идешь? – встретила ее Гулька, как и обещала, прямехонько около подъезда.
– Иду, – буркнула Василиса, попутно отметив для себя, что на груди у Низамовой на цепочке висел хромированный свисток, ярко поблескивающий в лучах апрельского солнца. – Это зачем?
– Это? – Низамова прижала подбородок к груди, чтобы рассмотреть висевшее на ней спортивное снаряжение. – Это, Васька, для того, чтобы давать команды, – объяснила она и резко дунула в свисток: – На старт! Внимание! Марш!
– Слушай, – взмолилась Василиса и остановилась у тропки, ведущей к школьному стадиону. – Давай сюда не пойдем. Давай пойдем на твой.
– На мой?! – удивилась Гулька, жившая в двух кварталах ходьбы от ладовского дома. – А чё? Поближе нельзя?
– Нельзя, – грустно выдохнула Василиса, и Низамовой стало ее так жалко, так жалко, что она забежала вперед, резко обернулась и крепко обняла свою белоснежную толстуху, уткнувшись в уютный и теплый живот, втиснутый сначала в свитер, а потом в красную олимпийку.
– Васька! – Гулька чуть не заплакала и заискивающе посмотрела на подругу: – А может, ну ее эту физкультуру? Может, лучше курить начнешь?
Ладова опешила: столько мучений, проглоченных обид и все ради того, чтобы твоя близкая и единственная «подруга на всю жизнь» вдруг добровольно взяла и отказалась от намеченных планов, от спасения утопающего без участия самого утопающего?!
– Ты что? – Она аккуратно отстранила Гульназ. – Не веришь, что я смогу?
– Верю, – подпрыгнула Гулька, но уже через секунду выпалила: – То есть нет, конечно.
– Я смогу! – проревела Ладова и побежала трусцой. Низамова пристроилась рядом. Спустя десять минут стало ясно, что самая длинная дистанция, которую сегодня осилит Ладова, не превысит и двухсот метров.
– Васька! – Гулька бежала легко, это было видно по ее дыханию. – Ты потерпи! Скоро откроется второе дыхание! – пообещала Низамова, но тут же заткнулась под красноречивым взглядом Василисы. Это был взгляд человека, приговоренного к смертной казни, но при этом всерьез обеспокоенного тем, как принять смерть и сохранить при этом человеческое достоинство.
Щеки Ладовой зажили отдельной от своей хозяйки жизнью: при беге они умудрялись сотрясаться с такой частотой, что со стороны могло показаться – сквозь них пропустили электрический ток.
– Васька, – заскулила Низамова и забежала вперед. – Ну правда хватит. Чё так мучится?!
Но Ладова молча сжимала кулаки и продолжала, как ей казалось, нестись вперед. На самом же деле ее бег напоминал танец слона на арене цирка. Другое дело, что слон танцевал весело, вызывая улыбку у зрителей, а Василиса являла собой зрелище столь печальное, что Низамова не придумала ничего другого, как, отбежав метров на десять вперед, лечь на асфальт, чтобы прекратить поступательное движение Василисы к намеченной цели.
– Не пущу! – заорала Гулька и одновременно подняла вверх и руки, и ноги, став похожей на перевернутую букву «П».
– Куда ты денешься? – проворчала огнедышащая Ладова и, обежав подругу, двинулась дальше.
Тогда Низамова оглушительно засвистела, напугав не только Василису, но и проходивших мимо женщин. Издалека Ладовой было видно, как над Гулькой склонилось несколько прохожих, видимо, уговаривая ту встать с земли. Но Низамова не собиралась этого делать ни при каких обстоятельствах. Так, лежа на асфальте, она, судя по всему, умудрилась рассказать любознательным гражданам, чем вызван этот ее акт протеста. Во всяком случае Василиса только так могла объяснить, почему незнакомые ей люди призывно выкрикивают ее имя и приветливо машут рукой, показывая, что надо вернуться.
Перед Василисой встал выбор: бежать дальше или вернуться. Немного подумав, Ладова с облегчением выбрала второй, обосновав выбор тем, что иначе «эта дура Низамова в хлам простудит свои нежные почки».
– Идет! – загудела окружившая Гульку стайка собравшихся и с любопытством уставилась на девушку с растрепавшейся косой и свесившимися на пунцовое от бега лицо белыми прядями.
– Альбиноска! – догадался словоохотливый дядечка и показал пальцем на Василису.
– Сам ты альбиноска! – тут же выпалила Низамова и вскочила с земли: – Всем – спасибо, все свободны, всем – до свидания.
Такого поворота страждущие не ожидали, в легком Гулькином прощании с ними прозвучала черная неблагодарность: а ведь они тратили свое время, душевные силы и, если угодно, физические в том числе.
– Такая молодая, а такая наглая. – Женской половине зрителей не понравилось это Гулькино «Всем – спасибо, всем – до свидания».
– Наглость, женщины, второе счастье, – буркнула Низамова и рванула навстречу Ладовой: – Вась, – заискивающе поинтересовалась она у подруги. – Все? Идем домой?
– Тебе в другую сторону, – отбрила ее Василиса и, тяжело ступая в своих доисторических кроссовках, двинулась в сторону дома.
Гулька почувствовала себя виноватой. Но, видит бог, она так старалась, так старалась: встала ни свет ни заря, приперлась за два квартала к Васькиному дому, мерзла, как цуцик, апрель – это вам не май. А все для чего? Да чтобы этой толстой дурище помочь. Ну, не рассчитала, ну, бывает. Кто не ошибается? Чего ж сразу так: «Тебе в другую сторону!»
– Мне не в другую! – возмутилась Низамова, разобиделась и, резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошла домой.
Василиса даже не сразу поняла, что прошла половину пути в гордом одиночестве. Обнаружив пропажу, Ладова встала и долго смотрела вдаль, пытаясь обнаружить там следы словно испарившейся в воздухе Низамовой. «А ведь она как лучше хотела», – призналась себе Василиса, и ей стало неудобно: хоть беги и извиняйся. Настроение испортилось окончательно. Причем чем ближе она подходила к дому, тем хуже оно становилось.
Навстречу Ладовой двигались соседи, родители одноклассников, знакомые знакомых. И у каждого на лице Василиса читала искреннее изумление. И оно ей было понятно: слон в спортивном костюме красного цвета – то еще видение.
Тогда Ладова нарочно опускала голову вниз, как только на горизонте видела знакомые очертания, и изображала глубокую задумчивость. Но людям хотелось с утра жить по правилам, быть хорошими, поэтому они радостно улыбались ей и старательно выпевали: «Здравствуй, Василиса! Следишь за фигурой? Взялась за себя?»
Это был ужас: жизнь раскололась на две части. И водоразделом между ними выступало сегодняшнее утро, когда благодаря дурацким стараниям Низамовой ни о чем не подозревающая Ладова узнала, что ее полнота колет глаза стройному человечеству. А ведь еще вчера ее саму все устраивало, потому что она привыкла к себе такой – белой и рыхлой. Василисе стало стыдно: она кляла себя за собственное прекраснодушие, за любовь к сладкому, жирному, соленому, за нелюбовь к спорту… После таких открытий хотелось либо свести счеты с жизнью, либо съесть чего-нибудь эдакого, что хотя бы на минутку способно облегчить тягостное существование в миру.
«По большому счету, – успокоила себя Ладова, – лишний вес – это дело наживное. Есть ведь не только сложение, но и вычитание, даже деление. Сяду на диету. Перестану есть сладкое, откажусь от хлеба. Запишусь в бассейн. Когда похудею».
В общем, Василиса выбрала жизнь и в радостном предвкушении озаботилась тем,
«ЧТО ЖЕ У НАС НА ЗАВТРАК».
Проведя ревизию, Ладова обнаружила, что меню не вполне соответствует тем принципам, которые должны стать базовыми в ее питании. На столе стояла тарелка, полная истекающих маслом оладий. По соседству с нею – две розетки: мед, варенье на выбор. В плетеной корзинке сиротливо торчали две вафли с лимонной начинкой и рядом с ними в узбекской пиале с отколотым краем белели овальным бочком два сваренных вкрутую яйца.
Голодная из-за перенесенных страданий Василиса воровато оглянулась на часы – было начало девятого, – присела на табуретку и съела все. Раскаяние наступило сразу же, как только Ладова отправила в рот щедро вымазанный в варенье оладушек.
«Так дело пойдет!» – попробовала подшутить над собой Василиса и решила в школу не ходить. «Русский, две геометрии, физика и физкультура», – на память перечислила она расписание сегодняшнего дня и попыталась вспомнить, что задали. Это заняло у нее еще минут десять, потом Ладова обнаружила, что до сих пор сидит в спортивном костюме, снова посмотрела на часы, поняла, что первый урок закончится через пятнадцать минут, и с облегчением объявила себе выходной.
Подобными вещами Василиса никогда не злоупотребляла, хотя, безусловно, позволяла себе периодически прогуливать занятия, отсиживаясь то у Низамовой дома, то вместе с ней у себя. Из-за того, что подобная практика не была порочной, до родителей Ладовой никаких вестей из школы не долетало, учителя спали спокойно, и процесс образования шел своим чередом, иногда прерываясь неким зигзагом вольнолюбия. Он, кстати, всегда проходил незамеченным, потому что ни одна живая душа из Василисиных одноклассников никогда не задавалась вопросом: «А где сегодня обретается наша пухлая Ладова?» Как это ни странно, но ее отсутствия в классе практически никто не замечал. Ну, может быть, за исключением Тюрина и общественницы Юльки Хазовой, понимавшей, что Василисы нет, по следующему признаку: значительно улучшался обзор доски – обычно ее половина была закрыта широкой спиной, перерезанной толстым белым канатом косы.
Удивительно, но самая крупная по своим габаритам девочка 9 «Б» с редкой внешностью симпатичного альбиноса, в целом дружелюбная, спокойная и покладистая, никогда не пользовалась особой любовью класса. И к такому положению дел Василиса привыкла давно, и приняла его как данность, и спокойно жила, сохраняя со всеми ровные и ни к чему не обязывающие отношения. Наличие Низамовой легко заменяло ей все двадцать восемь человек одноклассников, придавая ее существованию весомую полноценность.
И так продолжалось ровно до двадцать шестого апреля, вошедшего в историю Василисиной жизни как день открытия новой Вселенной.
Ее старая, привычная, радовала своей неизменностью. Всего четыре планеты: мама, папа, Низамова и она сама собственной персоной, а рядом – вечный «спутник» из числа тех, что носят майки с надписью «Спартак». Одним словом, ничего лишнего.
Василиса, конечно, догадывалась, что где-то рядом существуют параллельные миры, но дух первооткрывательства был чужд ее натуре так же, как был чужд низамовский бабке русский язык. А вот Гулька, в отличие от абики, легко открывала двери незнакомцам, невзирая на предупреждения. С такой же легкостью Низамова взялась и за дверную ручку женской раздевалки чужой школы и была изрядно возмущена тем, что никто не смог дать ей внятного ответа на вопрос, где в данный момент находится ее подруга – Василиса Ладова.
После затянувшегося молчания Гулька дерзко обвела взглядом присутствовавших девочек и безошибочно направилась в сторону Хазовой, которую узнала по описаниям подруги: «Такая же маленькая и худая, как ты. Только челка на пол-лица и русая».
Они и вправду оказались похожи: одного примерно роста, с одинаково дерзким взглядом и гордой посадкой головы.
– Ты Хазова? – не церемонясь, спросила Низамова.
– Ну… я, – выдержав паузу, ответила Юлька.
– Поговорить надо, – склонила голову к плечу Гулька и показала глазами: – Отойдем?
– Ну, давай, отойдем, – бесстрашно ответила Хазова, хотя внутри неприятно екнуло.