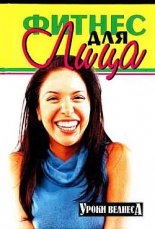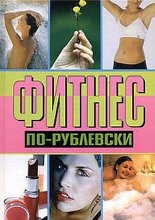Бомбы и бумеранги (сборник) Гелприн Майкл

Они стояли в тени под раскидистыми ветвями гигантского баньяна, дававшего хоть какое-то укрытие от тяжелого полуденного зноя. Жара в Ост-Индии была не такой, как в других частях света – воздух не просто накалялся, но плавился, заползал в легкие, словно раскаленное золото, обжигал, давил и душил одновременно. Эмерсон не знал, сможет ли когда-нибудь к этому привыкнуть, но, впрочем, сейчас он забыл о жаре, лишь только глянув на свою жену. Мэри была удивительно хороша сегодня – в голубом ситцевом платье, с голубым же тканевым зонтиком, небрежно закинутым на плечо. Ему стоило немалых усилий убедить ее сменить тяжелые европейские платья, привезенные из Англии, на более легкий ситец, в котором мучительная тропическая жара переносилась легче. Это платье для Мэри пошили во время их остановки в Бомбее, и, когда она надевала его, Эмерсон не мог отвести от нее глаз. Разумеется, рукава плотно охватывали руки до запястий, подол был достаточно длинен, а шея закрыта до самого горла, у которого поблескивали две перламутровые пуговки. Но, если напрячь воображение, сквозь тонкую ткань угадывалась батистовая нижняя сорочка и стройный стан, и когда Эмерсон думал об этом, у него перехватывало дыхание.
Он мог бы стоять здесь и любоваться ею часы напролет, а она едва бы это заметила; но рядом был Дженкинс, поэтому Эмерсон опомнился. Нежная и строгая красота Мэри так контрастировала с ее холодным скучающим тоном, что Эмерсон порывисто обернулся к управляющему, спеша возобновить разговор.
– Я одного не пойму, Дженкинс, где же кабина? Эта махина выглядит по всей длине одинаково, я даже гадать не возьмусь, куда помещается человек.
– Это очень просто, сэр. Никуда. Там нет человека.
– То есть… Вы хотите сказать, что она работает автономно? Сама по себе?
– Именно так. Как и все наши машины.
– Но на какой же она тогда тяге? Паровой? Или на вечном двигателе? – Эмерсон засмеялся собственной шутке, и Дженкинс любезно улыбнулся в ответ.
– В сущности, – проговорил он, растягивая слова, как делали многие англичане, давно живущие в Ост-Индии, – принцип работы этих механизмов неизвестен. Нам поставляют их в рабочем виде и предоставляют ремонтников в случае неисправности. Вот и все.
– Кто поставляет? Австралийцы? Я слышал, Джон Ридли недавно создал в Мельбурне революционную уборочную машину, – оживленно добавил Эмерсон, радуясь случаю блеснуть своими познаниями в аграрной индустрии.
Но Дженкинс остался к его познаниям равнодушен. Он покачал головой.
– Нет, сэр, не австралийцы. Их производят местные. Поселенцы.
– Что? Туземцы? Вы, должно быть, шутите?
– Нет, сэр. И я не сказал – туземцы. Я сказал – поселенцы. Вы непременно вскоре с ними встретитесь. О, да вот и один из них, легок на помине.
Дженкинс указал вперед, на дорогу, идущую вдоль поля. Эмерсон приложил ладонь щитком к глазам и в самом деле увидел человека, направляющегося к ним. Слепящее солнце светило прямо на незнакомца, и казалось, что вся правая сторона его тела сверкает и искрится в лучах, в точности как медное тело механической жатки, ползущей по полю.
Дженкинс приподнял шляпу, сказал: «Сэр, мэм» и поспешил вперед, навстречу гостю. Эмерсон почувствовал, как Мэри взяла его сзади под руку, и инстинктивно прижал ее к себе.
– Поразительно, – повторил он. – Я слышал, что дядя Джордж развел тут бурную модернизацию, но это поистине нечто невиданное. Никогда не встречал подобных машин, даже в газетах.
Мэри промолчала. Эмерсон бросил на нее обеспокоенный взгляд. Завитки соломенно-русых волос, взмокнув от испарины, облепили гладкий белый лоб его жены, и Эмерсону захотелось сдуть один из них. Но он не посмел.
– Все хорошо? – спросил он. – Ты устала? Хочешь, вернемся в дом.
Она покачала головой. Взглянула на него отчасти смущенно, отчасти – с жалостью. Она понимала, как ему тяжело. Слишком хорошо понимала, но ничего не могла поделать.
– Все в порядке, Чарльз. Побудем еще немного, – негромко сказала Мэри, и Эмерсон благодарно обнял ее за талию. А потом, не сдержавшись, поцеловал в темя, прямо в аккуратный пробор.
– Мы будем очень счастливы здесь, – сказал он.
Тем временем Дженкинс поприветствовал вновь прибывшего и повел его к чете Эмерсонов, ожидавшей под баньяном. По мере того, как они приближались, Эмерсону все больше казалось, что он перегрелся на солнце или, быть может, здешний жестокий климат сыграл с ним злую шутку. Но вот они уже стоят лицом к лицу, и Эмерсону пришлось употребить все свое самообладание, чтобы не позволить глазам расшириться в изумлении.
Когда ему чудилось, будто свет играет на человеке, как на машине, – это вовсе не было иллюзией. На человеке была рубаха без рукавов и короткие, до колен, штаны, что открывало взгляду его правую руку и правую ногу, сделанные из меди, с точно такими же заклепками, проводами и блестящими сочленениями, как и тело механической гусеницы на поле.
Пальцы Мэри, лежащие у Эмерсона на предплечье, вдруг судорожно сжались, сгребя ткань его сюртука в горсть. Но Эмерсон не взглянул на жену, не в силах оторвать взгляд от странного посетителя.
– Мистер Эмерсон, сэр, – церемонно проговорил Дженкинс. – Разрешите представить вам Говарда. Он полномочный представитель Поселения, все наши дела мы ведем преимущественно через него. Говард, это мистер и миссис Эмерсон, наши новые хозяева.
– Это честь для меня. Как поживаете? – сказал тот, кого Дженкинс представил Говардом (не прибавив «мистер», так что осталось неясным, имя это или фамилия).
Речь его звучала правильно, но голос казался странно невыразительным, блеклым. Он точно не был туземцем: за время путешествия через Ост-Индию Эмерсон достаточно повидал индусов, и уже ни с чем бы не спутал их характерные крупные черты, густые брови, большие блестящие глаза. У Говарда же черты лица были вполне европейскими, пожалуй, даже английскими – вытянутая форма черепа, тонкий нос с длинными ноздрями, острый подбородок. Но кожа его была оливкового цвета, а глаза – ярко-серого, именно ярко-серого, так, что казались серебряными. Уже одного этого хватало, чтобы признать внешность «поселенца» в высшей степени неординарной, а механические рука и нога довершали картину и превращали Говарда в самого необычного человека, какого когда-либо видел Эмерсон.
– Мы узнали, что в поместье новый хозяин, – проговорил Говард, глядя Эмерсону в лицо почти немигающим взглядом серебристых глаз, но обращаясь как будто к Дженкинсу. – Надеюсь, с ним не будет никаких проблем.
– О, разумеется, никаких. Ни малейших! – живо отозвался Дженкинс, улыбаясь очень широко, очень любезно, но, как показалось Эмерсону, не вполне искренне.
Он вдруг осознал, что Мэри все еще судорожно стискивает его локоть. Он посмотрел на жену, но, как обычно, ничего не смог прочесть на ее лице. Она казалась такой же спокойно и равнодушной, как когда Дженкинс показывал им механическую жатку. Вот только пальцы ее все так же сжимали в горсти ткань мужниного сюртука.
Говард кивнул раз, потом другой. На Мэри он не взглянул, и Эмерсон подумал, что рад этому. Затем Говард повернулся к Дженкинсу.
– Я могу забрать нашу часть?
– Да, конечно. Сейчас как раз кончается цикл. Простите, сэр, мэм, – Дженкинс снова приподнял шляпу и поспешил вместе с гостем к полю, по которому, фырча, как живая, и оставляя за собой идеально ровные снопы выпотрошенных стеблей, сноровисто ползала гигантская машина.
Эмерсон с Мэри стояли какое-то время, молча глядя им вслед. А потом вернулись в дом.
Они должны были уехать из Англии. Никакого другого решения не существовало. Эмерсон не уставал повторять себе это, страдая от жары даже по вечерам и отмахиваясь от толстых злобных москитов. Вечер не приносил ощутимого облегчения – напротив, от джунглей, раскинувшихся в полумиле от поместья, начинало тянуть болотистой сыростью и гнилью, навевавшей мысли о кладбище. Говоря начистоту, Эмерсону не нравилась Ост-Индия. И поместье дядюшки Джорджа, этот дом, довольно-таки запущенный, темный и неожиданно тесный – всего на шесть комнат, – не нравился тоже.
Но не уехать они не могли. Год назад Мэри потеряла ребенка. Их первенца, сына, которого они так радостно ждали… Но Бог рассудил, что они недостойны такого счастья. Мэри сама едва не погибла, и доктор сказал, что она не сможет больше иметь детей. Эта весть едва не убила ее. Мэри, его Мэри, раньше такая веселая, смешливая, живая, превратилась в бледную тень себя самой. Она сохранила свою красоту, и даже – хотя Эмерсону было больно признавать это – стала еще прекрасней, чем прежде, ибо страдание привнесло утонченность в ее черты. Но она перестала улыбаться и почти совсем перестала говорить. Она стала сдержанной, чопорной, немногословной – словом, такой, какой и должна быть настоящая леди. Вот только если бы Эмерсону нравились подобные женщины, он бы женился на Патриции Прескотт, как настаивали его родители, а не на этой девушке, которую полюбил когда-то всем сердцем. Он и сейчас ее любил и неоднократно говорил ей, что потеря не разрушит ни их брак, ни их счастье. Он повторял это каждый день уже целый год, и поначалу даже сам в это верил. Он надеялся, что время все излечит.
Но время ничего не излечило. А тут еще мать Эмерсона стала подливать масла в огонь, намекая, что хорошо бы ему развестись – да, это довольно хлопотно и отчасти скандально, но старая леди готова была пойти на такие жертвы во имя продолжения своего рода. Да и Патриция Прескотт все еще не замужем, и кто знает… Все эти бесконечные намеки и разговоры сводили Эмерсона с ума. Тем сильнее, чем чаще он сам ловил себя на подобных мыслях, лежа в холодной постели с молодой женой, отвернувшейся к стене.
Поэтому когда пришло сообщение о том, что дядя Джордж умер, не оставив наследника, Эмерсон воспринял это как знак свыше. Он никогда не мечтал бросить Англию и сделаться фермером в Ост-Индии, но сейчас готов был ухватиться за любую возможность, сулящую перемены. Быть может, смена обстановки пойдет на пользу Мэри, пойдет на пользу им обоим. Они купили два билета на корабль, и через несколько месяцев причалили в Бомбее. А потом их ожидало длинное, утомительное, но по-своему захватывающее путешествие по суше, полное бурных впечатлений и новых открытий. Увы, Мэри осталась равнодушна и к величественной красе Тадж-Махала, и к вычурной роскоши храмов Мурдешвара. Стоило ли ожидать, что ее впечатлит какая-то механическая жатка, пусть и движущаяся по полю сама собой.
Но чего не смогли сделать Тадж-Махал и механическая жатка, то, очевидно, совершил человек с серебряными глазами и протезами вместо руки и ноги. Тем вечером, сразу после ужина, Мэри пошла к себе и почти тотчас вернулась, неся мольберт и коробку с красками и кистями. Эмерсон, увидев это, едва удержался, чтобы не вскочить от волнения.
– Хочу немного поработать. Ты не против? – спросила она, словно робея, и Эмерсон, воскликнув: «Разумеется, нет!», дал ей место у окна, выходящего на поле.
Мэри была превосходной художницей, до свадьбы ей, кажется, даже прочили успех. Будучи беременной, она также часто бралась за кисть, но, потеряв ребенка, совершенно утратила интерес ко всему, в том числе и к рисованию. За время их путешествия по Ост-Индии она несколько раз делала карандашные наброски, но ни один не довела до конца. А вот сейчас вспомнила о мольберте. Эмерсон верил, что это добрый знак.
Он устроился в плетеном кресле с трубкой и газетой месячной давности (других в этой глухомани было не сыскать). Радхика – пожилая индианка, служившая еще дяде Джорджу, – принесла кофе, и Эмерсон пил, курил и любовался поверх газеты женой, наносившей краску на холст быстрыми, отрывистыми мазками. Она стояла к Эмерсону лицом, повернув мольберт к себе, и он не видел, что именно она рисует, зато видел напряженную складку, пролегшую между ее бровями, и сосредоточенно поджатые губы. Мэри никогда не выглядела счастливой, когда рисовала, но Эмерсон знал, что это лишь оттого, как глубоко ее захватывает работа. Отчасти за это – за способность столь полно отдавать себя любимому делу – он ее когда-то и полюбил.
– Взгляни, – сказала она часа полтора спустя, отступая от холста.
Солнце уже село, Радхика недавно принесла свечу – всего одну, и Эмерсон собирался отчитать ее за это. Если дядя Джордж любил сидеть вечерами в потемках, это не значит, что так теперь будет вечно. Эмерсон обошел мольберт, обнял Мэри сзади за талию – и посмотрел.
Она нарисовала Говарда. Человека с механическими протезами.
– Я весь день думаю о нем, – сказала Мэри после минуты напряженного молчания. – Это дурно?
– Нет. Думаю, что нет. Он действительно… впечатляет, – проговорил Эмерсон. Портрет получился довольно условным, но в то же время очень точным. От картины, сделанной наспех, исходило то же ощущение, что и от ее прототипа: ощущение непонятной силы и… инаковости. Да, пожалуй, именно инаковости.
– У него такие странные глаза, – сказал Эмерсон, и Мэри встрепенулась.
– Правда? Мне тоже они запомнились больше всего. Боюсь, у меня не получилось передать как следует.
– У тебя очень хорошо получилось, – признал Эмерсон, но почему-то это не прозвучало как похвала.
Мэри почувствовала это – они очень хорошо понимали настроения друг друга, до сих пор понимали, несмотря на все случившееся. Она живо обернулась, обхватила Эмерсона за шею руками. Пристально, почти требовательно всмотрелась в его лицо.
– Если не хочешь, я не буду больше его рисовать, – решительно сказала она.
«А ты собиралась еще? Одного портрета разве мало?» – едва не вырвалось у Эмерсона. Но вместо этого он сказал:
– Нет. Если это вдохновляет тебя, рисуй. Что угодно, лишь бы тебе было хорошо.
Он сказал это, немного покривив душой, потому что Мэри не было хорошо. Она смотрела на него ясно и прямо, ее губы подрагивали от возбуждения, а в глазах появился блеск, но… это был не вполне здоровый, почти лихорадочный блеск. И Эмерсон не сомневался, что ей не хорошо.
Но она ожила. Слава богу, она ожила, в первый раз за полтора года. Как он мог ей отказать?
Он жарко поцеловал ее, и она ответил на поцелуй.
На мельнице – хотя вернее назвать это помещение зернообрабатывающим цехом – было темно и еще более душно, чем снаружи. Воздух полнился специфическим запахом свежемолотой амарантовой муки и неровным гулом, который издавали несколько установленных внутри машин. Они составляли единую систему и работали слаженно, но стучали, ухали и трещали вразнобой, что создавало неприятную какофонию, режущую слух. Дженкинс подробно объяснил Эмерсону принцип действия каждой из машин, особо подчеркивая их высочайшую точность, впечатляющую производительность и почти полную автономию от человека. В самом деле, сейчас в цеху, кроме них, находился лишь один рабочий-индус, чья задача состояла в том, чтобы вовремя сменять мешки, в которые сыпалась из большого медного раструба первосортнейшая мука.
– Все же мне непонятно, на каком топливе они работают, – крикнул Эмерсон, заглушая стрекот машин.
– Никакого топлива, сэр! В том-то и дело! Одновременно с повышением производительности и снижением издержек на ручной труд мы получаем еще и полное отсутствие сырьевых затрат, что, в свою очередь…
И он опять залился соловьем. Эмерсон слушал его какое-то время, а потом, не утруждая более голосовые связки, кивнул на выход.
Они вышли из цеха, и Эмерсон закурил. Предложил Дженкинсу, но тот вежливо отказался, хотя Эмерсон не сомневался, что он смолит что есть мочи. В Ост-Индии курят все, это хоть немного отвлекает от изнуряющей жары и вездесущих москитов.
– Дженкинс, расскажите мне о поселенцах. Откуда они взялись?
– Это сложно объяснить, сэр. Они не туземцы, это я могу утверждать определенно. Более того, в их жилах течет европейская кровь. Они появились здесь задолго до Британии и долгое время существовали сами по себе.
– А как они производят свои машины? У них есть завод или что-то вроде того?
– Не знаю, сэр. Видите ли, я никогда не бывал в самом Поселении. И никто из местных не бывал.
– Вы не находите странным, что они достигли таких впечатляющих результатов в развитии технологий, находясь в полном отрыве от цивилизации? Ведь то, что о них не слышал никто в континентальной Европе, своего рода нонсенс. В наше время газетчики кидаются на любую сенсацию, точно свора собак на падаль. А это – истинная сенсация, Дженкинс.
– О, бесспорно, сэр. Но здесь не любят газетчиков. Думаю, дело в этом, – сказал Дженкинс так, словно это все объясняло.
Они помолчали. Эмерсон наблюдал за Говардом и еще одним человеком, тоже поселенцем. Они возились у задней части диковинной самоходной машины, которая привезла их сюда, катясь так бойко, точно была запряжена четверкой лошадей. Сейчас они сгружали в нее тюки с амарантом. Дженкинс объяснил Эмерсону, что поселенцы не признают никакой валюты, и между ними и владельцем поместья налажен натуральный обмен: поселенцы дают машины и обеспечивают их работоспособность, а взамен забирают половину урожая.
– Половину? Не многовато ли?
– Нет, сэр, в самый раз. В этих краях амарант поспевает рано, а благодаря механизмам поселенцев мы обрабатываем почву и засеиваем ее значительно быстрее, чем какое-либо фермерство Ост-Индии. То же касается сбора и обработки зерна. На выходе мы производим вчетверо больше чистого продукта, чем любой фермер мог бы получить с такой посевной площади, и первыми поставляем его на рынок. Наша мука считается лучшей, ее поставляют на личную кухню самого господина губернатора. Доходы достаточно велики, заказы от поставщиков расписаны на три месяца вперед, а наша репутация безупречна.
– Вы, я вижу, очень гордитесь успехами дядюшкиной фермы.
– О да, сэр. Весьма. Только теперь это ваша ферма.
Эмерсон не ответил. Он смотрел на второго поселенца, который со спины казался вполне обычным человеком – и руки, и ноги у него были на месте. Вот только стоило ему повернуться, и становилась видна чудовищная жестяная маска, закрывающая большую часть лица и часть темени. Вместо левого глаза торчал окуляр с выпуклой линзой, непрерывно вращавшейся в металлической глазнице.
– Они все такие? – негромко спросил Эмерсон. – Я имею в виду их протезы.
– Насколько мне известно, да, сэр. Я мало кого из них видел вблизи.
– Это несколько… необычно и даже пугающе.
– Совершенно с вами согласен.
Эмерсон докурил трубку как раз к тому времени, когда Говард со своим спутником закончили погружать мешки, сели верхом на своего странного железного коня и исчезли в джунглях.
Эмерсон вернулся в дом в муторном, почти что скверном настроении. Казалось бы, все складывалось как нельзя лучше: ему достался в наследство не просто кусок запущенной земли, но процветающее хозяйство, оборудованное по последнему слову техники. И Мэри наконец оживилась, теперь ее не узнать. Она не стала прежней, но это было уже и не то бледное, вялое создание, которое Эмерсон одновременно любил, жалел и которым втайне начинал тяготиться. Теперь в Мэри снова бурлила жизнь. Каждое утро и каждый вечер она брала мольберт, корзинку с едой и в сопровождении старой Радхики шла в джунгли. Не слишком далеко, разумеется, но Мэри утверждала, что там, среди неподвижных пальм и низко нависающих лиан, ей работается лучше. Она больше не показывала Эмерсону свои рисунки, но он предполагал, какого они могут быть содержания, и это его тревожило. Вот и сейчас – он пообщался с рабочими, осмотрел мельницу и уже вернулся, а она по-прежнему где-то бродит. Эмерсон вздохнул и со скуки уселся за расходные книги, которые представил ему Дженкинс в первый же день и до которых у него никак не доходили руки.
Изложенная в цифрах история дядюшкиной фермы, еще десять лет назад еле сводившей концы с концами, а теперь превратившейся в сверхдоходное предприятие, оказалась неожиданно увлекательной. Изучая отчеты, Эмерсон потерял счет времени и опомнился, лишь когда за окном начало смеркаться. В джунглях темнеет рано, и все же он бросил озабоченный взгляд на настенные часы. Половина восьмого! О Господи. Где же Мэри?
Снедаемый дурным предчувствием, Эмерсон вышел во двор. Немногочисленные рабочие уже разошлись, плантация стояла пустой и тихой, и лежащая без дела гигантская гусеница-жатка казалась дремлющим чудовищем. Эмерсон сбежал с крыльца, готовый кинуться в джунгли на поиски жены, и тут увидел Радхику, неторопливо идущую по дороге к дому.
Идущую в одиночестве.
Эмерсон мгновение стоял неподвижно, а потом бросился вперед. Через миг он схватил пожилую индианку за плечи и встряхнул, точно тряпичную куклу.
– Где Мэри? Почему ты одна?!
– Простите, сэ-эр, – протянула Радхика на ломаном английском. – Уж так оно вышло, сэ-эр.
– Как вышло? Господи, что ты несешь?! Где моя жена?
– Там, – сказала индианка совершенно невозмутимо и указала рукой на лес.
Эмерсон мгновение смотрел на нее, точно безумный. Чувство, что его жена попала в большую беду, стало огромным, как морской вал, и захлестнуло его с головой. Он не стал тратить больше время на расспросы женщины, хоть она и вела себя совершенно дико. Вместо этого Эмерсон сорвался с места и кинулся туда, где, как он знал, обычно коротала за мольбертом дни его жена.
Он нашел то место довольно быстро – следуя его просьбам, Мэри не отходила слишком далеко и держалась широкой тропы, проложенной в этой части джунглей. Ее мольберт, зонтик и шляпка валялись на смятой траве, рядом с рассыпавшимися булочками, которые Мэри взяла с собой, чтобы подкрепиться. Листы бумаги белели в изумрудной траве, усеянной ядовито-желтыми цветами. Эмерсон упал на колени в траву и сгреб руками эти листы.
Там были поселенцы. На всех рисунках. Говард, и тот второй, с окуляром вместо глаза, и другие тоже. Всех объединяло одно: механические части тел, темная кожа и серебряные, неподвижные, глядящие в самую душу глаза. И еще Мэри рисовала машины. Не только те, которые могла видеть на ферме.
– Боже, что это. Что это, черт подери, такое, – прошептал Эмерсон.
Его взгляд упал на последний рисунок, незаконченный – она, наверное, работала как раз над ним, когда на нее напали. Рисунок изображал конструкцию наподобие крепостной стены, усеянную бойницами, выдвижными пушками, еще какими-то непонятными и угрожающими компонентами. Она видела что-то. Эта чертова индианка завела ее в джунгли, и Мэри увидела что-то, что ей видеть не положено.
Эмерсон судорожно стиснул последний рисунок, вскочил на ноги и помчался обратно.
– Дженкинс! Дженкинс! Выходите сейчас же!
Дженкинс на правах управляющего жил в поместье, в небольшой пристройке позади дома. На бешеный крик Эмерсона он вышел не сразу, но на его лице была написана неподдельная тревога.
– Мистер Эмерсон, сэр? Что-то случилось?
– Эти твари… из Поселения… они забрали мою Мэри! – крикнул Эмерсон, задыхаясь.
Тревога тотчас исчезла с лица мистера Дженкинса.
– О, – произнес он. – Вот как.
– О, вот как?! И это все, что вы можете сказать?!
– Мне очень жаль, сэр. Я не мог подумать, что юная миссис может представлять для них интерес. Обычно они не трогают хозяев, я хочу сказать, что такого прежде ни разу…
Он осекся, когда Эмерсон сгреб его за грудки.
– Вот что, – прохрипел Эмерсон. – Я понятия не имею, что ты бормочешь, но ты немедленно отправишься за рабочими. Даю тебе на это полчаса. Потом мы выступаем в лес искать мою жену.
– Нет, сэр. Боюсь, это невозможно.
Эмерсон отпустил его. Дженкинс отступил на шаг и аккуратно расправил смятый воротничок. Опустил взгляд – и тут заметил рисунок Мэри, который Эмерсон все еще инстинктивно сжимал в кулаке, словно путеводную карту. Дженкинс нахмурился. Его голос зазвучал сухо:
– Я, конечно, могу послать за рабочими, но они откажутся приходить. Даже если вы пригрозите уволить назавтра их всех. Никто из местных не пойдет в Поселение, в этом я вам ручаюсь.
– Плевать, – выдавил Эмерсон, трясясь от бешенства, от страха за участь жены и от бессильной злобы, которую будил в нем этот любезный и безжалостный человек. – Без вас обойдусь.
– Это было бы опрометчиво. Видите ли, они не подпустят вас близко к стене. А сама стена заперта механическими воротами, которые невозможно открыть снаружи.
Эмерсон не удостоил его ответом. Он пошел на конюшню, седлал коня и вскочил на него, разворачиваясь спиной к джунглям. Дженкинс следил за его действиями с вновь появившейся тревогой. Вот только Эмерсон уже понимал, что тревожится он вовсе не за Мэри.
– Что бы вы ни задумали, сэр, не стоит, право! – крикнул Дженкинс ему вслед.
Но Эмерсон уже пришпорил коня.
Поместье располагалось в десяти милях от деревни индусов. Когда Эмерсон добрался туда, стояла уже глухая ночь, деревня была погружена во тьму и казалась вымершей. Но быстро проснулась, когда в нее ворвался всадник, выкрикивающий что-то на языке британцев. Этого языка в деревне никто не знал, включая старосту, разбуженного и выбежавшего на шум. С большим трудом, изъясняясь красноречивыми знаками и подкрепляя свои требования грозным видом, Эмерсон сумел наконец объяснить, что случилось. Едва индусы поняли, что он говорит о проклятом Поселении, как улицы тотчас опустели снова. Люди просто развернулись и ушли обратно в свои дома, совершенно перестав замечать Эмерсона. Староста остался немного дольше, но и от него Эмерсон добился лишь виноватого «нахи, нахи, манахай», что означало недвусмысленный отказ. Дженкинс сказал правду: никто здесь не желал и помыслить о том, чтобы вторгнуться в Поселение. Тем более ради белого плантатора-британца, который приехал сюда всего неделю назад.
Эмерсон уже стал отчаиваться, как вдруг ему наконец повезло. Из темноты выступило несколько небритых лиц – пять или шесть мужчин, плохо одетых, дурно пахнущих и крайне подозрительно выглядящих. Зато они говорили по-английски. Их вожак, плечистый громила с изрытым оспинами лицом, сказал, что ежели у мистера есть работенка и мистер готов заплатить вперед, то они согласны хоть к черту в пасть, потому как туземные суеверия для них значат не больше плевка. Эмерсон не сомневался, что это беглые каторжники или еще какие-то головорезы в этом роде. Более того, он понимал, что если отправится с ними в свое поместье, то они вполне могут ограбить и убить его по дороге. Но у него не оставалось выбора. Если Бог послал ему этих людей именно сейчас, когда он так нуждается в помощи, – не может быть, чтобы они его предали.
Он согласился на все их условия и вскоре уже скакал через лес обратно к плантации во главе небольшого отряда, с шумом рассекавшего качающиеся на пути лианы.
Как ни странно, наемники сдержали слово. В поместье Эмерсон направился прямо к сейфу, вынул из него тридцатьфунтов золотом и, выйдя во двор, вручил главарю. Тот пересчитал, кивнул и, быстро поделив оплату между подельниками, сказал, что можно ехать. Эмерсон выдохнул от облегчения. Теперь, с этими молодчиками, он был уверен в успехе. Он спасет Мэри из лап этих чудовищ, непременно спасет!
Та часть джунглей, что вела к Поселению, казалась почти непролазной. Но, углубившись в лес, Эмерсон обнаружил дорогу – широкую и столь тщательно укатанную, что она казалась вымощенной. По этой дороге поселенцы ездили на своих машинах, они, видимо, и проложили ее. Сейчас это сыграло Эмерсону на руку. Ночь стояла темная, лишь редкие звезды скупо поблескивали на небе, джунгли поднимались по бокам от дороги высокой душной стеной, волновались и дышали, точно живое, враждебное существо. Время от времени раздавались резкие вскрики обезьян и вопли неведомых птиц, неприятно похожие на плач человеческих младенцев. Но наемники держались бодро, не выказывая и тени страха, так что отряд продвигался через лес, все больше углубляясь в джунгли.
Туча, закрывавшая луну, рассеялась, и Эмерсон наконец увидел стену. Точно такую, как на рисунке Мэри. Только по рисунку невозможно было даже предположить, как она огромна. Футов пятнадцати в высоту, она тянулась на запад и на восток, нигде не образовывая углов или изгибов. Дорога упиралась прямо в нее, а по бокам стоял непролазный лес. Впрочем, Эмерсон не сомневался, что стену не удастся обогнуть или обойти. Он придержал коня в двадцати ярдах от стены и туго натянул поводья.
– Эй, вы! Там, за стеной! Мое имя Чарльз Эмерсон, и я пришел за своей женой.
Стена молчала. Во тьме невозможно было различить ее цвет и разглядеть конструкцию во всех подробностях. Эмерсон видел только, что это вновь сплав жести и меди, широких раструбов и клепаного металла, навесных карнизов и проводов – наподобие того, что он уже видел раньше. Стена не выглядела стеной – она выглядела еще одной машиной. Самой огромной и самой страшной из всех, какие можно представить. И непроницаемая тишина, которая ее окутывала, лишь усиливала это чувство.
– Если она цела, обещаю, что мы обо всем забудем. Я лишь хочу, чтобы она вернулась домой. Иначе вам не поздоровится. Я пришел не один! Мои люди…
– Да что тут лясы точить, – проворчал один из головорезов у него за спиной и, сдернув с плеча ружье, выстрелил в стену.
Сложно сказать, чего он хотел этим добиться, – возможно, просто заявить серьезность своих намерений. Раздался краткий металлический лязг, когда пуля, расплющившись о металл, упала в траву. А потом полыхнуло пламя. Эмерсон успел увидеть две яркие горизонтальные вспышки справа и слева, осветившие массивные ворота, увенчанные гигантским механическим поворотником. По бокам от ворот находилось нечто вроде бойниц, и эти-то бойницы выплюнули две струи огня, ударившие ярдов на двадцать вперед. Ударной волной Эмерсону сорвало с головы шляпу, волосы и брови опалило жаром. Он услышал истошное конское ржание и дикие вопли, и медленно, едва осознавая происходящее, поглядел по сторонам. Четверо наемников, стоящие по бокам от него, корчились на земле, объятые пламенем. Еще один убегал в лес, а шестой, точно обезумев, побежал прямо к стене, паля в нее из ружья на ходу и что-то неистово крича.
На стене коротко свистнуло, и туча стальных дротиков вонзилась в тело бегущего, проткнув в десятках мест с головы до ног. Человек рухнул в траву и больше не шевелился.
Эмерсон стоял среди дыма, огня и трупов. И среди тишины. На стене, как и за ней, по-прежнему было очень тихо.
Эмерсон сидел на крыльце, на нижней ступеньке, и смотрел на поле. Он не знал, долго ли так просидел. Солнце давно взошло и нещадно палило его обнаженную голову. Он потерял шляпу, и ружье, и лошадь, только не помнил, где. Никто из рабочих сегодня утром не явился на поле, горячий тропический ветер шевелил остатки зарослей несобранного амаранта на северной оконечности плантации. Дженкинс тоже не показывался. Над головой Эмерсона, очень низко, пролетел попугай с ярко-красным оперением, насмешливо и пронзительно крикнул и исчез.
День стоял на пике зноя, и дальняя сторона дороги подернулась дымкой. Поэтому когда Эмерсон увидел там человеческую фигурку, то сначала подумал, что это мираж. Он был измучен, ошеломлен всем случившимся, и не удивился бы, если бы у него помутился рассудок. Должно быть, так оно и случилось. Потому что чем ближе подходил человек, шагающий по дороге, тем больше Эмерсону казалось, что это… это…
Это была Мэри. Она шла неспешно, не теми легкими шагами, как когда-то, и не той тягучей, почти шаркающей походкой, что появилась у нее после болезни. Она шла так, точно несла на себе некий груз, который не тяготил ее, но который она не хотела бы повредить по пути. Ее платье исчезло, вместо него была просторная хлопковая рубашка с короткими рукавами и холщовые брюки, точно такие, как Эмерсон видел раньше на Говарде и том втором человеке из Поселения. Распущенные волосы Мэри свободно струились по плечам – Эмерсон уже и забыл, когда видел их такими, она всегда затягивала их в узел и прятала под чепцом или шляпкой. А сейчас ветер играл ими, забрасывал соломенные пряди ей в лицо, и они сияли на солнце.
Но самым невероятным было то, что она улыбалась.
Эмерсон встал и, покачиваясь, сделал шаг. Если это мираж, стоит рассеять его как можно скорее. Он пошел вперед, а потом побежал, когда понял, что мираж не исчезает. Он бежал и кричал: «Мэри, Мэри!», а она улыбалась и шла ему навстречу.
И только подбежав к ней почти вплотную, он понял, что еще изменилось в ней.
Ее кожа стала оливковой. Не столь темной, как у поселенцев, но… И еще глаза. Серебряный блеск в этих милых, нежных серых глазах.
– Мэри, – прошептал Эмерсон.
– Здравствуй, Чарльз, – ответила она.
Ее голос звучал любезно, как на светском рауте, и совершенно невыразительно. Эмерсон слишком хорошо помнил этот тон – именно так говорил с ним Говард. Пот, заливающий спину Эмерсона, вдруг сделался ледяным. Эмерсон схватил жену за плечи, притянул к себе, обнял…
И отшатнулся с криком, застрявшим в горле.
Ворот ее рубашки был распахнут намного смелее, чем могла себе позволить прежняя Мэри. И в прорези этого ворота Эмерсон увидел медь. Медь и жесть, склепанные между собой и затянутые тугими новенькими болтами. Эмерсон схватил ворот рубашки и рванул, обнажая грудь жены. То, что раньше было прекрасной девичьей грудью, теперь стало чудовищным куском мертвого металла.
У всех поселенцев есть протезы. Они не стали менять ей руки, ноги, глаза. Они заменили ей сердце.
Эмерсон рухнул на колени с клочками ткани в руках. Что-то необратимо менялось в этот миг в нем самом, в его разуме, неспособном сполна охватить и принять происходящее. Он посмотрел на Мэри снизу вверх, а она стояла все так же неподвижно, улыбаясь ему мягко и безразлично, как Мадонна с иконы.
– Почему? – только и смог выдавить Эмерсон.
– Потому что они позвали меня. Так нужно, Чарльз.
Он протянул к ней руку, коснулся мягкого, теплого бедра. Провел выше – и пальцы ткнулись в металл там, где живая плоть стыковалась с пластинами меди. Эмерсон отдернул руку, точно ошпарившись.
– Но это несправедливо, – простонал он. – Несправедливо!
– Я пришла сказать тебе, что ты сможешь остаться, только если будешь следовать правилам. Ночью ты получил предупреждение. Второго не будет.
Ночью? А что случилось ночью? Он уже не помнил. Его разум уже начал распадаться на куски.
– А можно я… можно мне тоже… с тобой…
– Нет, Чарльз. Тебе нельзя. Но мы будем видеться. Я иногда буду приходить.
– Правда?
– Конечно. Спроси у мистера Дженкинса.
Она смотрела на него еще какое-то время все с той же механической улыбкой, такой же искусственной и холодной, как ее новая плоть.
Потом повернулась и пошла по дороге обратно к джунглям.
– Хорошо, что вы ее отпустили, – тихо сказал Дженкинс у Эмерсона за спиной.
Эмерсон не слышал, как он появился. До сих пор он считал, что остался в поместье один. Он не повернул к Дженкинсу головы и не встал с колен. Его взгляд был прикован к Мэри, которая шла по дороге прочь, неторопливо и безмятежно, точно прогуливалась в парке.
– Вы знали, – спросил Эмерсон, не оборачиваясь, – что они это сделают с ней?..
– Я говорил, что вы ничего не можете изменить, сэр. Вам стоило меня послушать.
– Вам легко говорить.
– О нет, сэр. Совсем нелегко. Я понимаю вас, как никто иной. Ведь Говард – мой сын.
Эти слова заставили Эмерсона наконец поднять взгляд на управляющего. Пожилой джентльмен смотрел на него серьезно и печально.
– Ваш сын, – прошептал Эмерсон. – И вы позволили…
– У меня не было выбора. Как нет его и у вас. Вы можете лишь уехать – или остаться, чтобы видеться иногда… Только помните, всегда помните, что это больше не ваша жена. Что это – Поселение.
– Дженкинс, кто они такие?
Фигурка Мэри продолжала отдаляться. Вот ее снова подернула дымка, и опять кажется, будто это только мираж. А была ли Мэри для него чем-либо, кроме как миражом? Хоть когда-то?
– Они… – проговорил Дженкинс, тоже глядя вслед Мэри Эмерсон. – Скажем так: они – нечто принципиально новое. Нечто большее, чем новая человеческая раса. Может быть, новый вид. Их пока еще очень мало, они скрываются здесь, в дебрях джунглей, где их никто не может потревожить. А те, кто знает о них… что ж, у нас есть свои причины молчать. Ведь вы хотите снова увидеть ее? Даже такой.
– Не знаю.
– Разумеется, хотите. А если сюда забредут полицейские Британской короны, сыщики или газетчики, то вы убьете их. Убьете не задумываясь. Если, конечно, Поселение не преуспеет в этом до вас.
– Но чего они хотят? Что им нужно? Зачем они… о Господи… зачем? – спросил Эмерсон и заплакал.
Управляющий долго молчал, и в тишине разносились лишь глухие рыдания стоящего на коленях мужчины. Потом Дженкинс вдруг тронул Эмерсона за плечо:
– Глядите.
По небу летела птица. Только птицей она была не более, чем гусеница, лежащая в дальнем конце поля, была насекомым. Это была машина, раскинувшая по ветру громадные металлические крылья. Она парила над их головами, и ее огромная черная тень ползла по земле.
– Они еще очень юны, – сказал Дженкинс, глядя на птицу. – Еще не вошли в полную силу. Но они много работают. Они трудятся. Созидают. Растут. И придет день, когда они выйдут на свет Божий – о, я верю, сэр, что мы с вами оба доживем до этого дня. Они выйдут, и мир содрогнется. Мир содрогнется, сэр.
Дженкинс вдруг сорвал с головы шляпу и неистово замахал ею вслед механической птице, словно салютуя ее полету.
Птица описала еще один круг над поместьем и исчезла за стеной джунглей.
Андрей Кокоулин
Радость солнца
Когда Аджай привел к каменным ступеням крыльца девчонку лет двенадцати-тринадцати в грязно-зеленом сари, Даблдек только вздохнул.
– Ты хочешь оставить ее у нас?
Аджай поклонился.
– Да, сахиб.
Он упал на колени, потянув девчонку за собой.
Даблдек, наоборот, поднялся. Прабхакар, бородатый, насупленный, постелил на широкие перила открытой веранды белую ткань, и владелец поместья поставил на нее локти.
– Она говорит по-английски?
– Совсем немного, сахиб, – Аджай коснулся лбом земли.
– Откуда она?
– Бардхаман. Там волнения. Оттуда бегут многие.
Даблдек кивнул.
– Да, я знаю.
Он посмотрел на рододендроны, посаженные слева и справа от особняка и расцветшие пышными красными цветками, затем перевел взгляд на девочку. Непокрытая голова, черные волосы уложены в косу, тонкая ниточка пробора. Грудь едва оформилась. Кофточки-чоли под сари нет.
– Почему она пришла сюда, Аджай?
– Она шла куда глаза глядят.
– Ты подобрал ее здесь?
– Нет, сахиб, по дороге в Калькутту.
Высоко в небе, справа от солнца, висела точка воздушного шара.
– Ну и шла б она… в Калькутту.
– Я знаю, что вы добрый господин, сахиб, – Аджай снова приложился лбом к земле. – А у нее нет ни родственников, ни кого-нибудь, кто смог бы за нее заступиться.
Даблдек взял со стола чашку из тонкого, почти прозрачного фарфора, прищурился, глотнув, покатал на языке послеобеденный чай с молоком.
– Переведи ей, – сказал он Аджаю, чувствуя, как влажнеют от пота виски. – Обещает ли она слушаться и беспрекословно выполнять мои указания?
Аджай кивнул и, обращаясь к девочке, перевел сказанное на хинди. Ответа Даблдек не услышал, но Аджай сказал:
– Да, она обещает, сахиб.
– Что она умеет?
– В ее деревне выращивали рис и хлопок.