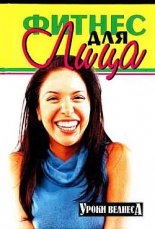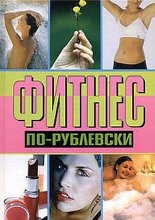Бомбы и бумеранги (сборник) Гелприн Майкл

– Сегодня вечером, – сказал он. – Или завтра утром.
– Уже?
– Вы думаете, они медлительны, как черепахи? – Китчнер покинул воздухоплавателей и, обойдя свежую земляную насыпь, оказался рядом с Даблдеком.
Дивья сделала маленький шаг назад.
– Какая славная девочка.
Офицер присел. Даблдеку захотелось ударить его коленом – слишком уж мертвые были у Китчнера глаза.
– Как тебя зовут? – спросил капитан, поймав девочку за оборку платья.
– Она не говорит…
Даблдек не успел сказать: «…по-английски».
– Дивья. Дивья Чаттерджи, – наперекор ему раздался тихий детский голос.
Китчнер улыбнулся Даблдеку.
– Ты очень красивая, – подергал он оборку, снова переключив внимание на девочку. – Ты отсюда? Кажется, я тебя где-то видел.
– Она отсюда, – сказал Даблдек.
– А может из Бардхамана? Я был в Бардхамане две недели назад, когда все началось. Там, в небольшом местечке, в полумиле к западу, есть железная колонна. Говорят, ее оставил Рама перед возвращением на небо, чтобы народ Индии вызвал его в случае большой беды. И эти ушлые индийцы зачем-то приспособили к ней электрический провод и подключили динамо-машину. А сотни две девочек и женщин сидели вокруг колонны и как будто вызывали дьявола. И пока мы не разогнали их, порубив большинство… – Китчнер прищурился. – Так ты из Бардхамана?
Дивья посмотрела на Даблдека. Он чуть качнул головой: молчи, девочка.
– Ну же, – поторопил Китчнер, – ты ведь из Бардха-мана?
– Я…
Даблдек замер.
– Я жить «Радость солнца», – сказала Дивья и просунула сухую ладошку ему в пальцы. – Это мой сахиб.
В доме Даблдек поспешно отпустил руку девочки и вытер влажные пальцы салфеткой.
Все, кто мог, глазели на приготовления военных. Фырканье и лязг паровых машин, гудки, стук поршней вызывали тревожный звон стекол.
Воздушный шар взмыл на двадцатифутовую высоту. Дно привязанной к нему корзины покачивалось в нескольких дюймах над землей. Однако два якоря и тиковое бревно не давали шару окончательно презреть тяготение Земли. Рядом была вкопана громоздкая катушка с канатом. Газобатареи стояли под тентом.
Гаубицы, задрав короткие рыльца, смотрели в выцветшее небо. Возле них возились расчеты, то подсыпая землю, то подворачивая колеса и лафет. Поодаль, в углублениях, покоились саржевые мешки с порохом, прицеп с запасом гранат и ядер стоял у стены на месте площадки, которую когда-то Даблдек намеревался сделать крикетной.
Пушки обустраивали за границей поместья, на склонах. Оттуда тоже взвивались клубы пара и раздавался машинный грохот.
От мелькания красных мундиров рябило в глазах.
В другое время Даблдек испытал бы гордость за соотечественников, которые слаженной работой и деловой армейской суетой, британским порядком подтверждали свое превосходство над индийцами да и, пожалуй, над всеми остальными народами. Но в голове его прокручивались цифры убытка и часы, необходимые для будущего возвращения поместью привычного, демилитаризованного вида.
Всюду были посты. Паровую коляску Даблдека приспособили для расчистки зарослей, мешающих артиллеристам.
Ближе к вечеру с ужасающим свистом в поместье въехала повозка, со всех сторон обшитая броневыми листами и с пушкой за коротким щитом.
Солнце, умирая, плеснуло на небеса кровью, и этот закат, торжественно-мрачный, полный кипения огня, поселил в сердце Даблдека тревогу.
Он вдруг решил срочно покинуть «Радость солнца».
– Я уезжаю, – сказал он Прабхакару, собирая саквояж. – Позови Аджая и Дивью.
– Слушаюсь, сахиб.
Сикх исчез, а Даблдек занялся бумагами, отделяя нужные от ненужных, словно агнцев от козлищ. Купчая, расписки Стенфорда и Маклоя, отчеты по чаю, банковские документы и векселя, письма от отца и братьев, бухгалтерская книга, счета от «Парберри и компании», благодарность от городской администрации, выписки из книг грузового учета. В процессе сортировки он не сразу заметил, что и Дивья, и Аджай какое-то время уже находятся в кабинете.
– Так, – сказал Даблдек, покашляв, – думаю, в поместье скоро будет жарко. В смысле, будут стрелять…
Он смотрел только на девочку, руками уминая в нутро саквояжа нужные листы.
– Вы поедете со мной.
– Да, сахиб, – склонил голову Аджай.
Дивья промолчала.
– Дивья, – Даблдек щелкнул застежкой, – ты поняла? Мы едем в Калькутту.
Девочка улыбнулась.
– Она придти и туда, – сказала она.
– Кто?
Аджай сквозь зубы произнес что-то на хинди. Дивья плюнула в его сторону.
– Кали, – сказала она. – Вы все умереть.
Аджай бухнулся на колени.
– Не слушайте ее, сахиб!
Даблдек прищурился.
– И я умереть?
– Англичане умереть, – кивнула Дивья. – Мы вызвать Кали.
Она рассмеялась громко, вызывающе. Даблдек ударил ее по щеке. Обиженно стукнули камешки украшения.
– Ты должна добавлять «сахиб»! – крикнул Даблдек. – Поняла? Я – твое будущее! Господин, хозяин, жизнь, наконец!
– Умереть! – прошипела Дивья.
Что-то в сердце Даблдека сломалось.
– Прабхакар! – позвал он и, когда сикх появился на пороге, еле сдерживаясь, сказал: – Свяжи ее. Она поедет со мной в Калькутту. Как рабыня.
– Нет, – сказал Китчнер, – никто никуда не поедет. Поздно.
Было темно. У палаток жгли костры. Поблескивал, ловя отсветы, металл гаубиц. Мрачный багрянец не сходил с неба. Даблдеку подумалось, что это не что иное, как предвестие конца света. Глупые мысли.
– Почему? – спросил он.
Китчнер посмотрел на него как на слабоумного.
– Вы разве не слышите?
– Чего не слышу? – удивился Даблдек, прижимая к груди саквояж.
Он замер.
Легкая щекотка возникла в районе пяток – оказывается, земля мелко подрагивала и гудела. А затем до слуха Даблдека сквозь привычные звуки индийской ночи донеслось отдаленное ворчание, перебиваемое ленивыми стукотками. Несколько напряженных мгновений, и он сообразил – стрельба. Пушечная и ружейная.
Господь всемогущий!
– Слышите? Так что никто и никуда, – повторил Китчнер. – Я до последнего не хочу выдавать позиции.
– Это где уже?
– Это впереди. И, возможно, сзади.
– Но ведь ночь!
– Я не знаю! – заорал Китчнер. – Идите в дом, сэр.
– А вот эта женщина, механическая…
– Заткнитесь, сэр.
– Но погодите… как же… вы должны…
Капитан развернулся и, игнорируя возгласы Даблдека, пропал во тьме.
Ночью никто не спал.
Земля содрогалась все сильнее. Фитили свечей дергались, гоняя тени по углам и потолку комнаты. Даблдек кутался в плед на кожаном диване и то соскальзывал в дрему, полную неясных видений и прозрачных нитей, то выныривал из нее, с трудом соображая, где он и что с ним. В саквояже, поверх бумаг, лежал револьвер. Аджай стоял у окна, подсвеченного отблесками костров и, кажется, за всю ночь ни разу не пошевелился. Связанная Дивья хихикала на кушетке и что-то шептала. После ее слов все больше мрачнел Прабхакар.
– Что она говорит? – вскинулся Даблдек после очередной фразы на хинди. – Скажите мне. Мне нужно знать!
– Она сумасшедшая, сахиб, – буркнул сикх.
– Аджай, скажи.
Молодой слуга обхватил себя за плечи.
– Она говорит о Кали, сахиб. О том, что чувствует ее, чувствует ее гнев, что меч ее еще недостаточно обагрен кровью иноземцев.
– Кали – это прошлое, – проговорил Даблдек. – Даже если из нее сделали механизм.
– Это не механизм, сахиб.
– А что? Статуя? Восставшие тащат статую богини за собой? Они настоящие безумцы! Вот уж не ожидал такого слепого поклонения!
Даблдек расхохотался.
– Это не статуя, – тихо сказал Аджай.
– Как не статуя?
Даблдек умолк. Даже под пледом ему вдруг сделалось холодно. Если не статуя, закрутилось в его голове, то что? Неужели они подразумевают нечто…
– Умереть, – произнесла Дивья. – Все умереть.
– Заткните ее кто-нибудь! – крикнул Даблдек истерично. – У нее – поганый язык!
– Нет, сахиб, – печально качнул тюрбаном Прабхакар, – нельзя заткнуть голос шакти Шивы, как нельзя перекрыть Ганг.
– Идти. Она идти, – засмеялась Дивья.
– Я сейчас застрелю ее! – Даблдек задергал застежку саквояжа.
Снаружи внезапно вспыхнула стрельба, звонко лопнуло одно из стекол, вскрикнув, упал на пол Аджай. Головнями разлетелся один из костров, брызнули искры, какие-то подвижные, вертлявые тени, покрутившись, перепрыгнули через стену, ограждающую поместье, и пропали в ночной тьме. Даблдеку почему-то привиделся у одной из теней длинный, заворачивающийся колечком хвост.
Прабхакар, потянув саблю из ножен, выбежал из комнаты.
– Куда? – запоздало крикнул Даблдек.
– Хануман, сахиб, Хануман!
– Какой Хануман?
Но Прадхакар его уже не слышал.
Даблдек беспомощно огляделся. Постанывая, ворочался Аджай.
– Какой Хануман? – спросил его Даблдек.
– Бог-обезьяна, сын ветра.
– Откуда? Это что? Разве это возможно?
– Это Индия.
– К дьяволу! – воскликнул Даблдек, поднимаясь. – Ничего этого нет! Ничего! Я не верю! Какая-то бессмыслица! Хануман! Кали истребляет англичан!
В дверях он столкнулся с Китчнером.
– Вы живы?
– Жив, как видите.
Лицо капитана было в крови, клок волос у виска выдран, один глаз закрылся, и вообще зрелище он представлял из себя жуткое.
– Все плохо? – спросил Даблдек.
Китчнер оскалился.
– Пропали два инженера и еще семь человек. И четыре трупа. Связи с орудиями на склонах нет. Какие-то твари… – он поморщился, прижав ладонь к голове. – Даблдек, вы мне нужны.
– Зачем?
– Подниметесь на шаре.
– Я?
– Не бойтесь, не высоко. Я размотаю канат, чтобы вы поднялись чуть выше особняка. Мне нужен хоть какой-то корректировщик огня. Правее, левее, недолет, перелет.
– Говорят, это Кали…
– Мне без разницы, кто это, – решительно сказал Китчнер. – Даже если там, в Бардхамане, у них получилось с помощью какой-то дьявольщины оживить свои поделки. Пока есть порох и ядра, сэр, мне, честно говоря, наплевать.
Даблдек оглянулся в комнату.
– Аджай, присмотри за Дивьей. Ты понял?
Затем он внушил себе, что услышал в ответ: «Да, сахиб».
Она была около сорока футов ростом.
Кали. Богиня с голубой кожей. Как если бы особняк Даблдека имел не два, а четыре этажа. Худая, четырехрукая, она медленно брела через джунгли, изредка взмахивая кривым мечом. Солнце обливало ее липким рассветным багрянцем, заставляя кожу искриться, будто рыбью чешую.
Даблдек подумал, что она не похожа на механизм. Но другой версии он боялся. В дыхании ветра ему чудился смех Дивьи.
Воздушный шар висел прямо над особняком – его слегка снесло с первоначального места. Дно корзины опасно продавливалось, и Даблдек так и видел, как проваливается вниз в треске сплетенных волокон.
– Что там? – крикнул Китчнер.
Сверху он казался маленьким и беспокойным.
– Идет! – напрягая горло, ответил Даблдек и приставил к глазам бинокль.
– Расстояние?
– Я думаю, около двух тысяч ярдов.
– Направление?
– Градусов на пятнадцать влево от особняка.
Обернувшись, Даблдек увидел, как по команде Китчнера артиллеристы подвернули гаубицы, расположенные в небольших углублениях. Наводчики приникли к измерительным трубкам. Слаженная работа расчетов пробудила в нем слабую надежду.
Он снова поймал Кали в окуляры бинокля.
Движения богини были замедленно-плавны. Она покачивалась. Направо-налево. Взмах меча срезал кроны. Рядом с ней, на открытых участках, муравьями копошились индийцы. Или это были обезьяны? Зеленовато-коричневые джунгли рассыпались, раздавались в стороны. Стаи птиц описывали большие круги в небе.
– Не механическая, нет, – прошептал Даблдек.
Он видел чудовище, древнее, уродливое, безжалостное, лишь в силу дремучести и страха выбранное индийцами предметом поклонения. Еще есть Шива, Вишну, кажется, Яма. Хануман! Конечно, он забыл Ханумана. Всех ли их вызвали? Все ли они восстали? Или каждому нужна железная оболочка?
Залп гаубиц Даблдека оглушил.
Смертоносный металл пробуравил пространство. Шар дернулся, корзина подскочила, саквояж, зачем-то прихваченный, шлепнулся с лавки на дно.
Несколько мгновений Даблдек раскрывал и закрывал рот, затем сообразил, что надо же посмотреть, куда попали снаряды. Он поймал бинокль за ремень.
Два снаряда легли правее Кали, один недолетел, взметнув вверх фонтанчик ветвей и листьев. Четвертый канул безвестно.
Нет, подумал Даблдек, это все не правильно. Я вижу мираж, игру воздуха и солнца. Будущее за нами. Правь, Британия! Подлые индийцы!
Мысли его смешались.
Он обнаружил вдруг, что дрожит. Весь, от кончика носа до пяток. Такой страх он испытывал всего раз, в детстве, когда, нырнув в пруд, увидел утопленника в мутноватой илистой воде. Глаза мертвеца были открыты и белёсы, а скрюченные пальцы, казалось, тянулись к Даблдеку, чтобы утащить его на глубину.
Жалко, что он не умер тогда. Ах, как жалко!
Даблдек зажмурился и сполз на дно корзины. С земли донеслось какое-то звяканье, хрипы, звериное уханье. Грянул одинокий выстрел.
Даблдек начал было молиться, но скоро понял, что слова его напрасны.
Кали приближалась. Она вырастала, высилась в древесном треске и рокоте собственного дыхания. Шаги ее порождали утробный гул.
Даже с закрытыми глазами Даблдек видел ее гневное лицо и синие груди с коричневыми сосками. Ближе, ближе.
«Как же так? – думалось ему. – Как же они не понимают собственной глупости? Вместо того, чтобы держаться прогресса, они оживляют собственное кошмарное прошлое! Воистину, мы мало их наказывали. Воистину, британец должен быть злее и беспощаднее, поскольку ему с высоты его цивилизационного ро…»
– Сахиб, – раздался детский голос.
Даблдек вздрогнул.
В одну их щелей корзины он разглядел лежащего на земле Китчнера с мертвым, запрокинутым лицом, а в другую – фигурку в зеленом сари.
– Дивья! – он перегнулся через борт, рискуя выпасть. – Дивья, спаси меня! Я же был хорошим хозяином!
Звонкий смех был ему ответом.
Девочка пробежала мимо мертвых британских солдат по запятнанному кровью песку к катушке с канатом.
– Жить? Умереть? – крикнула она.
– Жить!
– Тогда не возвращаться!
В ее руке золотой рыбкой сверкнул нож.
Канат был толстый, но Дивье хватило нескольких мгновений, чтобы его перепилить. Воздушный шар, получивший свободу, рванул вместе с Даблдеком вверх.
Вознесшееся над особняком грубо склепанное, железное лицо Кали, мелькнув, утянулось вниз, сжалась в точку Дивья, в кривые черточки превратились трупы, поместье, уменьшаясь в размерах, быстро заплыло сплошным зелено-коричневым растительным ковром, и у Даблдека осталось только солнце.
Скоро шар отнесло к океану, и слабый хлопок револьверного выстрела потерялся среди стремящихся к индийским берегам волн.
Вера Камша
Треугольник ненависти[6]
– В нескольких милях отсюда живет старый негр. Хочу с ним потолковать. То, с чем мы столкнулись, выходит за пределы понимания белого человека. Черные в таких делах разбираются лучше.
Роберт Говард, «Голуби ада»
И умер Петро.
Н. В. Гоголь, «Страшная месть»
Дверь кофейни распахнулась, и Адам Шиманский, за глаза чаще именуемый Хлюпом, возрадовался. Гость – отличный повод не закрывать заведения, а значит, не подниматься в квартиру, где с самого утра распоряжается теща. Хлюп всегда любил праздники, а сочельник с запеченным карпом и подавно, но пани Янина портила все, к чему прикасалась, а прикасалась она ко всему. Пока был жив тесть, бедствие переносилось сравнительно легко, но весной случилось непоправимое, и чертова перечница принялась портить жизнь дочерям и зятьям. Рождество – праздник семейней не бывает, в это время по кофейням не сидят, а, значит, закрыть их до срока не в убыток, но Адам тянул и дотянулся.
Посетитель сбросил пальто, тускло блеснули чужие эполеты, однако Шиманский узнал бы гостя пана Бурульбашева и без них. Данилув – город немаленький, но худой, высокий подполковник был фигурой примечательной, и городские газеты не обошли его появление своим вниманием. Начитанный Хлюп помнил, что проведший всю жизнь на востоке русский состоятелен, холост и не переносит кофе по-венски.
Журналисты любят приврать и приукрасить, но на сей раз они написали истинную правду. Подполковник, его звали Сергей Юрьевич Волчихин, в самом деле любил крепкий кофе. Еще он любил жару, непривычные славянскому уху наречия и черные глаза, а вот угодливости и слякоти не терпел. Увы, в славном городе Даниэльберге, бывшем польском Данилуве и еще более бывшем червонорусском Данилове сырости и угодливости хватало. Электрический трамвай, телефоны и прочие выдумки сего никоим образом не искупали, но здесь была Ривка и здесь было дело. Единственное, подошедшее изрядно поистрепавшему здоровье подполковнику.
Девятнадцать лет из своих сорока четырех Сергей Юрьевич отдал диким азиатским краям. Счастье Серги-бея составлял риск, причем отнюдь не всякий. Сын небогатого тамбовского помещика, заядлого охотника и отъявленного задиры не находил удовольствия в драке ради драки, а к бретерам относился с презрением. Впрочем, задирать «тамбовского волка» желающих не находилось даже в провинциальном юнкерском училище. Товарищи балагурили и радовались жизни, Волчихин учился.
Проявляя недюжинные способности к экзотическим языкам, он по собственной инициативе выучил с дюжину, включая узбекский, и смог добиться назначения в отряд генерала Черняева. Неоднократно проникал во вражеский тыл в качестве лазутчика, поначалу вместе с опытными старшими товарищами, затем сам. Участвовал во взятии Ташкента и разгроме бухарской армии в Ирджарской битве, был дважды ранен и награжден двумя офицерскими георгиевскими крестами. В дальнейшем участвовал в походе против Хивинского ханства и, сумев проникнуть в Хиву, способствовал взятию города 29 мая 1873 года, за что был награжден уже Святой Анной и произведен в штабс-капитаны. После чего прогремел на весь Туркестан, набив морду старшему по званию, пытавшемуся влезть в гарем дружественного бека.
Военный суд Волчихина полностью оправдал – сказалось заступничество командующего Туркестанским военным округом, но побитый оказался злопамятным и к тому же имел влиятельную родню. От предложенной по всем правилам дуэли прохвост уклонился, но пакостить начал. Черняев, узнав об этом, предложил толковому офицеру уйти в длительный отпуск «для поправки здоровья» и отправиться на Балканы. Разумеется, Волчихин согласился. Во время разгрома сербской армии под Джунисом попал в плен, но успешно бежал, убив турецкого солдата и переодевшись в его форму. Когда в войну вступила Россия, успевший заговорить по-сербски и болгарски Сергей Юрьевич присоединился к Рущукскому отряду цесаревича Александра и под Еленой, когда пять тысяч русских были атакованы двадцатью пятью тысячами турок, умудрился обратить на себя внимание будущего императора.
Майорский чин, Святая Анна уже третьей степени и золотое оружие не заставили ждать, но главным для Волчихина стало возвращение в любимый Туркестан. Недоброжелатели дружно поджали хвосты, зато появились серьезные люди из Петербурга. Встречи с ними дурно сказались на волчихинском здоровье, которое следовало немедля поправить.
Майор лечился, поставляя оружие афганцам во время англо-афганской войны, после чего участвовал во взятии Геок-Тепе, причем сумел отговорить несколько влиятельных кланов от выступления на стороне защищающих крепость текинцев. К Аннам прибавился Владимир, после чего здоровье Сергея Юрьевича вновь пошатнулось. Лечиться пришлось испытанным способом, чем майор, а затем подполковник и занимался, пока очередная пуля и малярия не превратили черняевскую выдумку в правду.
Белые пески, синие горы, смуглые бородачи, горбоносые тонконогие кони – все это стало прошлым. Остались ордена, высочайшее расположение и некоторое количество лет, которые следовало к чему-либо приспособить. Перебраться в столицу, объехать вокруг земного шара, выучить еще с дюжину языков, написать роман, жениться, наконец…
Восторженные девицы и дамы не обошли бы благосклонностью героя многих войн и походов, а солидные отцы были бы не прочь увидеть зятем военного, угодного самому государю. Увы, Сергей Юрьевич не стремился ни к розовому семейному счастью, ни к государственной карьере, ни к большим деньгам. Спасение явилось в лице генерала Потрусова, что, еще будучи в полковничьем чине, раз за разом доводил вернувшегося с Балкан майора до всяческих «хворей».
За время разлуки серьезный человек лишился даже той чахлой растительности, что прежде украшала его череп, но в остальном почти не изменился. Разве что вырос в чинах, о коих тотчас попросил забыть.
– Общая младость стирает морщины с лиц и звезды с эполет… О делах твоих наслышан, что надумал?
– Я не думаю, – негромко откликнулся подполковник, – я надеюсь. На вас.
– Мы на тебя тоже надеемся, хотя дело для тебя, ежели согласишься, новым будет. Ты Балканы средь песков не забыл? Антона Бурульбашева помнишь?
– Помню.
– И он тебя помнит. Не любопытно, с чего их сиятельство встречи ищут, да не напрямую, а с вывертом?
– Любопытно. Как меня выверт сей от министерства с академией избавит.
– Так и мне любопытно. Дело у Бурульбашева, если оно в самом деле есть, странное, что-то он сам расскажет, что-то прочитаешь, а начало – с меня. Антон Данилович о том знает, с того и запаздывает. Семейное белье приличные люди перетряхивать не любят, а без этого толку не добьешься.
Бурульбашевых графами за немалые заслуги матушка Екатерина сделала, и не прогадала. Толковые люди были, захочешь, почитаешь про них. Антоша тоже молодец, а вот брат его старший по младости отличился.
Дурь его, впрочем, была самого безобидного толка. Карбонариев Федор Данилович не одобрял, но полагал своим долгом искупить хотя бы часть страданий, что принесла знать народу. Особое впечатление на юный ум произвела малороссийская поэма о девице, соблазненной и брошенной молодым офицером. Ничего нового в сравнении с «Эдой» Баратынского или пушкинскою «Русалкою» сей опус не являл, однако наследник Бурульбашевых вознамерился связать свою судьбу с обесчещенной девицей низкого звания и обязательно из Малороссии. Семейство не отнеслось к сему серьезно и ошиблось – Федор за свои слова отвечал. Невесту он подбирал придирчиво: мещанки и тем более дворянки, какие бы несчастья на них ни валились, безжалостно отвергались. Наконец, в Полтавской губернии ему сказали о юной поселянке, пытавшейся утопиться в мельничном омуте. Несчастную откачали, а мельник оказался настолько добр или же настолько виновен, что взял ее в дом. Спустя полгода грешница, кою, словно по заказу, звали Катерина, благополучно разрешилась от бремени ребенком мужеска полу, окрещенным Петром. Молодая мать осталась на мельнице, где ее и нашел Бурульбашев.
Скандал вышел отменнейший, однако таинство брака свято. Старый граф, смирившись, истребовал из армии младшего сына, коему отныне предстояло служить отечеству на партикулярном поприще, но за двоих. Молодые же оказались в весьма щекотливом положении: Катерина не только встретила бы холодный прием, она просто не могла войти в общество по причине полнейшей неграмотности и неумения себя вести. Федор это понимал и не стал подвергать семейство подобному испытанию. Он увез жену с пасынком, заботу о котором взял на себя, за границу. Супруги объехали всю Европу и наконец осели в Галиции.
«Похоже, теперь будет Австро-Венгрия, – промелькнуло в мыслях внимательно слушавшего подполковника. – Не бог весть что, но хотя бы не Генеральный штаб».
– Брак на удивление оказался удачным. – Генерал неожиданно и весело улыбнулся. – Не знаю, слышал ли ты в своих пустынях о юродивых, пытавшихся, по их собственному выражению, идти в народ, но вылетали данные господа из оного, как пробка из дурно охлажденного шампанского. Графиня Катерина, однако, явила мужу тот народ, коего он искал. Она позволяла себя учить и училась, не забывая, кем родилась, и не пытаясь стать светской дамой. Супругам вдвоем не было скучно, а ведь скука и привычка гасят самое яркое пламя. Имело место и взаимное влечение, брак дал обильные плоды, причем, проживай Бурульбашевы в Петербурге или же Малороссии, они вряд ли бы вырастил своих детей столь верноподданными.
– С ними что-то случилось?
– Угадал. Год назад погиб старший сын вместе с сестрою. Графиня после этого напрочь отказалась видеть своего первенца. Более того, мать настояла на том, чтобы сын не получил никакой выгоды от смерти других членов семейства. Бурульбашев, однако, выделил Петру хорошее содержание, кое должно урезаться с каждой смертию в семействе и вовсе прекратиться со смертию самого Федора Даниловича. Желаешь что-то спросить?
– Позднее.
– Хозяин – барин… Если старшая ветвь Бурульбашевых увянет, наследство перейдет к Антону Даниловичу, чье состояние сейчас значительнее братнего, а положение, кое он занимает, и отношение к нем государя исключают саму мысль о чечевичной похлебке. Младшие сыновья Федора не вошли в приличествующий убийцам из корысти возраст, кроме того, несчастие произошло в их отсутствие. Если б не два обстоятельства, я бы счел поведение графини следствием помешательства.
Потрусов замолчал, вперив пристальный взгляд свой в собеседника. Он ждал и дождался.
– Первою из причин, – начал Волчихин, – является интерес, коий к сему делу не может не проявлять Вена. Разговор же наш предполагает, что я гожусь для разрешения сего дела, хоть и не знаю местных наречий, а по-немецки изъясняюсь не лучшим образом.
– В Галиции, если ты там задержишься, твое собрание языков прирастет самое малое польским, но в главном ты прав. Трагедию в семье Бурульбашевых местные власти без внимания не оставили. Наша же сторона итогами расследования не удовлетворена. Антон Данилович желает направить к брату надежного человека, который сможет охранить его жизнь. Твой приезд будет выглядеть совершенно естественно. Мало того, ты получишь возможность не только ознакомиться с выводами местных чиновников, но и провести собственное расследование. Возможно, ты женишься или же случится нечто иное, что заставит тебя под тем или иным предлогом остаться в Австро-Венгрии на длительный срок.
– Я бы предпочел если уж не Туркестан, то колонии. Английские. Не все им к туркестанским границам подползать… С туземцами я через пару месяцев объясняться смогу, так почему бы мне не оправить здоровье, к примеру, на Цейлоне?
– Римские колонии частенько возникали вдали как от моря, так и от самого Рима. В Галиции ты будешь не столь уж далеко от столицы Римской Дакии.
– Со времен Рима мир изрядно вырос.
– Эти места так и остаются захолустьем[7], хоть из Вены смотри, хоть из Петербурга… В них только и смысла, что плохо лежат. Между нами лежат и, черт ее бей, Европой, а государь не исключает в не столь отдаленном будущем войны, в которой против нас вновь объединятся двунадесять языков.
Кофе Хлюп варил с особым тщанием, и получилось отменно. Подполковник оценил и сорт, и крепость, а пан Адам оценил польский гостя, получил заказ на вторую порцию и ушел. Кофе в самом деле удался, но особый вкус напитку придавало то, что был он в жизни подполковника, скорее всего, последним. Вот на пару папирос Сергей Юрьевич рассчитывать еще мог. Волчихин пил медленно, смакуя каждый глоток. В своем выборе, как и в своих выводах, он не сомневался, хотя в Петербурге предпочли бы живого полковника уничтоженному упырю. Если это, конечно, упырь.