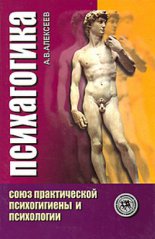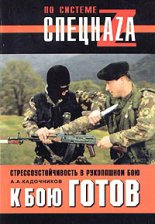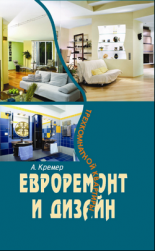Разум VS Мозг. Разговор на разных языках Бертон Роберт

В декабре 2010 г. New York Times сообщила, что группа исследователей из Гарварда и Массачусетского технологического института разработала метод раскрытия полной схемы соединений мозга. Чтобы довести метод до совершенства, они начали с того, что расслаивали мозг мыши на ультратонкие слои, которые могли быть видны только под электронным микроскопом. Фотографируя слои, а затем собирая композиционное изображение, можно открыть все связи каждой нервной клетки в нервной системе. Их целью было перенести этот метод на человека и таким образом «построить полную карту разума» [212]. Исследователи сказали, что этот проект, аналогичный проекту человеческого генома, будет открывать психическую конструкцию личности, открывая то, как хранятся воспоминания, кодируются личные качества и навыки. В сентябре 2010 г. Национальный институт здравоохранения выдал им $40 млн в грантах на развитие «Human Connectome Project» («Проект человеческого коннектома»).
Чтобы получить представление о масштабе этого проекта, подумайте о цифрах. На сегодня единственная доступная анатомическая схема нервных соединений принадлежит микроскопическому червю. Карта 300 нейронов и 7000 их соединений была проектом, обеспечившим авторов Нобелевской премией и занявшим более десятилетия для успешного завершения. В мозге мыши 100 млн нейронов, каждый обладает большим числом связей. Чтобы сохранить информацию о строении одного кубического миллиметра мышиного мозга, потребуется 1 петабайт (1000 Тб = 1 000 000 Гб) памяти – хранилище данных такого объема необходимо Facebook, чтобы хранить 40 млрд фотографий. Человеческий мозг с его 100 млрд нейронов и 100 трлн синапсов потребует миллион петабайтов памяти для хранения всех изображений. По словам Джеффа Лихтмана, гарвардского профессора молекулярной и клеточной биологии, соавтора проекта коннектома: «Мир пока еще не готов к массиву данных в миллион петабайтов, которым станет человеческий мозг, но это время придет».
Это кажется невероятным вызовом в вопросе сбора и хранения данных. Но даже если это препятствие удастся преодолеть, чему мы можем научиться? Исследователи предполагают, что моментальный снимок, сделанный в конкретный момент времени, обеспечит долговременную картину соединений в мозге. Хотя они с готовностью признают, что мозг пластичен и постоянно меняет свои связи. Но как заманчива перспектива создания схемы связей мозга!
Гэри С. Линч, нейробиолог из Калифорнийского университета в Ирвайне: «Не имея детального плана, мы никогда ничего не достигнем в наиболее фундаментальном и интересном вопросе, который в первую очередь привлекает каждого к нейробиологии: что такое мысль, сознание?»
Хорошо, допустим, у нас появилась полная схема мозговых связей, где отражена каждая связь каждого нейрона в каждый момент времени. Поскольку этот метод требует посмертного деконструирования и реконструирования ультратонких слоев ткани мозга, интервью с подопытным невозможно. Нам необходимо найти некоторый анатомический эквивалент выражения мысли или демонстрации настроения. Но отвратительные мысли не выглядят как злые нейроны, а хорошее настроение не представлено смайликом в синаптической везикуле. Мысли не сопровождаются этикетками или подвешенными пузырями с текстом, как в комиксах. Мы остаемся все с той же проблемой: мы можем знать о содержимом сознания, только напрямую общаясь с человеком.
Если Линч прав, и многих ученых нейробиология привлекает как путь к пониманию мышления и сознания, университетские консультанты по карьере должны учесть, что карьера исследователя мозговых связей не приведет наших будущих ученых ни на йоту ближе к ответам на эти вопросы. Методика Проекта человеческого коннектома, если достигнет успеха, может обеспечить наглядную и ценную схему изучения взаимодействия частей мозга. Но вера в то, что знания схемы соединений мозга скажут нам что-то о природе сознания, подобна попытке предсказать, какой звук будет издавать комплект динамиков, глядя на схему соединения компонентов системы. Даже располагая идеальным знанием того, как биты информации конвертируются в звуковые волны, вы не станете покупать стереосистему, основываясь на схеме соединений. Соединения нейронов не предсказывают качества осознанного опыта.
И все же Проект человеческого коннектома приветствуется с евангелистическим возбуждением. Посмотрите на TED-презентацию[53] Себастьяна Сеунга, профессора нейроинформатики Массачусетского технологического института и со-создателя Коннектома [213].
Перед тем как начать свою речь, Сеунг попросил аудиторию проскандировать вместе с ним: «Я – это мой коннектом». Сеунг утверждает, что мысли, личные качества и воспоминания хранятся в связях между нейронами, а раз так, то мы сможем восстанавливать содержание памяти из структуры связей в мозге. «Воспоминания хранятся в виде серий синаптических связей в рамках коннектома. Последовательность нейронов, которую мы извлечем (с помощью коннектома), будет предсказанием нейронной активности, воспроизводящейся в мозге во время вызова воспоминания. И если все пройдет успешно, это будет первым примером чтения памяти из коннектома».
Из оптимистического прогноза Сеунга ускользнула проблема методологии узнавания содержания мысли при взгляде на цепь синапсов. Что за беда? Сеунг продолжал: если крионическая заморозка мозга сохраняет коннектом, воспоминания могут быть возрождены, – и закончил на высокой ноте: «Коннектомы будут символизировать поворотный пункт в истории человечества… Со временем эти новые технологии станут настолько мощными, что мы будем использовать их для познания себя. Я уверен, что это станет путешествием самопознания для каждого из нас».
Подведем итог. Сеунг предполагает, что мы можем напрямую считывать наши воспоминания со схемы наших нейронных связей, что эти воспоминания могут быть сохранены после смерти, если наши нейронные связи будут защищены от посмертных изменений, и что это исследование может быть поворотной точкой в истории человечества. Я не могу представить себе лучшего примера магического мышления, основанного на вере. Вера Сеунга: разум и его содержимое должны быть полностью представлены в наших синапсах и их связях.
Проект коннектома, очень даже возможно, принесет важную информацию для понимания болезней и психических расстройств. Но вера в то, что описание анатомии является эквивалентом описания мыслей и воспоминаний, – огромная ошибка. Понимание анатомии необходимо, но недостаточно для понимания разума.
Глава 12
Моральный характер – факт или фикция?
Первые люди, вероятно, не знали, где заканчиваются их мысли и начинается сознание зверя.
Дорис Лессинг
Какие из нижеприведенных утверждений кажутся наиболее обоснованными?
Чампади Раман Мукундан, основатель метода BEOS, который помог установить причастность девушки к убийству в Мумбаи: «Человек не обречен на то, чтобы быть управляемым природой. Человеку предназначено управлять природой».
Стивен Хокинг: «Философия мертва» [214].
Фримен Дайсон, физик-теоретик: «Наука – это не законченное собрание истин. Это продолжающаяся разгадка тайн» [215].
В начале моей подготовки я слушал, как нейрофизиолог Джон Экклс описывал свои исследования синапсов, принесшие ему Нобелевскую премию. Представив свои данные ученым, столпившимся в небольшом конференц-зале Калифорнийского университета в Сан-Франциско, он отключил диапроектор, вышел из глубины подиума, сел на ближайший стол и тихо сказал нам, что мозг и разум – это две различные сущности. Особенно живо я вспоминаю чувство, что отключение проектора и выход с подиума к столу намеренно демонстрировали окончание научной части его разговора и подразумевали, что замечание о разуме было скорее личным размышлением, чем опиралось на твердые научные данные. Слушатели поняли разницу. В конце концов, Экклс был нейрофизиологом, а не философом. Никто всерьез не надеялся, что эти два поля имеют много общего хотя бы в чем-то или что метафизические высказывания являются чем-то большим, чем беспочвенными размышлениями человека, вышедшего за рамки поля своей компетентности. (Приблизительно в то же самое время я слышал, как выдающийся британский философ саркастически заметил, что головной мозг – это узел на конце спинного мозга, который не дает рассыпаться позвоночнику.)
Джон Экклс должен служить поучительным примером каждому, кто использует науку о мозге для объяснения разума. Исторический вклад Экклса в фундаментальную нейрофизиологию вымостил путь для нашего понимания нейротрансмиссии. Между тем его размышления о дуализме разума и тела были отправлены в мусорный ящик вместе с другими устаревшими теориями. К счастью, Экклсу хватало здравого смысла не подавать свои личные убеждения как строгую науку.
Времена меняются. Соедините быстрое развитие высокосложных инструментов для исследования мозга с широко принятым в нейробиологическом сообществе мнением, что мозг и есть разум (или создает разум), и получите идеальную среду для увековечивания растущей веры – как среди научного сообщества, так и среди широкой общественности, – что нейробиология потенциально способна дать ответы на вековые философские головоломки. За последние несколько десятилетий нейробиология, некогда скромная лабораторная поддисциплина с минимальным практическим применением, неизвестная широкой общественности, превратилась в наиболее заметное исследовательское поле с позиции авторитета, воздействующей на интеллектуальное сообщество [216]. Хорошая новость в том, что возросший интерес к мозгу привлекает некоторых наших наиболее одаренных студентов, и это способствует повышению финансирования и, что наиболее важно, вытекающему отсюда глубинному пониманию функций мозга. А вот плохая: нейробиологи начинают играть роль королей философии, что является естественным следствием стремления теоретизировать за пределами образования и компетенции.
Упущенной из виду или игнорируемой в воодушевленном поиске научных ответов на философские проблемы остается тяжело перевариваемая реальность, состоящая в том, что неспособность разрешить многие научные споры о разуме основана не только на недостатке научной изобретательности. Многие из вопросов сами по себе завалены горами предрассудков, непримиримых противоречий, парадоксов и метафизических проблем, неразрешимых научным путем.
В качестве яркого примера можно быстро рассмотреть вопрос свободы воли. Хотя наш разум стремительно рвется обдумать всевозможные философские аргументы, остановитесь на мгновение, чтобы оценить истоки этого вопроса. Все мы испытываем чувства Я, агентивности, усилия, выбора и причинности – непроизвольные ментальные ощущения, которые вместе создают чувство как наличия самой возможности выбора, так и его осуществления. Без этих чувств невозможно даже представить, что мы создали хотя бы в наших мечтах идею свободной воли – шанс этого не больше, чем у дерева понять смысл глубокого разочарования. Все философские положения о свободной воле будут исходить из встроенного в нас желания объяснить непроизвольные ощущения. Не важно, сколь глубоким будет наше осмысление, мы обременены встроенным парадоксом автоматических и жестко фиксированных психических процессов, говорящих нам, что мы свободны в своем выборе и действуем в соответствии с любым капризом, тогда как наука говорит нам, что все действия имеют изначальную физическую причину.
Если потратить нескольких минут на хорошо обоснованные, но противоречивые аргументы в пользу наличия/отсутствия свободной воли, это приведет к интеллектуальному головокружению. Ни один аргумент не выделяется как стоящий выше парадоксов и вне логической непоследовательности [217]. Даже фраза «свободная воля» тавтологична: какой еще может быть воля? Но чего еще мы можем ожидать от вопроса, спровоцированного непроизвольными ощущениями и сформулированного нашим индивидуальным восприятием?
В этой главе мы посмотрим на некоторые крупные области нейробиологии, в которых некритичное смешивание конфликтующих философских и научных принципов привело к некоторым экстраординарным заявлениям о таких разноплановых вещах, как моральные суждения, природа характера и мудрости или вопрос о том, что является «реальным».
Анатомия морали
Наука о познании и философия морали говорят нам, что характер и мораль уходят своими корнями в биологию. Это едва ли может удивить. Где еще искать эти качества? Если вы не верите в то, что принципы морали существуют независимо от нас в некой идеальной платонической сфере, вы будете ожидать, что характер и мораль вырастают из наших страстей, убеждений, желаний, мыслей и опыта – всего того, что отражается в нашей биологии.
Если мы приходим к заключению, что наша мораль движима исключительно нашей природной биологией, мы сталкиваемся с весьма туманным взглядом на человеческую природу. Если, с другой стороны, мы отрицаем ту важнейшую роль, которую играет биология в определении нашей морали и характера, мы плывем против течения в потоке убедительной информации, свидетельствующей о противоположном. Конечно, на практике большинство из нас не верит ни в одну из обозначенных крайностей – мораль и характер представляют собой комплексное взаимодействие природы и воспитания. Проблема с этим взглядом, основанным на здравом смысле, состоит в том, что он предоставляет возможности для выработки точных категорий и классификации поведения, необходимой для полноценного научного исследования.
Рассмотрим такое понятие, как справедливость. Наша способность определять, что справедливо, а что нет, и делать моральный выбор, долго считалась ключевой чертой, отделяющей человека от всего остального животного мира. При этом исходили из того, что моральный выбор следует из сознательного принятия решений, уникальной способности человека. Но полученные в последние годы данные предполагают, что чувство справедливости распространяется на значительное расстояние вниз по древу эволюции и легко наблюдаемо у воронов, волков, койотов, домашних собак, обезьян капуцинов и шимпанзе – животных, исторически исключаемых из рассмотрения, когда речь заходит о существах, имеющих мораль или сознательные намерения.
Шимпанзе и бонобо намеренно открывают дверь, чтобы дать компаньону доступ к еде, даже если они теряют часть ее в процессе этого. «Молчаливо наблюдающие» вороны замечены в атаках на тех воронов, которые воруют еду у своих собратьев, даже когда они сами ничего не приобретают в результате такой атаки. Капуцины могут играть в обезьянью версию игры «ультиматум»[54], используя жетоны, чтобы получить еду для других, даже если это означает, что выбирающей особи достанется меньше еды.
Рискуя слишком оптимистично интерпретировать невербальное поведение животных, предположу, что общий знаменатель, лежащий в основе актов «справедливости», оказывается социальной вовлеченностью видов. Похоже, социальные животные выработали в ходе эволюции чувство равенства и неравенства для оптимизации своего выживания. Однако мы по-прежнему остаемся без ясного понимания того, что есть «справедливость» на уровне переживания животных. Циник может не увидеть в актах кажущейся справедливости ничего большего, чем животной версии шулерства, жертвования ради будущих выигрышей. Любитель животных может увидеть в таком поведении свидетельство братского сочувствия. Ясно одно: то, что выглядит как нравственное поведение, не требует формального языка или сложных процессов логического мышления.
Экстраполируя на людей, можно сказать, что многие специалисты в этом поле на сегодняшний день чувствуют, что наши моральные суждения прежде всего запускаются стоящими за ними эмоциями и чувствами, при этом наш сознающий разум постфактум обеспечивает рациональное обоснование нашему поведению. По словам психолога из Университета Виргинии Джонатана Хайдта, «фактически, службу в храме морали несут эмоции и… моральное суждение, в действительности – всего лишь слуга, облаченный в одежды главного священнослужителя» [218]. Хайдт утверждает, что обоснование после уже совершенного действия осуществляется не с целью найти истину в ситуации, а с целью убедить других людей (и также себя самого) в своей правоте. Некоторые исследователи делают следующий шаг, утверждая, что моральные суждения аналогичны эстетическим суждениям. Точно так же, как мы знаем, что кофе приятно на вкус или картина прекрасна, мы интуитивно ощущаем, является или нет решение правильным с точки зрения морали.
Наиболее известный и повсеместно обсуждаемый мысленный эксперимент по определению роли эмоций в принятии моральных решений – классический «трамвайный» эксперимент. Сокращенная версия: трамвай несется по путям с большой скоростью. На путях находятся пять человек, которым грозит неминуемая опасность – стать жертвами приближающегося трамвая. Однако если вы дернете рычаг, трамвай повернет на боковой путь, где стоит только один человек. Подавляющее большинство людей, которых спрашивают, как бы они поступили в подобной ситуации, говорят, что они потянули бы рычаг, зная, что убьют одного, чтобы спасти пять жизней. Однако когда условия меняются и вас просят толкнуть человека на пути, чтобы остановить трамвай, прежде чем он раздавит пять человек, совсем немногие готовы физически спихнуть человека на рельсы.
Множество возможных интерпретаций данного эксперимента разрослось в академическую отрасль, называемую причудливым словом «троллеология»[55]. Чаще всего встречается интерпретация, что мы с большей готовностью можем принять рациональное решение, в котором мы не задействованы физически, но нам трудно преодолеть базовые эмоции, воспринимаемые более близко и лично. Даже когда мы понимаем, что результат будет одним и тем же, внутреннее отвращение и отталкивающее чувство берут верх над прагматичным рассуждением «убить одного, чтобы спасти пятерых».
Подтверждения роли биологии в принятии моральных решений поступают от исследований психопатов – преступников с повторяющимся антисоциальным поведением, не сопровождающимся чувством раскаяния. Те, у кого есть повреждения областей мозга, критически важных для правильной обработки эмоций, как правило, расценивают толчок человека на рельсы равноценным переключению рычага. С утилитарной точки зрения свободный от эмоционального бремени сопереживания, отторжения и отвращения психопат чаще, чем большинство из нас, последовательно применяет одну и ту же цепь рассуждений: убить одного, чтобы спасти пятерых. Решение является в большей степени расчетом, в который не вторгаются противоречивые чувства.
Другие используют тот же исследовательский материал для обоснования противоположной точки зрения: эмоциональный опыт, в частности отвращение и отторжение, следует из моральных решений, а не предшествует им и направляет их. Это повернутое на 180° рассуждение предполагает, что психопаты проводят то же моральное различие, что и здоровые индивидуумы. Нормальная обработка социальных эмоций не обязательно возникает при принятии подобного рода моральных решений. Итоговое заключение исследователей: «Психопаты знают, что правильно, а что нет, но их это не волнует» [219].
Социальные и юридические последствия того, как мы интерпретируем такие исследования, огромны. Если мы воспринимаем психопата как индивидуума, биологически неспособного контролировать свое насильственное поведение, мы будем обходиться с ним совсем не так, как в случае, если видим в нем закоренелого преступника, которого просто ничего не волнует. Но способны ли мы, основываясь на исследованиях когнитивной науки, принимать такие решения? Можем ли мы проводить такие различия, не разобравшись сначала с природой намерения? Являются ли такие лабораторные эксперименты показателями того, как мы будем вести себя в повседневной жизни? Можем ли мы выявить моральный компонент решения или действия с помощью нейровизуализации?
Приведу пару собственных примеров. В качестве профилирующего гуманитарного предмета в колледже у меня был лишь вводный курс биологии. Пропустив день препарирования лягушек, я оказался абсолютно не готов к первому дню в прозекторской. Помещение было заполнено телами, закрытыми прорезиненными полотнищами, за которыми сквозь несколько больших окон представало великолепное зрелище моста Золотые Ворота[56]. Вслед за призывом руководителя практики наслаждаться большой анатомией мы получили указание откинуть покрывала. В одно мгновение 25 мертвых тел предстали нашему взору. Все схватили свои скальпели и приступили к работе. Я стоял без движения, переполненный чувством отторжения, непонимания, ужаса и тревоги. Помню, что хотел убежать из «анатомички» и из медицинской школы. Вместо этого я обвинил своих новых лабораторных коллег в недостатке уважения к трупу, выражавшемся в том, что они не прикрыли лицо этой женщины. Настаивая на своем, я наклонился и закрыл ее лицо полотенцем. Месяц спустя мое моральное негодование было подавлено привычностью процедуры и моим растущим интересом к человеческому телу, и я поймал себя на том, что опираюсь локтем на подбородок мертвой женщины, читая пособие по вскрытию.
Эволюционные биологи предполагают, что отвращение является первичной эмоцией, необходимой для выживания. Например, дурной запах и отвратительный вид отбивают у нас охоту есть тухлое мясо. Тем не менее если б они изучали, как моя брезгливость, отвращение и отторжение при виде трупов породили моральное возмущение, первой проблемой стало бы определение, были ли такие чувства первичны, а не вызваны другим психическим состоянием, например ощущением непривычности, неизвестности, экзистенциального ужаса или страха смерти. Такие сложные взаимодействия психических состояний и называют жизненным опытом, но он покажется на функциональной томограмме, только если все участвующие в нем психические состояния будут активированы именно в этот конкретный момент.
И снова нам необходимо вернуться к проблеме базового состояния.
Сейчас – это не навсегда
Подумайте обо всех психических и двигательных навыках, задействованных в обучении игре на фортепиано – от положения ваших локтей до угла нажатия ваших пальцев. Как только вы становитесь опытным пианистом, вам больше не нужно помнить об отдельных элементах, которые вместе необходимы для того, чтобы сыграть конкретное произведение. Освобождение от необходимости постоянно напоминать себе, как держать руки и куда ставить ноги, психологически транслируется в меньшее общее психическое усилие в сравнении с тем, когда вы только начинали учиться играть. Меньшие усилия равны меньшим метаболическим потребностям, что приводит к снижению вероятности, что эти области засветятся на функциональных томограммах. (Это тот же общий принцип, который отвечает за временное увеличение объема серого вещества в процессе освоения навыка. Как только навык освоен, ставшие ненужными нейронные связи могут быть сокращены.)
Если вы научились сидеть прямо, с руками, вытянутыми на определенную длину, и больше не думаете о своей позе, это подпороговое знание, скорее всего, приведет к низкому уровню активации мозга, проявляющемуся всякий раз, когда вы садитесь за пианино, чем проявится как временный взрыв повышенной активности, который может быть выявлен на фМРТ. Это та же самая проблема определения базовой активности мозга, которую мы видели в примере с Питом и Майком из главы 9.
Если мы думаем, что моральное решение отчасти определяется обстоятельствами, а отчасти неизменной биологической предрасположенностью и кумулятивным эффектом жизненного опыта, представление о том, что фМРТ предоставляет полную картину того, что вносит свой вклад в нравственные решения, становится сомнительным. Если б я надел Суперсканер в свой первый день в анатомическом классе, фМРТ вычленила бы только те области мозга, что были активированы в момент моего личного отвращения и чувства нравственного возмущения, но не смогла бы точно определить мои прошлые экзистенциальные переживания или страх смерти, висящие на заднем плане в роли хронических аспектов моей личности.
Справедливости ради
Следующая проблема в изучении биологии морали – то, как мы концептуализируем конкретное поведение. Недавно на съезде с эстакады меня «поцеловал» в задний бампер пикап Ford F 150. Никто не пострадал, но багажник моего относительно нового среднеразмерного автомобиля был помят. Обычно, когда я становлюсь жертвой чьей-то глупости или беззаботности, я прихожу в ярость и морально негодую. Однако водителем пикапа была молодая мать с двумя маленькими детьми – оба плакали и кричали на переднем сиденье. Мать объяснила, что кормила грудью одного ребенка (управляя автомобилем) и ее мобильный телефон зазвонил! Она не могла найти своих водительских прав, а срок действия ее страховки истек. К собственному удивлению, я похлопал ее по плечу и сказал: «Не беспокойтесь, у вас все будет в порядке». Я был не меньше поражен собственными словами и жестами, чем она. По сей день меня приводит в недоумение собственное поведение в той ситуации, и, что касается нашей дискуссии, я не могу найти никакого научного способа препарировать его в нечто измеряемое и анализируемое.
Вероятно, у меня было небольшое сотрясение, и я был дезориентирован. Или испытывал облегчение оттого, что не получил травм. Я только помню, что было в моей голове сразу после того, как я ее утешил: понимание того, что жизнь поистине несправедлива и что жизнь этой женщины, скорее всего, намного тяжелее, чем моя. Ожидая эвакуатора, я размышлял над природой справедливости. До этого я рассматривал концепцию справедливости как чисто когнитивное решение: уравновешивание индивидуальных прав и обязанностей. Теперь я задумываюсь: не может ли справедливость быть проявлением более глубоко укорененного чувства собственного места в мире? Возможно, среди факторов, стоявших за моей спонтанной реакцией, были мое понимание удачи и невезения, мое чувство благодарности, прав и уважения к судьбе других.
Эта проблема стояла в центре недавних дебатов по поводу судей Верховного Суда. Президент Обама сказал: «Такие качества, как сопереживание и живое понимание надежд и проблем людей, кажутся мне ключевым ингредиентом достижения законных решений и результатов» [220]. В радиопередаче Билла Беннетта «Morning in America»[57] бывший председатель Республиканского национального комитета Майкл Стилл сказал: «Мне не нужны там наверху судьи, сочувствующие моему оппоненту из-за его жизненных обстоятельств или его состояния и обделяющие меня и уменьшающие мою возможность получить справедливое отношение к себе в рамках закона».
Ричард Эпштейн, правовед и профессор юриспруденции Чикагского университета, похоже, склонен согласиться с этим утверждением. «Сопереживание важно для управления бизнесом, благотворительности и в церкви, – сказал он. – Но судьи выполняют другую функцию. Они интерпретируют законы и решают споры. Вместо того чтобы ориентироваться на свои любимые социальные группы, Обаме следовало бы придерживаться зарекомендовавшего себя веками образа правосудия: слепой богини, Юстиции[58], держащей весы правосудия» [221].
То, где между этими двумя противоположными точками зрения расположитесь вы, зависит от меры, в которой вы воспринимаете справедливость как ментальное ощущение в противовес ее сознательному определению. Для меня основным компонентом справедливости является способность одного человека поставить себя на место другого как интеллектуально, так и эмоционально. Для тех, кто уверен, что справедливость достигается путем осознанного взвешивания, относительный недостаток сопереживания интерпретируется как положительная черта – способность отложить в сторону личные чувства и быть объективным. Хотя это просто спекуляции, я предполагаю, что основополагающая разница в том, как воспринимать справедливость, является критическим компонентом перехода к жесткой однопартийной политике. То, что справедливо для одного, есть нарушение правосудия для другого, будь то аборты, иммиграция, смертный приговор или налоги.
Увы, не существует научной методологии, которая помогла бы нам выявить истинную природу справедливости. Не существует мозгового центра, который мог бы показать нам истинную природу справедливости, не существует единой области мозга, которая активировалась бы при принятии морального решения, чтобы его можно было отследить вплоть до нейронов «справедливости». В конечном итоге мы остаемся со своими собственными непроизвольными ментальными ощущениями при решении, какова природа этого абстрактного концепта, который с большой долей вероятности будет определять будущее нашей цивилизации.
В противоположность мне, нейробиолог Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Сэм Харрис, ключевая фигура в так называемом новом атеистическом движении, уверен, что мораль и справедливость могут быть точно локализованы в мозге. Харрис заявляет:
«Вопросы о ценностях – о смысле, нравственности и жизненном предназначении в широком смысле – на деле являются вопросами условий благополучия сознательных существ… Ценности транслируются в факты, которые могут быть научно поняты. Многих людей волнует то, что существует нечто ненаучное в осуществлении подобных ценностных суждений. Но это расщепление между фактами и ценностями иллюзорно. Наука всегда была среди ценностей бизнеса… Сама идея «объективного» знания (т. е. знания, полученного путем тщательных наблюдений и честных рассуждений) обладает встроенными в нее ценностями, поскольку каждое усилие, которое мы совершаем для обсуждения фактов, полагается на принципы, которые мы должны ценить прежде всего (т. е. логическую последовательность, надежность доказательств, экономичность, и т. д.). Именно в этом состоит эффективность рационального мышления» [222].
Харрис убежден, что наука позволит нам «выявить аспекты нашего разума, заставляющие нас отклоняться от норм основанного на фактах или морали суждения» [223]. Затем он делает резкий переход к убеждению, что такое знание представляет собой путь к пониманию того, какое действие наилучшим образом будет служить нашему коллективному благополучию. Но не существует фактов, касающихся психического состояния молодой матери и моего, которые могли бы быть превращены в оптимальную с научной точки зрения модель поведения.
Даже если б за спиной у Харриса стояли идеальные нейробиологические данные, поддерживающие его заявления (которых нет), мы бы по-прежнему оставались с вопросом, как использовать науку для того, чтобы обеспечить наше совместное общечеловеческое благополучие. Представьте себе гипотетическое общество, в котором существует и превалирует чистый рационализм (маловероятный сценарий) и 100 % его субъектов толкнут человека на трамвайные рельсы, чтобы спасти пятерых. На первый взгляд это будет восприниматься полностью в соответствии с тем, чтобы потянуть рычаг, и считаться образцом рационального суждения, преодолевающего базовые иррациональные инстинкты. Кто-то даже может счесть, что такое общество достигает максимума социального благополучия.
Но хотели ли бы вы жить в обществе, где каждый игнорирует личные чувства, не важно, насколько они иррациональны, ради того, чтобы жить в соответствии с алгоритмом прагматизма? Как вы будете смотреть на ваших друзей или соседей, если будете знать, что их решение помочь вам в экстренном случае будет диктоваться исключительно соображениями коллективной пользы, определенными путем лабораторных экспериментов? Для ответов на эти вопросы не существует нравственных представлений о «правильном» и «неправильном» (и я не пытаюсь защищать один тип общества в ущерб другому). Ваши ответы на эти вопросы отражают ваши личные вкусы и предпочтения в отношении типа общества, в котором вы хотели бы жить.
Чтобы применить аргумент Харриса к такой крайней форме постановки вопроса, представьте себе время, когда наука откроет, что любовные связи являются следствием сверхвысокого уровня окситоцина, ваш интеллект определяется толщиной миелиновых оболочек, а ваше чувство предназначения не является ничем бльшим, чем активизацией лимбической системы. Некоторые могут найти утешение и нравственный ориентир в таком взгляде на человеческую природу, в то время как другие придут в ужас от мысли, что от них ожидается оптимизировать свою жизнь через извлечение уроков морали из такого рода фактов.
Если цель науки состоит в открытии того, что обеспечит человечеству максимальное благополучие, мы по-прежнему нуждаемся в понимании того, что означает термин «благополучие» и относится ли понятие «мы» к каждому человеку в отдельности (либерализм) или к обществу в целом (прагматизм). Даже если бы у нас были ошеломляющие доказательства того, что курение порождает рак легких, азартные игры могут превратиться в разрушительную зависимость, телевидение разлагает наш мозг, а Интернет подрывает вашу способность к удержанию внимания, останется огромная философская проблема того, как люди могут/должны/обязаны/ вести свою жизнь [224]. Верить в то, что нейробиология может дать такие ответы – значит верить, что отвратительное человеческое поведение тоже может быть сведено к научным фактам. Я не могу представить себе точки зрения, которая была бы больше основана на чистой вере, не предполагающей никакой научной проверки.
Исследование характера
Позор тем, кто обманул тебя однажды, обманули дважды – позор тебе.
Столь же недальновидно предположение о роли нейробиологии в формировании индивидуального характера. Одна из центральных определяющих черт хорошего человека – его «хороший характер». Начиная от воспитания малышей и заканчивая бойскаутами, основой всему будет обучение, как правильно быть членом семьи, команды, корпорации или Партии Доннера[59]. Характер стоит вверху списка черт, с помощью которых мы судим друг о друге и оцениваем других людей. Как когда-то сказал Гераклит: «Характер – это судьба». Но что такое характер? Как можно считать Я – мозг, генерирующий виртуальные конструкции, которые постоянно меняются, – имеющим характер?
В соответствии с новейшей наукой о познании существование характера в лучшем случае правда лишь отчасти. Наше поведение может радикально и непроизвольно измениться под воздействием обстоятельств. Одним из наиболее цитируемых примеров является запах выпечки, повышающий вероятность проявления великодушия. В классическом исследовании незнакомцы чаще согласились разменять доллар, когда к ним подходили недалеко от «ароматной пекарни», чем недалеко от «нейтрально пахнущего бакалейного магазина» [225]. Аналогично присутствие чистого (обычно цитрусового) аромата продемонстрировало способность повышать у добровольцев степень добродетельного поведения. В ходе одного из исследований группа добровольцев испытывала гораздо более высокий уровень взаимного доверия и доброжелательности, если она находилась в комнате, где недавно был распылен Windex с цитрусовым ароматом, в противоположность помещению, где не было этого запаха [226]. Вероятно, самым серьезным опровержением утверждения о существовании внутренне присущего характера, определяющего нравственность, было исследование, продемонстрировавшее, что студенты семинарии, спешившие, чтобы прочитать аудитории лекцию на тему морали, не останавливались, чтобы помочь незнакомцу, нуждающемуся в помощи, если им казалось, что из-за этого они могут опоздать на лекцию.
Другие знаменитые примеры – это исследование Стэнли Милгрэма, проведенное в 1960-е. В нем выяснилось, что при достаточном поощрении добровольцы готовы применить потенциально летальный заряд электрошока к другому участнику исследования, а также Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо, когда студенты, между которыми были распределены роли заключенных и надзирателей, стали проявлять черты реальных заключенных и надзирателей, включая тенденцию «надзирателей» применять физическое насилие к «заключенным».
Такие свидетельства нашей способности радикально поддаваться влиянию обстоятельств породили новое философское понятие – «ситуационизм». Гилберт Хармэн, философ из Принстона, недавно написал, что «привычное приписывание черт характера людям часто бывает следствием глубокого заблуждения. Возможно даже, что вообще не существует такого явления, как характер, не существует привычных черт характера, как о них думают люди, ни одной обычной моральной добродетели или порока» [227]. Джон Дорис, профессор философии и нейробиологии Вашингтонского университета, рекомендует отказаться от способа суждения о человеческом поведении и нравственных возможностях в таких категориях, как «честность», «храбрость» и «уверенность в себе» [228].
Я сомневаюсь, что кто-нибудь серьезно верит, что характер является отражением исключительно сознательных решений. Мы все осведомлены об обстоятельствах, вызывающих неожиданное «нехарактерное» поведение. Но характер – это нечто большее, чем изолированная черта. Он аккумулирует весь наш опыт и врожденные биологические качества. Возвращаясь к скрытому слою, содержащему все наши предиспозициональные черты и опыт, легко увидеть, что обстоятельства будут входящей информацией, которая может изменить веса связей и спровоцировать изменения характера.
С другой стороны, характер не является конкретной функцией мозга или биологическим свойством. Это понятие, с помощью которого мы описываем то, как аспекты нашей биологии и опыта соединяются до некоторой степени в предсказуемое поведение. Характер – это распределение вероятностей: вероятность того, что человек будет добросовестно трудиться, что он заслуживает доверие и проявит лояльность, или что он сорвется с катушек и застрелит работодателя. Утверждать, что характера не существует, – значит смотреть не на тот уровень объяснения поведения, и это так же ошибочно, как утверждать, что боли не существует, потому что ее нельзя локализовать на нейронном уровне. Если мы хотим понять индивидуальные черты, например, почему один человек честнее другого, мы можем посмотреть на генетические исследования однояйцевых близнецов, выросших врозь, или на исследования с помощью фМРТ, чтобы увидеть, какие области мозга активируются, когда субъект решает быть честным или нечестным [229]. Благодаря таким исследованиям, мы можем приблизиться к пониманию работы базовых механизмов, когда кто-то делает честное или нечестное заявление. Однако это очень далеко от поиска конкретной черты на уровне функции мозга. На этом уровне не существует центра или функции честности.
Хотя характер является абстракцией – семантическим устройством, которое мы используем для того, чтобы судить о прошлом и наиболее вероятном будущем поведении, – он все-таки существует в том смысле, что он напрямую влияет на поведение. Конкретный пример: мое понимание моего характера и решение действовать в соответствующей манере имеют непосредственное воздействие на то, как я пишу следующие предложения. Работая над этой книгой, я отдаю себе отчет в наличии у меня сильных негативных чувств в отношении некоторых неоправданных утверждений нейробиологов. В то же время одной из тем, лежащих в ее основе, является призыв оставаться открытым для новых идей и рассматривать альтернативные возможности, конфликтующие с собственной точкой зрения. Мое чувство долга перед моим представлением о самом себе действует как входящая информация для скрытого слоя, который выдает на выходе мои комментарии. Даже если чувство моего собственного характера в корне невено, этот воображаемый образ себя играет реальную роль в том, как я веду себя, точно так же как вера в летающие тарелки может диктовать, каким будет размер коврика с надписью «Добро пожаловать» перед входной дверью верящего. Ницше однажды сказал: «Деятельные, успешные натуры действуют не в соответствии c заявлением о знании себя, а так, будто перед ними висит заповедь: будь собой, и таким образом ты станешь собой» [230].
Таким же ошибочным, как убеждение, что характер не существует, поскольку он не является специфической функцией мозга, является противоположная идея – что характер может быть локализован в конкретной нейронной сети. Обратите внимание на эти недавние заголовки: «Лодыря видно по изображению его мозга» [231]. Или «Оптимизм – это дефект мозга, если верить функциональным изображениям» [232]. Но такие упрощенные заявления бледнеют в сравнении с мнением, что черты характера могут быть физически изменены путем прямого медицинского вмешательства.
Специалисты Научно-исследовательского института им. Вейцмана в Израиле провели фМРТ-исследование взаимоотношений страха и храбрости. Участники были разбиты на категории «пугливые» и «бесстрашные» в зависимости от того, как они отвечали на вопрос о боязни змей. Затем их попросили придвинуть поближе к своему телу живую змею (не ядовитую). «Пугливые» участники, способные преодолеть свой внутренний страх перед змеей, демонстрировали гораздо более высокие уровни активности в одной определенно локализованной области мозга [233]. Заключение ведущего специалиста: мы можем искусственно способствовать активации этой зоны мозга, чтобы повысить уровень смелости человека [234].
Черты (аспекты) характера возникают из взаимодействия множества элементов скрытого слоя, но не существуют на уровне клеток и синапсов. Характер не является чистой физиологией, хотя он определяется и врожденными склонностями. Нельзя также сказать, что он полностью диктуется обстоятельствами. Скорее, он является понятием, средством оценки вероятного поведения, которое возникает из комплекса взаимодействий организма с окружающей средой. Заключение, что черты характера либо не существуют, либо, наоборот, являются первичной функцией мозга и потенциально поддаются терапевтическому вмешательству, являются просто еще одним примером того, как поиск объяснений поведения на неадекватном постановке вопроса уровне приводит в основе своей к неверным взглядам на человеческую природу.
От мудрости до интеллекта
Верхнюю ступень пантеона черт характера занимает мудрость. Большинство людей считают мудрость важнейшим качеством хорошего разума. Спросите, как нейробиология высказывается в отношении такого возвышенного предмета? Известный британский нейробиолог недавно предложил новую серию тестов на интеллект, связывающих вместе десятки параметров, которые, по его убеждению, охватывают широчайший спектр когнитивных навыков, и наиболее обширное тестирование различных анатомических функциональных областей мозга. Он назвал эти тесты «12 столпов мудрости» и представляет их как то, что «можно считать совершенным тестом интеллекта» [235].
Отвлечемся на мгновение от вековых противоречий во мнениях относительно как определения интеллекта, так и проблем стандартизированного тестирования. Пусть эти тесты дают идеальный индикатор общего интеллекта (что бы это ни значило). Сведение такого сложного качества, как мудрость, к набору числовых показателей исключает возможность принять во внимание другие кажущиеся немаловажными ингредиенты: чувство юмора, иронию, сопереживание, стремление к честности и справедливости – это лишь некоторые из черт, стоящих в верхней части моего списка того, что делает человека мудрым. Но отложим в сторону и эти рассуждения и обратим внимание на два теста, которые являются частью батареи «12 столпов мудрости». Один из тестов оценивает визуально-пространственные навыки, а другой – способность к мысленному вращению.
Представьте себе двух человек с интеллектами, идентичными во всем, кроме этих двух тестов визуально-пространственной ориентации. Пусть показатели одного в этих двух тестах значительно хуже, но во всех остальных – точно такие же. Должны ли мы прийти к выводу, что он менее мудр, чем тот, у кого пространственная ориентация лучше? В эру, когда тестирование способностей и интеллекта в раннем возрасте играет все более важную роль в том, где и как ребенок будет обучаться, хотим ли мы действительно оценить ребенка как более или менее мудрого в зависимости от скорости, с которой он может в уме вращать образ куба? В своей недавней книге «The Mind’s Eye[60]» Оливер Сакс описывает ограничения собственных навыков в визуально-пространственной сфере, включая неспособность узнавать лица. Это как-то свидетельствует о том, что д-р Сакс – немудрый человек? Даже если пространственная ориентация идеально коррелирует с общим интеллектом, способность вращать куб в уме не выглядит критически важной для определения наилучшего подхода к проблемам мира во всем мире, урегулирования процессов глобального потепления, избегания семейных конфликтов или выбора для ребенка подходящего вуза.
Много лет я работал с молодым человеком с умственной отсталостью, которая была следствием родовой травмы и трудно контролируемым судорожным расстройством. Джим немного учился, жил в злачном районе Сан-Франциско, время от времени выполнял поручения «Goodwill»[61] или подрабатывал в цирке, болтался с толпой шпаны и имел небольшие проблемы с законом. Однажды он появился у меня и сказал, что думает жениться на женщине, которая страдала от повреждения мозга, полученного в результате автокатастрофы. Я до сих пор помню его загнанный взгляд, когда он спрашивал, если кто-то «отсталый» женится на ком-то другом, кто был «отсталым», будет ли их ребенок тоже «отсталым»? Меня особенно поразило то, как он крутился вокруг слова «отсталый», повторяя его с немного различными интонациями, будто пытаясь разобраться, что значит это слово в более широком смысле. Я объяснил, что повреждения мозга не передаются детям. Некоторое время он сидел молча, опустив голову, держа руки на коленях. Затем взглянул на меня и спросил: «А то, что я отсталый, будет проблемой для ребенка, я имею в виду, у него могут быть из-за этого неприятности? Я просто хочу поступить правильно, ради него». С моей точки зрения, это и есть мудрость.
Равнять интеллект с мудростью немудро. Это высокомерно. Это попытка изолировать и высветить один аспект разума – интеллектуальные способности – и превратить его в определяющее человека качество. Я должен сказать, рискуя показаться излишне циничным, что приравнивание интеллекта к мудрости – это демонстративный эгоцентричный способ превратить чью-то воспринимаемую интеллектуальную мощь в вид морального превосходства. Это та самая плохо замаскированная самодовольная поза, которая заставляет некоторых ученых считать, что у них есть привилегия определять моральные ценности, выводить «теории всего» или заявлять, что «философия мертва».
Возвращение к реальности
Вероятно, наиболее экстраординарным вторжением нейробиологии во владения философии является ее уверенность в том, что она может решить, что «реально». 25 октября 2010 г. заголовок в новостях ВВС гласил: «Проблемы либидо – «мозг, а не разум». Сопровождающая его фотография обеспокоенной молодой женщины имела подпись: «Изменение кровообращения мозга может объяснять недостаток сексуального желания, уверены ученые». Заголовок и фотография относились к исследованию Университета Уэйна, представленного на ежегодной встрече Американского общества репродуктивной медицины. Ведущий специалист, д-р медицины Майкл Даймонд, хотел узнать, существуют ли заметные различия в уровне активности мозга у женщин с так называемым «нормальным» сексуальным влечением и теми, кто получил диагноз «сниженное сексуальное влечение» (ССВ). Д-р Даймонд продемонстрировал обеим группам эротическое видео. В контрольной группе эротическое видео запустило повышенную активность в островковой доле – части мозга, которая считается задействованной в обработке эмоций. Те, у кого стоял диагноз ССВ, продемонстрировали отсутствие повышенной активации.
Заключение д-ра Даймонда: «То, что мы нашли определенные физиологические изменения, обеспечивает доказательство того, что это реальное расстройство, а не социальный конструкт… Исследование предоставляет физическую основу, предполагающую, что это реальное физиологическое расстройство» [236]. Всеподавляющее убеждение, что нейробиология обладает инструментами, способными переопределить человеческое состояние, способствует формированию у специалистов уверенности, что повышенный приток крови к некоторой области мозга позволяет определить, что существует «реально». Если некоторую область мозга можно увидеть светящейся на фМРТ, когда участники исследования представляют себе трехногих марсиан, плавающих в море бетона, сделает ли это марсиан «реальными»? А бетонное море? И что будет означать «нереальное» психическое расстройство?
Как странно, что тысячелетия философских размышлений о природе реальности могут быть сметены ради того, чтобы новое определение «реальности» опиралось только на сконструированный компьютером по заданному алгоритму образ мозга. Далее, хорошо известно, что метаболические изменения в мозге возникают в силу множества причин. Если вы в депрессии, слишком много работаете, слишком мало получаете, склонны к мизантропии или в этот день у вас все валилось из рук, просмотр видео, на котором прекрасная и полная сил пара исполняет эротическое танго, может не нажать соответствующие эмоциональные кнопки. Если так, приток крови к вашей островковой коре не усилится. Это очевидно; все аспекты психики человека вносят свой вклад в его эмоциональные реакции. Отсутствие повышенного притока крови в ответственные за эмоции области мозга абсолютно ничего не говорит вам о том, какая за этим стоит причина(ы). Различие между психологическим и физиологическим на основе изменений в активности мозга – это не что иное, как разгулявшаяся вера в дуализм тела и разума.
Больше всего в этом исследовании беспокоит высокомерно-беспечная интерпретация результатов фМРТ в качестве свидетельства заболевания без рассмотрения долговременных последствий навешивания ярлыка «физическое расстройство» на некий тип поведения (недостаток сексуального желания). Неправомерное использование даже самого безупречного способа измерения активности мозга в результате приведет к тому, что пациентке скажут, что она больна, без какой бы то ни было четкой идеи о механизмах, стоящих за ее проблемой, или даже того, что такой ярлык значит в смысле возможного лечения. Если пациентка поверит, что что-то «нарушено в моем мозге», эффект может стать разрушительным. Каждый, кому говорили о возможных отклонениях в результатах его лабораторного тестирования, знает, насколько трудно отделаться от этого знания, даже когда повторные обследования приносят нормальные результаты.
К сожалению, такое недобросовестное использование результатов фМРТ для доказательства «реальности» дискуссионных расстройств присутствует повсюду. Посмотрите на болевое мышечное расстройство, называемое «фибромиалгия». Несмотря на полную убежденность всех сторон в своей правоте, никто до конца не знает, является ли фибромиалгия самостоятельным медицинским заболеванием, симптомом в рамках другого заболевания, в частности хронической усталости или синдрома раздраженной кишки, или это название, данное целому спектру разнородных физических жалоб, которые возникают из-за различных психических состояний, таких как тревожность или депрессия. Не было ни одного воспроизводимого исследования или обеспечивших однозначные ответы объективных результатов, таких как анализы крови или лабораторные исследования, рентген или анатомические отклонения в биопсии, которые могли бы дать достаточное понимание этого заболевания. Американский колледж ревматологии в 1990 г. называл следующие диагностические критерии: распространенная мышечная боль, длящаяся более трех месяцев, не связанная ни с какой другой известной болезнью, и наличие минимум 11 болевых точек на 18 мускульных группах, а это ничего более, чем данные субъективных описаний пациентов. (Я не имею в виду, что пациенты с фибромиалгией не страдают от боли и дискомфорта, который они описывают. Меня беспокоит преобладающая идея, что фМРТ может провести различие между «психологическим состоянием» и вызванной заболеванием болью.)
В 2002 г. специалисты Университета Джорджтауна, д-р философии Ричард Грейсли и д-р медицины Дэниэл Клау, сравнили, как 16 женщин с фибромиалгией и 16 здоровых людей из контрольной группы реагировали на болевые и неболевые раздражители (небольшой пистолет, создающий различные степени давления, который прикладывался к ногтевому ложу большого пальца руки). Они обнаружили, что для получения одного и того же уровня боли и активации на функциональном изображении мозга участникам из контрольной группы требовалось давление, более чем в два раза превышающее то, что было необходимо пациентам с фибромиалгией. Авторы пишут: «Результаты убеждают нас в том, что некоторые патологические процессы делают этих пациентов более чувствительными. По некоторой, пока неизвестной, причине происходит нейробиологическое усиление их болевых сигналов» [237].
Конечно, усиление их восприятия боли существует, иначе бы все субъекты испытывали одинаковый уровень боли от каждого конкретного стимула. Настоящий вопрос в том, сопутствует ли эта разница в болевой чувствительности заболеванию, лежащему в основе проблемы, или простой разнице в ожидании и восприятии ощущений. Чтобы продумать, как активация мозга связана с восприятием боли, рассмотрим пример плацебо. Если вы уверены, что безобидная сахарная таблетка (плацебо) является мощным анальгетиком, она может значительно понизить уровень вашей боли, скажем, при посещении зубного врача или изматывающем артрите. В противоположность этому, если вам дадут сахарную таблетку и скажут, что это новое, непротестированное лекарство, которое может сделать вашу боль сильнее, вы можете испытывать более сильную боль (эффект ноцебо).
Ваши ожидания от того, что может сделать таблетка, будут влиять как на восприятие боли, так и на вашу фМРТ. Нигде в этой схеме нет предположения, что изменения в восприятии боли, происходящие из-за вашего воображения, не являются реальными. Наведенное плацебо снижение боли клинически идентично снижению боли от стандартных анальгетиков, например морфина, но это ничего не говорит нам об источнике боли. Разумеется, это не говорит нам и о том, от каких – «реальных» или «воображаемых» – причин возникла боль.
Теперь рассмотрим один из центральных признаков фибромиалгии – увеличение количества участков тела, чувствительных к обычному давлению. Если вы уверены (и вам об этом сказал ваш лечащий врач), что у вас заболевание, которое делает вас более чувствительным к болевым раздражителям, вы с большей вероятностью испытаете боль, чем человек, который не верит, что он особенно чувствителен к болевым раздражителям. Эта разница в оценке или описании боли и сопровождающие ее изменения на фМРТ, будут отражением вашего самовосприятия, а не свидетельством наличия/отсутствия заболевания. Ваше убеждение будет иметь такой же эффект, как ноцебо. Даже такие личностные черты, как оптимизм и пессимизм (помните, «наполовину пуст» или «наполовину полон»?), или отношение человека к медицинским учреждениям, могут породить значимые различия.
Помимо этого, ученые обнаружили единственную область измененной активности у больных фибромиалгией в сравнении с контрольной группой – в правом таламусе. Величина этой разницы коррелировала со степенью симптомов фибромиалгии: чем больше была разница, тем, как правило, были выраженнее симптомы пациента. Авторы решили, что результаты «с большой вероятностью говорят о нейрональной дисфункции».
Но эти результаты могут быть также следствием фактора ожидания. Психологические профили демонстрируют, что те больные фибромиалгией, которые верят, что боль является результатом некоего внешнего фактора, например старой травмы или воздействия токсических веществ, имеют более высокую степень измененной активности мозга на томограммах. Это убеждение также ассоциировалось с более высоким уровнем депрессии по результатам анкетирования.
Альтернативная интерпретация исследования такова: определенные области мозга активируются при ожидании интенсивной боли, а не являются исходной причиной усиления болевых ощущений. И, что более важно, ничто на этих томограммах не указывает, является ли такая активность «нормальной». И все же авторы заключают: «Что-то реально нарушено в мозге больных фибромиалгией». По словам д-ра Клау, «боль всегда субъективна, но все, что мы можем измерить и оценить в отношении боли при фибромиалгии, демонстрирует, что она реальна» [238].
На основании этих исследований Pfizer[62] получила возможность заявить FDA[63], что фибромиалгия является «реальным» заболеванием. В 2007 г. FDA одобрило использование препарата Lyrica[64] при лечении фибромиалгии. (После одобрения мировые продажи «Лирики» более чем удвоились, сильно превысив $3 млрд ежегодно (на 2011 год) [239].) Чтобы ощутить неразрешимость этого спора, обратите внимание, что «Лирика», одобренная в Европе для лечения общей тревожности, продемонстрировала свою эффективность в снижении как эмоциональных симптомов, так и симптомов депрессии и паники, а также физических симптомов, включая головную и мышечную боль [240].
Воля или намерение
Хотя я испытываю соблазн завершить эту главу рассказом о дальнейших наблюдениях, касающихся свободной воли, мне понятно, что это пустая затея. В более широком смысле личная ответственность – это не вопрос свободы воли, а вопрос намерения. Осознанно или неосознанно его/ее/мое намерение поступить определенным образом и как мы интерпретируем эту разницу с точки зрения виновности/ответственности? Испытывает ли человек чувство агентивности и сознательного выбора, к делу не относится. Гарвардский психолог Дэниэл Уэгнер искусно сформулировал проблему: «Ощущение осознанного волевого действия не является прямым индикатором того, что действие последовало из осознанного решения» [241]. Вместо того чтобы фокусироваться на свободной воле, нам нужно направить свое внимание в сторону понятия намерения.
Если бы я хотел написать роман и очень сильно старался придумать хорошее начало, я бы испытывал чувство усилия и чувство выбора. Если бы я не мог придумать хороший пролог и отложил бы проект, мое намерение написать роман не было бы отвергнуто. «Отложить» означает, что намерение было перенесено в подсознание, которое незаметно будет продолжать работать над проектом. Предположение, что подсознание будет целенаправленно пытаться решить проблему, поднимает щекотливую проблему того, что означает словосочетание «неосознанный умысел». Думаю, что все мы понимаем, что эта неосознанная мыслительная деятельность является намеренной в смысле того, что у нее есть заданные намерением цель и назначение.
В 1983 г. Бенджамин Либет, нейрофизиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, продемонстрировал присутствие характерной мозговой активности в двигательной области, контролирующей движение пальцев, до того как испытуемый сообщал о какой-либо осознанной осведомленности о намерении подвигать пальцем. Другие эксперименты подтвердили эти результаты, что привело к убеждению, что неосознанное намерение сделать движение пальцем предшествует любой осознанной осведомленности о намерении. Исследование много критиковалось, и оно остается исходной точкой в спорах о сознательной или бессознательной природе происхождения ваших решений [242].
Усовершенствовав эксперименты Либета, нейробиолог Джон-Дилан Хэйнс обнаружил активность мозга, опережающую осознанное решение совершить движение на временной промежуток вплоть до 10 секунд [243]. Его заключение: «Сознающий разум не свободен. То, что мы называем “свободной волей”, на самом деле можно найти уже в подсознании» [244]. Я предпочитаю интерпретировать такие исследования как свидетельства неосознанных намерений, а не неосознанной свободной воли, поскольку словосочетание «неосознанная свободная воля» звучит как оксюморон.
Если исходным назначением дебатов вокруг свободы выбора является стремление понять и ассигновать личную ответственность, мы бы добились большего, исследуя природу намерения. Но, как мы видели, намерение представляет собой динамическое взаимодействие между сознательной и несознаваемой активностью мозга – как прошлое, так и настоящее. Четкого разграничения здесь нет. Напрашивающийся пример намеренного акта – преднамеренное убийство – питается неосознанными побуждениями и желаниями. Но оно также ассоциируется с высокой степенью осознанной, распределенной во времени, целенаправленности.
На другой стороне шкалы преднамеренности находятся те несчастные дети с синдромом Леша – Нихана, которые откусывают собственные пальцы, чтобы удовлетворить неосознаваемую потребность, а не сознательное желание. Тем не менее действие остается намеренным (в противоположность случайному или непреднамеренному), но на неосознанном уровне. Другим примером могли бы быть непристойные высказывания (копролалия) некоторых больных с синдромом Туррета. Но даже в этом случае больные будут указывать, что у них есть частичная способность ограничивать свои вербальные взрывы.
И что нам делать с зависимостью? Ясно, что зависимость является биологической функцией на множественных уровнях – от фармакологического эффекта наркотиков и алкоголя до генетически наследуемых черт личности, которые вносят свой вклад в способность распознать проблему и разобраться с ней. И все же в нейробиологической литературе нередко поддерживается преуменьшение значения личных усилий в преодолении зависимости [245].
В конечном итоге то, как мы понимаем личную ответственность, не является вопросом в первую очередь наличия или отсутствия у нас «свободной воли». То, что нам нужно, это более точные представления о сознательном и несознаваемом намерении – серьезный вызов, если учесть, что неосознанное намерение теоретически лежит за пределами возможностей научного изучения.
Глава 13
Расскажи мне историю
Если бы другие анализировали себя, как это делаю я, они, как и я, обнаружили бы, что полны глупостью и бессмысленностью. Избавиться от нее невозможно, не избавившись от себя. Мы все одинаково погружены в нее, но те, кто осведомлен об этом, чувствуют себя немного лучше – впрочем, я не уверен.
Мишель де Монтень [246]
Моя первая встреча с неврологией в клинике произошла приблизительно 50 лет назад, когда я наблюдал, как главный невропатолог обследовал 45-летнего бухгалтера, который после операции на открытом сердце потерял периферическое зрение. Все, что оставалось, – небольшая область центрального зрения, как будто он смотрел на мир через два булавочных прокола. Прежде чем войти в кабинет для осмотра, невропатолог объяснил, что пациент находится в состоянии острой паранойи после выхода из наркоза. С насмешливой улыбкой он добавил, что консультирующий психиатр поставил диагноз «послеоперационный психоз».
Когда невропатолог начал проверять размер поля зрения, пациент отступил в дальний угол помещения. Вскоре он просто вжался в стену, обхватив себя вытянутыми руками. Его взгляд был полон ужаса. После мягких уговоров невропатолога он сказал: «Я понятия не имею, что меня окружает. Кто-нибудь может прокрасться мне за спину».
Позже невропатолог объяснил, что у бухгалтера обнаружен тромб в районе зрительной коры, оставивший пациента только с центральным точечным зрением. Рассказав нам о неврологии зрения, он вдруг задумался и затем предположил, что потеря «мысленного взора» и непонимание того, что происходит за пределами его существенно ограниченного поля зрения, и вызывает у пациента паранойю.
Я до сих пор помню, как меня поразила необычайная возможность, которую предлагает неврология. Вы можете использовать научные знания для размышлений о том, чем является разум. Ранние описания клинических случаев, сделанные Оливером Саксом, позволяют вам испытать чувство удивления и тайны, сопровождавшее тот период истории неврологии.
С того времени открытия в области анатомии и физиологии зрительной коры предоставили нам модель иерархической организации функции мозга. Теперь мы гораздо лучше представляем механизмы, стоящие за высокоуровневыми расстройствами зрения, такими как потеря мысленного взора или неспособность отличить жену от шляпы[65]. В целом прогресс в нейробиологии был очень наглядным результатом грандиозного инновационного мышления и сотрудничества. Я глубоко восхищен великими умами, поднявшими нейробиологию из темных веков на сегодняшний уровень сложности понимания функционирования мозга.
Но то, как воспринимаем бухгалтера, который стал параноиком после того как потерял периферийное зрение, – это больше, чем просто научное объяснение. Каждый из нас вносит в свое наблюдение целое мировоззрение, формируемое как нашей биологией, так и жизненным опытом. И хотя это может казаться настораживающим, если не открыто угрожающим заключением, такой комплекс предубеждений свойственен и нейробиологам.
Нейробиологи должны признать, что перевод научных данных в причинно-следственные объяснения, касающиеся разума, – чистой воды спекуляция. Это дискредитирует науку о мозге больше, чем добротное криминалистическое обследование места убийства. Но если улики откровенно косвенные – будь то отсутствие свидетелей или субъективное психическое состояние, мы должны признать, что на этом месте кончается наука и начинается фантазия.
Нейробиологи похожи на детективных писателей. Призывая нас разгадать загадку «кто это сделал?», писатель разбрасывает подсказки. Нейробиолог предлагает данные. Данные могут быть получены научным способом, но последующий простейший рассказ: случился инсульт, и бухгалтер стал пугливым, – это описание последовательности событий, базирующееся на всем, начиная от природного чувства причинной связи нейробиолога и заканчивая его собственным опытом столкновений с безотчетными страхом и трепетом.
Изучение разума не похоже на изучение других областей науки, где можно провести точную оценку без значительного вмешательства искажений восприятия. Физик может измерить скорость света, не испытывая особого беспокойства по поводу того, что на его измерения повлияют его политические убеждения, религиозные чувства, врожденные склонности или запах свежей выпечки. Но это не относится к неврологии. Не существует измерений разума – есть только истории, извлеченные из научных данных и профильтрованные сквозь личное восприятие.
История науки – это возвратно-поступательное движение проб и ошибок, нападения и отступления, прочерченное моментами гениальных прозрений и исцарапанное периодами эксцессов. Сегодня, боюсь, нейробиология качнулась в сторону эксцесса. Если в споре мы настаиваем на том, что о политических кандидатах можно судить по относительной активности их миндалины или области передней поясной извилины, или что пониженное либидо может быть оценено по фМРТ, мы можем быть уверены, что история не будет добра к этой эпохе развития нейробиологии.
Чтобы увидеть, насколько важно воспринимать нейробиологические наблюдения в качестве истории, рассказываемой обычным человеком, обладающим собственными неотъемлемыми искажениями восприятия, позвольте мне представить последнюю серию историй болезни, имеющих этическую сторону и описанных одним автором. Вопрос, который я хотел бы поставить: было бы нам проще судить об этих исследованиях, знай мы больше об их авторе?
Одной из самых сложных проблем с пациентами, имеющими базовые нарушения когнитивной функции, в частности УВС, является решение отключать или нет оборудование жизнеобеспечения – так называемая пассивная эвтаназия (когда врачи говорят об эвтаназии в случаях серьезных неврологических нарушений, они имеют в виду пассивную форму эвтаназии, т. е. прекращение подачи питания и жидкостей, а не активную форму, когда пациенту намеренно вводят летальную дозу медикаментов). Этические проблемы многочисленны, четкого и ясного ответа не существует. Чтобы прийти к оптимальному решению, члены семьи (часто с диаметрально противоположными точками зрения) должны полагаться на наилучшие из доступных медицинских свидетельств в отношении точности диагноза, вероятности выздоровления, обоснованности нового и результативности изменения старого лечения.
В идеале эта информация должна преподноситься без искажения со стороны исследователей. Увы, трудно представить исследователя, не испытывающего никаких чувств в отношении проблемы, настолько эмоционально заряженной, как решение, дать ли пациенту умереть. Так или иначе, эти искажения (будь то сознательная заинтересованность или подсознательные чувства, не замеченные исследователем) наполняют каждый аспект исследования – от причин и разработки исследовательского проекта до выбора методологии, способов статистического анализа и, наконец, интерпретации результатов. Чем выше ставки и эмоциональная привлекательность определенной точки зрения, тем вероятнее, что окончательная интерпретация будет отражением этих факторов влияния. Читая приведенную ниже серию описаний, представьте себе, насколько по-разному они могут быть интерпретированы, если знать личную историю автора (включая его религиозные/нерелигиозные убеждения и чувства в отношении эвтаназии).
Запертые
Заголовок 2009 года: «Человек говорит, что возвращение из “комы” подобно второму рождению» [247].
В 1983 г. молодой человек, Р. Х., попал в автомобильную катастрофу, после которой остался в предположительно вегетативном состоянии. 23 года спустя он был направлен к Стивену Лорису, д-ру медицины и философии из Университета Льежа в Бельгии, специалисту по нарушениям сознания. Изучив фМРТ, д-р Лорис сказал, что прежние врачи были не правы и что Р. Х. находится в состоянии минимального сознания. Семья наняла специалиста по речи, чтобы помочь Р. Х. общаться через компьютер с сенсорным экраном. Три года спустя Associated Press[66] сообщило, что Р. Х. теперь в сознании и, используя эту методику, полностью восстановил способность к взаимодействию. Специалист по речи, по сообщению Associated Press, сказала, что она может чувствовать, как Р. Х. «направляет ее руку легким давлением своих пальцев, и она чувствует, как он возражает, когда она двигает его руку в сторону неправильной буквы». Она сказала, что с ее помощью Р. Х. напечатал: «Я особенно переживал, когда моя семья нуждалась во мне. Я не мог разделить их горе. Мы не могли поддержать друг друга. Только представьте: вы слышите, видите, чувствуете и думаете, что никто не может этого видеть. Вам приходится все это терпеть, а вы не можете поучаствовать в их жизни».
Артур Каплан, профессор биоэтики из Университета Пенсильвании, скептически отнесся к технике интерпретации специалистом движений пальцев пациента. Он охарактеризовал это как «облегченная коммуникация… спиритические приемчики, которые дискредитируют себя снова и снова». Каплан также высказал подозрение, что утверждения пациента выглядят несоответствующими серьезности его повреждений и неспособности общаться в течение десятилетий.
В интервью д-р Лорис указал, что каждый год он оценивает около 50 подобных пациентов со всего мира и что занимается повторным освидетельствованием десятков из них. Он никак не прокомментировал критику метода, который изобрела для Р. Х. его специалист по речи.
Позже, когда мать Р. Х. упомянула, что ее сын пишет книгу о своем опыте, Лорис провел простой тест для оценки способностей больного к коммуникации. Специалиста по речи попросили покинуть комнату, а Р. Х. показали различные объекты, после чего попросили напечатать их названия с помощью независимого наблюдателя. Несмотря на многократно повторяемые попытки, Р. Х. не смог идентифицировать ни одного объекта или вступить с кем-то в осмысленный контакт. Когда Лориса спросили, почему ранее он не выказывал никакого скепсиса в отношении роли речевого специалиста в обнаружившейся у Р. Х. способности к общению, он ответил: «История Р. Х. касается диагностики сознания, а не сохранности коммуникативных способностей. С самого начала я не рекомендовал этой методики. Но важно не выносить резких суждений. Его семья и те, кто о нем заботился, действовали из любви и сострадания» [248, 249].
Одно замечание о методологии: существуют стандартные методы определения минимальных моторных движений. При размещении электродов над пальцами рук даже микродвижения, которые невозможно увидеть, могут быть электрически зафиксированы и выведены на монитор.
Таким же способом, как «запертые» пациенты (находящиеся в полном сознании, но парализованные и неспособные говорить) могут общаться с помощью любых остаточных движений, например моргания век, как это было с редактором журнала Жаном-Домиником Боби, чья история стала бессмертной благодаря книге и фильму «Скафандр и Бабочка» (Le Scaphandre et le Papillon), было бы возможно выработать схему, при которой Р. Х. мог бы взаимодействовать с окружающими напрямую, глядя на монитор. В переводчике изначально не было необходимости.
В 2011 г., через два года после исходного комментария о Р. Х., Лорис опубликовал в British Medical Journal исследование, посвященное оценке качества жизни 65 пациентов с синдромом «запертого» человека [250]. Пациенты отвечали на серии вопросов путем моргания. 47 сказали, что они счастливы, 18 – что несчастны. Лорис написал, что эти результаты должны изменить не только уход за пациентами, но и отношение людей к эвтаназии. Он демонстрировал умеренный оптимизм в отношении того, что с помощью реабилитации многие пациенты могут восстановить некоторый контроль над своей головой, пальцами рук и ногами, смогут немного говорить [251].
Его обобщенное заключение: «Наши данные указывают на острую необходимость в дополнительных паллиативных усилиях, направленных на восстановление подвижности у людей с синдромом «запертого» человека… Пациентов, недавно пораженных синдромом «запертого» человека, которые хотят умереть, следует убеждать, что существуют большие шансы восстановить счастливую и полную смысла жизнь… Просьбы пациентов об эвтаназии должны приниматься с сочувствием, но наши данные позволяют предположить, что мораторий должен провозглашаться до тех пор, пока болезнь пациента не стабилизируется». Лорис и его коллеги заметили, что чем дольше человек пребывал в запертом состоянии, тем выше была вероятность того, что он будет удовлетворен своей жизнью.
Установить мораторий на эвтаназию на основе неподтвержденной документальными данными уверенности, что усовершенствование методов реабилитации сможет обеспечить более высокое качество жизни, значит, поставить «моральную телегу впереди научной лошади». На сегодняшний день существуют весьма скудные свидетельства серьезных улучшений после долгосрочной реабилитации у пациентов с глубокими нарушениями сознания или синдромом «запертого» человека. Точно так же непонятно, как определять, что пациент стабилизировался, когда Лорис говорит нам, что чем больше пациент ждет, тем более вероятно, что он свыкнется со своей ситуацией. Одним из условий рассмотрения прекращения лечения является высокая вероятность невозможности дальнейшего восстановления. Если вы заявляете (без соответствующих обоснований), что эмоциональное состояние человека, скорее всего, улучшится с течением времени, отключение жизнеобеспечения никогда не станет реалистичным вариантом. Кроме того, насколько, по вашему мнению, может вызывать доверие описание пациентом своего психического состояния, если забота о нем полностью зависит от тех, кто задает вопросы? Представьте себе личный кошмар пребывания в полностью парализованном состоянии и попыток понять, как ответить честно и при этом не обидеть тех, кто о вас заботится. И что нам делать с советами Лориса другим врачам убеждать своих пациентов, находящихся в подобном состоянии, что у них, скорее всего, счастливая и полная смысла жизнь?
Можно судить о научной точности данных Лориса. Настолько, насколько наука может определить надежность его наблюдений. Но его интерпретация собственных результатов – это не наука. Это поучительная история о нашей неспособности клинически точно определять уровень сознания и о том, почему мы должны быть осторожны при решении об эвтаназии в таких случаях. Поскольку нейробиология часто не предоставляет нам четких различий между научными результатами и историями на их основе, мы сами должны проводить эту разграничительную линию.
Вернемся к статье в журнале Archives of Neurology 2007 г., соавтором которой был Лорис. В ней указывается, что молодая женщина, пациентка, пребывает в сознании, поскольку ее результаты фМРТ-обследования показали, что она представляет себя играющей в теннис и бродящей по своему дому. Теперь, когда мы знаем позицию д-ра Лориса по относительной удовлетворенности жизнью пациентов с синдромом «запертого» человека и его озабоченностью эвтаназией, не следует ли нам задаться вопросом: не опирается ли он в разработке и интерпретации своих исследований пациентов с другими расстройствами сознания на эти свои убеждения, особенно когда его заключения имеют такие далеко идущие последствия?
Было бы несложно предоставить альтернативные интерпретации исследований Лориса в отношении счастья пациентов или осудить его некритичное отношение к дискредитировавшему себя методу (облегченная коммуникация). Но личная критика отдельных исследований не высветит более крупной проблемы: мы должны признать ограниченность того, что наука может сказать о психическом состоянии человека, и осознать моральные последствия представления личной точки зрения в качестве научного факта.
Должен признать, я обеспокоен собственным критицизмом в отношении исследований Лориса и его коллег, поскольку оно привело к появлению ценных методов уточнения, как функционирует мозг при различных нарушениях сознания. Они изобретательны и провокационны и уже спровоцировали другое замечательное исследование. Но даже наиболее выдающиеся и тщательные исследования не должны приобретать статус лицензии на принятие моральных решений так, как будто они являются неопровержимыми научными фактами. Если личное видение интеллекта, сознания или морали предлагается как научная истина, такая нейробиология ничем не лучше основанных на вере абсолютных истин, предлагаемых оппонентами научной методологии.
Подводя итоги
Читая любое заявление нейробиологов о разуме, помните:
• Разум «существует» в двух измерениях: как переживаемый опыт и как абстрактное понятие. Ни один из них недоступен традиционному научному познанию.
• Все размышления и исследования разума направляются непроизвольными процессами в мозге, которые совместно создают иллюзорное чувство личного, уникального Я, способного целенаправленно и непредубежденно исследовать то, как мозг создает разум.
• Принять во внимание то, как эти непроизвольные психологические состояния создают наше чувство разума, – необходимый первый шаг к реалистичному, пусть даже и ограниченному пониманию того, чем может быть разум.
• Нежелание признавать существующие биологические ограничения исследования разума приведет лишь к дальнейшим нейробиологическим эксцессам.
Мудрость – это смирение перед лицом тайны
Если бы меня попросили уместить эту книгу в одну фразу, я бы сказал, что все мы – нейробиологи, специалисты в когнитивной области, психологи, философы и просто читатели – должны постоянно помнить о неотъемлемом парадоксе, движущем все изыскания в области разума. Разум существует в двух различных измерениях: как переживаемый опыт и как абстрактное понятие. Неизбежным недостатком является то, что комплекс непроизвольных ментальных ощущений играет критическую роль в формировании нашего понимания того, что «есть» разум и что он «делает». Это черта человеческой природы – ощущать по большей части непроизвольно генерируемый разум таким образом, будто он способен объяснить сам себя. Этот парадокс неизбежен, и его не исправить ни более совершенной науке, ни новым технологиям. Хотя мы можем и должны упорно трудиться над совершенствованием наших рассуждений, ограничения будут существовать всегда. По иронии судьбы, даже если существовало бы последнее, и окончательное, слово о природе разума, мы заметили бы его, только если б все думали одинаково, – а это психологически невероятно.
В своем исследовании «Несведущий и не знающий об этом» (я подробно описал его в главе 5) Крюгер и Даннинг предложили одно из лучших заключений к научной статье, которое я когда-либо читал. Я предлагаю его в качестве примера того, как качественная наука о разуме может и не может говорить о себе.
«Хотя мы чувствуем, что проделали хорошую работу, чтобы превратить этот анализ в веские факты, это было эмпирическое исследование, и когда мы делали из него соответствующие выводы, наши тезисы вызывали у нас беспокойство, которое мы так и не смогли преодолеть. Это беспокойство состоит в том, что данная статья может содержать ошибочные рассуждения, методологические упущения или плохо передавать смысл. Позвольте заверить читателей, что до той степени, в какой эта статья несовершенна, – это грех, который мы не совершали осознанно» [252].
Это заключение – честное, учитывающее неотъемлемые ограничения – не предлагается в качестве окончательного слова и подано хорошим слогом, остроумно и аккуратно. Судя по характеру заключения, авторы обладают профессиональной этикой и не пытаются поставить себя выше читателей.
Для ученого заключение представляет собой модель будущего. Ни один из нас, каким бы умным, сообразительным или прирожденным нейробиологом, философом или наблюдателем за людьми он ни был, не знает окончательного слова. Каждый из нас рассказывает истории, а не открывает абсолютные истины. Разум – это тайна и всегда ею останется. Для нейробиолога скромное признание ограничений научных исследований должно быть первым шагом в изучении разума. Если это значит, что нейробиолог должен выйти из круга своей компетентности и личной уверенности, чтобы увидеть, как его собственное Я неосознанно подталкивает к определенным выводам, то да будет так. Продолжать неоправданно претендовать на то, что наше понимание разума требует только бесспорных данных, – значит, игнорировать все то, что мы узнаем о принципах работы мозга.
Читатели сталкиваются с немного иной работой. Немногие из нас обладают достаточными познаниями, чтобы полностью оценить сырые данные неврологии. Но у каждого есть чувство, какая история хороша, а какая плоха. Читая художественные произведения, мы часто учитываем взаимоотношения автора с рассказанной им историей. Мы читаем издательские аннотации на обложках и разглядываем фотографию автора. Мы заглядываем на его сайт, чтобы найти какие-то биографические сведения, описание предыдущих книг и, возможно, несколько слов о том, почему он написал эту книгу. Мы принимаем как само собой разумеющееся, что знания об авторе помогут нам понять историю, которую он рассказал.
Читателям следует использовать такой же подход к нейробиологии. А нейробиологов следует призвать обязывать к этому читателей. От ученого нам необходимо понимание того, как и почему он выбрал данный конкретный предмет изучения, методологию и способ интерпретации. Нам необходимо представление о том, что стало предметом живого интереса автора каждого исследования. Хотя публичные откровения ученого идут вразрез с традиционным, но ничем не оправданным предположением о том, что наука абсолютно объективна и должна быть очищена от личных установок, наше понимание нейробиологии было бы совсем иным, если б каждое исследование содержало абзац-другой, в которых автор рассказывал о своем понимании того, какие личные мотивы и профессиональные интересы двигали исследованием. Не важно, насколько несовершенным или незаконченным является самопознание, некое представление авторских мотиваций и намерений, связанных с исследованием, было бы неоценимо. По крайней мере, эта дополнительная информация позволила бы каждому судить о правдивости и последовательности объявленных автором поводов для исследования, выявить возможные скрытые мотивы, учесть уровень собственной «самоосведомленности» автора и получить представление о характере того, кто рассказывает историю [253].
Нейробиологи быстро становятся главными сочинителями современной истории разума. У них есть инструменты, язык и опыт для того, чтобы рассказывать нам содержательные, увлекательные и важные истории. В свою очередь, мы должны судить об их исследованиях в таком же свете, в каком мы судим другие формы искусства. Мы должны оценивать точность языка, целостность структуры, ясность и своеобразие изложения, общее изящество и изысканность исследования, сдержанность в освещении вопросов морали, определении места своего исследования в историческом, культурном и личном контексте и готовность серьезно рассматривать альтернативные мнения и интерпретации. Точно так же, как хороший романист признает, что его описание персонажа, каким бы замечательным оно ни было, необязательно является единственным способом изобразить его, нейробиологи должны смотреть на свои заключения в отношении разума как на одну из нескольких или многих интерпретаций. В конце концов, любые заключения о разуме являются субъективным видением, а не неопровержимым и неизбежным следствием научного рассуждения.
Великое искусство – это выражение почтения и восхищения. Это также и определение и признание границ. Рабочим кредо нейробиолога должно быть жесткое соблюдение научной методологии наряду с пониманием, что исследование разума – это основанный на данных вид искусства, а не одно из ответвлений фундаментальной науки. Смирение, уважение и почтение перед непознаваемым должны быть исходным пунктом рассуждений, претендующих на осмысление любой великой тайны, а нет ничего более таинственного, чем разум, пытающийся осмыслить себя.
Примечания
1. С учетом этой суровой реальности нереалистично ждать, что нейробиологи в своих мнениях и суждениях вдруг станут придерживаться более высоких стандартов личной сдержанности, внимания к нравственному аспекту и тщательности в выборе слов, чем их друзья, соседи и коллеги-академики из других областей науки. Не существует нейробиологического эквивалента клятвы Гиппократа: прежде всего – не навреди.
В обозримом будущем исследования разума по-прежнему будут характеризоваться необузданностью Дикого Запада. У меня возникает соблазн предложить аналогию с блошиным рынком, где продаются модели разума. Каждый пытается продать собственное хитроумное изобретение. Некоторые будут совершенно бесполезными, некоторые – с сомнительной ценностью, некоторые будут поначалу прекрасны, но сломаются при регулярном использовании, а какие-то будут точно такими, как рекламировались. И там же будут продаваться истинные сокровища. И на этом рынке нет администрации, способной контролировать информацию продавцов, никакой нейробиологической «защиты потребителей», способной проверить товар, никакой Ассоциации Предпринимателей, которой можно было бы сообщить о недостоверной информации или открытом мошенничестве, и никакого знака качества, подтверждающего высокую ценность продукта. Каждый из нас должен самостоятельно стать разборчивым покупателем.
2. Callaway E. – Possible site of free will found in brain,//New Scientist, May 7, 2009. http://www.newscientist.com/article/dn17092-possible-site-of-free-will-found-in-brain.html?
3. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/bad-behaviour-down-to-genes-not-poor-parenting-says-study-2093543.html
4. Damasio A. – The Brain: A Story We Tell Ourselves,// Time, January 29, 2007. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1580386,00.html#ixzz12IU4qXQa
«Некоторые философы настаивают на том, что решение проблемы сознания лежит за пределами возможностей человеческого интеллекта. Это очень странно и, я убежден, неверно… Все, что было необходимо для понимания сознания, сейчас полностью доступно в сферах эволюционной биологии и психологии».
5. Brooks M. What we‘ll never know. New Scientist, May 7, 2011, 38.
6. В более активном состоянии у нейронов выше уровень метаболизма, поскольку им требуется больше кислорода. Определяя относительные уровни кислорода в крови в различных областях мозга (BOLD – метод определения уровня насыщенности кислородом, или оксигенации, крови), фМРТ может продемонстрировать изменения в уровне активации мозга, когда испытуемый выполняет задание. Поскольку этот метод полагается на заключения о состоянии мозга, сделанные на основе измерения кровотока, существует целый ряд теоретических и практических ограничений и потенциальных ловушек.
7. Линас убежденно заявляет, что централизация двигательного контроля порождает потребность организма в мониторинге и предсказании состояния своего собственного тела. Всепроникающее, интимное, ежемоментное «чувство Я», которым мы все, к нашей радости, обладаем, следует, таким образом, понимать не как продукт эволюционной ошибки в когнитивном или перцептивном совершенстве, а как функциональную предпосылку обдуманного управления действиями.
8. Brugger P., Agosti R., Regard M., Wieser H., Landis T., – Heautoscopy, Epilepsy and Suicide,// Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry (1994), 838–839.
9. Техническое название – хеаутоскопия. Чаще всего наблюдается у пациентов, источник судорожных расстройств которых расположен в теменной или глубокой височной доле. Это описание комбинируется с классическими признаками аутоскопии, представляющими собой визуальные галлюцинации, когда человек видит свое тело или его части будто отраженными в зеркале и переживает внетелесный опыт, основным компонентом которого является иллюзия отделения от собственного тела.
10. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=neuroscience-of-selfhood.
11. На сегодняшний день предполагается, что целый ряд видов имеет по крайней мере рудиментарное чувство Я, т. к. они способны узнавать себя в зеркале. Чем сложнее поведение, тем выше потребность в чувстве Я, необходимом для более сложных мыслей и действий.
12. http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2008/12/the_bodyswap_illusion.php.
13. Две хорошие работы, суммирующие последние исследования локализации в мозге: Gallagher S. – Multiple Aspects in the Sense of Agency, New Ideas in Psychology (2010); David N., Newen A., Vogeley K. – The Sense of Agency// and its Underlying Cognitive and Neural Mechanisms // Consciousness and Cognition, 17 (2008), 523–534.
14. «Есть смысл в предположении, что самосознание должно обеспечиваться теми областями мозга, которые интегрируют воедино множество различных источников информации. Поскольку разные источники внешних данных несут разные аспекты информации об организме, все связанные между собой аспекты будут сильно коррелировать друг с другом. В организме с достаточно мощной ассоциативной памятью и способностью к обучению эти различные данные о себе формируют высокосогласованный, многомерный «супермассив» входных данных.
Следует подчеркнуть, что образ Я не обязательно является точно локализованным набором нейронных путей, представляющих конкретные внутренние параметры организма. Скорее, он должен восприниматься в большей степени как комплекс ассоциаций, сгенерированный непрерывно поступающей информацией, относящейся к самому организму. В то время как такие ассоциации могут представлять центральный узел нервных путей, создающий исходный образ Я, формирующиеся воспоминания, включающие образ Я, сами по себе могут стать частью образа Я, так что количество ассоциаций, определяющих образ Я, может со временем возрастать».
15. http://www.shoreline.edu/psparks/homework/OBE.pdf.
16. Неврологи часто используют термин «разъединение» или «синдром разъединения», говоря о нестыковке двух аспектов единого действия. Например, написание предложения и прочтение того, что вы написали, обычно воспринимается как единый процесс. Однако при локальных повреждениях мозга, например после инсульта, одна функция может быть выборочно нарушена, тогда как другая остается неповрежденной, в результате чего появляется такой специфический синдром, как способность написать предложение и при этом неспособность прочесть то, что вы написали (алексия без аграфии).
17. Бланке и Метцингер (Metzinger) расширили свое видение этих базовых компонентов чувства Я, категоризируя их в целом как «минимальная ощущаемая (феноменальная) самость». «Феноминальность» означает, что это те ощущения, которые дают нам чувство присутствия Я. Минимальность означает, что мы исключаем более сложное хроникальное чувство Я, создаваемое воспоминаниями, опытом, историями и т. д. Различные исследователи предлагают несколько отличающиеся категории, но большинство сходится в том, что существует несколько различных ощущений, коллективно создающих эту минимальную самость. Они включают в себя чувство владения и идентификации с телом как единое целое (чувство «принадлежности»), расположения Я в пространстве и ориентация позиции, из которой мы видим мир – взгляд от первого лица. Все вместе они создают «опыт существования как определенной, целостной сущности, способной на глобальный самоконтроль и внимание, обладающей телом и фиксированным положением в пространстве и времени».
18. Blanke O., and Metzinger T., – Full-body Illusions and Minimal Phenomenal Selfhood // Trends in Cognitive Sciences, 13, no. 1 (2008), 7–12.
19. Для видеодемонстрации: http://www.youtube.com/watch?gl= US&hl=uk&v=TCQbygjG0RU.
20. http://www.plosone.org/article/info: doi/10.1371/journal.pone.0003832; Petkova, V.I. & Ehrsson H.H. (2008). – If I Were You: Perceptual Illusion of Body Swapping.
21. Демонстрация: http://www.youtube.com/watch?v=rawY2VzN4-c.
22. Iriki S., Tanaka M., and Iwamura Y., – Coding of modified body schema during tool use by macaque post-central neurons // Neuroreport, 7(14), (1996): 2325–2230.
23. Obayashi S., Suhara T., Kawabe K., Okauchi T., Maeda J., Oakine Y., Onoe H., and Iriaki A. – Functional brain mapping of monkey tool use. Neuroi, 14(4), (2001): 853–861.
24. Quallo M., Price C., Ueno K., Asamizuya T., Cheng K., Lemon R., and Iriki A., – Gray and white matter changes associated with tool-use learning in macaque monkeys,// Proceedings of the National Academy of Science, vol. 106, no. 43, October 27, 2009: 18379–18384. http://www.pnas.org/content/106/43/18379.full.pdf+html.
25. Gould E. – How widespread is adult neurogenesis in mammals?// Nat Rev Neuroscience, 8, (2007): 481–488.
26. Peeters R., Simone L., Nelissen K., Fabbri-Destro M., Vanduffel W., Rizzolatti G., and Orban G., – The Representation of Tool Use in Humans and Monkeys: Common and Uniquely Human Features,// The Journal of Neuroscience, 29(37), (September 16, 2009):11523–11539–11523. http://www.jneurosci.org/content/29/37/11523.full.pdf.
27. Berlucchi G., and Aglioti S. – The body in the brain: neural bases of corporeal awareness,” Trends Neurosci, 20, (1997): 560–564.
28. Philosophy 132 UC Berkeley Lecture Series by John Searle on ITunes U Spring 2010.
29. В 1930-е гг. Клювер и Бюси обнаружили резкое снижение реакций страха у приматов с повреждением той зоны височной доли, где располагается миндалина.
30. Lipoid proteinosis, или болезнь Урбаха – Вите.
31. http://www.nytimes.com/2010/12/21/science/21obbrain.html.
32. Kennedy D., Glascher J., Tyszja J., and Adolphs R. – Personal space regulation by the human amygdala. Nature Neuroscience 12 (10), October 2009: 1226–1227.
33. Jrvinen-Pasley A., Bellugi U., Reilly J., Mills D., Galaburda A., Reiss R. and Korenberg J., – Defining the Social Phenotype in Williams Syndrome: A Model for Linking Gene, the Brain, and Behavior, Development and Psychopathology, 20, (2008): 1–35.
34. http://www.jstor.org/pss/2786318 Baxter, J. – Interpersonal Spacing in Natural Settings,// Sociometry 33 (4), (1970): 444–456
35. http://www.foxnews.com/story/0,2933,520811,00.html.
36. McGeoch P., Brang D., Song T., Lee R., Huang M., Ramachandran V., – Apotemnophilia – the Neurological Basis of a Psychological‘ Disorder,// Nature Precedings, hdl:10101/npre.2009.2954.1. http://precedings.nature.com/documents/2954/version/1/files/npre20092954-1.pdf.
37. Ramachandran V., Rogers-Ramachandran D. C.; Cobb, S., “Touching the Phantom,” Nature, 377, (1995), 489–490.
38. MacIver K., Lloyd D.M., Kelly S, Roberts N., and Nurmikko T. – Phantom Limb Pain, Cortical Reorganization and the Therapeutic Effect of Mental Imagery,// Brain 131, (8), (2008): 2181–91. http://brain.oxfordjournals.org/content/131/8/2181.short.
39. New Scientist (March 13, 2010): 22.
40. Costandi, M. – Distorted Body Images: A Quick and Easy Way to Reduce Pain.// Scientific American, December 23, 2008. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=a-quick-way-to-reduce-pain.
41. Обзор В.С. Рамачандрана о применении терапии зеркального ящика при различных заболеваниях см. http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2009/06/08/brain.awp135.full.
42. Pinter H. – Various Voices: Prose, Poetry, Politics, 1948–1998 // (Grove Press July 10, 2001): 11.
43. Ilya Farber, “The world within the skull,” Nature (2001), rev. of Llinas “I of the Vortex” (sub req).
44. Ilya Farber Review of Rudolfo Llinas, “I of the Vortex: From Neurons to Self,” American Scientist, 2001.
45. В книге «On Being certain» (гл. 13, с. 177–187) я делаю предположение, что целенаправленность лучше всего представлять как непроизвольное ментальное ощущение, близко связанное с чувством знания.
46. Я не подразумеваю, что в действительности существует конкретная зона мозга, которую можно рассматривать как место для предсказаний. Скорее предсказания являются функцией целого набора нервных сетей. Однако представление о «главном предсказателе» представляет собой удобную комбинацию метафоры и условного обозначения.
47. Lafargue G., Franck N. – Effort Awareness and Sense of Volition in Schizophrenia // Consciousness and Cognition 18 (2009), 277–289.
48. Lewes, G. H. “Motor-feelings and the Muscular Sense.” Brain, 1, (1878):14–28.
49. В 1805 г. французский философ Мен де Биран написал, что чувство усилия является фундаментальным компонентом ощущения Я, признаком задействования воли.
50. Аналогичные результаты наблюдались у добровольцев с искусственно вызванной в ходе эксперимента потерей периферийной чувствительности.