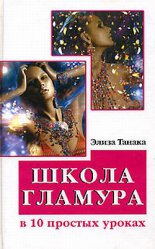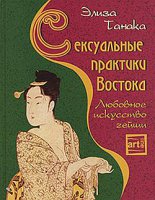Концептуальная психотерапия: портретный метод Назлоян Гагик

Никакое предположение не кажется мне более естественным, чем то, что не существует протекающего в мозгу процесса, связанного с мышлением
Людвиг Витгенштейн
* * *
Автор: Назлоян Г. М. – врач-психиатр, науч. рук. Моск. ин-та маскотерапии, канд. психолог. наук, почет. д-р Ин-та майевтики в Лозанне.
© Г. М. Назлоян, 2002
© ПЕР СЭ, оригинал-макет, оформление, 2002
Предисловие
Еще в студенческие годы я заметил, как мало спорят врачи других профессий о способах медицинского вмешательства и какое значение они придают исполнительскому мастерству специалиста, его компетенции. В психотерапии же ученик не превзошел еще своего учителя, что косвенно свидетельствует о привязанности терапевтического ритуала к его создателю. У каждого из известных психотерапевтов прошлого есть несколько случаев, которые переходят из книги в книгу, иллюстрируя миф о великом мастере. Будущий аналитик, принимая знания «из первых рук», до конца не преодолевает смятение и комплекс собственной неполноценности. Поэтому в целях самоутверждения психотерапевты нередко создают собственную точку отсчета при лечении пациентов.
Можно провести аналогию с развитием живописи, где тоже существуют два подхода: создание техник (темпера, акварель, масло, пастель) и реализация исполнительского мастерства художника, его стиль, манера. Однако здесь не говорят, что, к примеру, изобретатель масляной живописи Ван Эйк при всем его величии значительнее других художников – Босха, Джотто или Сезана. Он создал масляные краски не потому, что был изумительным художником, а потому, что увлекался алхимией. Некоторые искусствоведы даже укоряют Леонардо, что он пытался (не совсем удачно) создавать новые пигменты, а его привычка вместо кисти пользоваться иногда ребром ладони никак не отражается на нашем эстетическом восприятии «Дамы с горностаем».
Настоящее издание основано на публикациях разных лет. Оно объединяет критические и конструктивные идеи, сформулированные нами часто независимо друг от друга. Книга создавалась с учетом замечаний и пожеланий наших читателей – психологов, психиатров, психотерапевтов в процессе расширения темы предыдущей монографии (Назлоян 2001).
Несмотря на критическую направленность, работа примыкает к интегративным тенденциям в современной психотерапии. Критические замечания касаются лишь тех деталей и нюансов, которые препятствуют объединению существующих методов психотерапии в единый концептуальный узел. Ибо цель научной публикации – лучше понимать других специалистов и быть понятым ими. В своей практической деятельности мы учитывали лишь самые доказательные идеи наших коллег и предшественников, а также их пожелания другим врачам. Соединив в одно целое науку и искусство, мы выдвинули достаточно много перспективных приемов психотерапии, которые теперь уже ждут своего мастера.
Введение
Клиническая психиатрия – особая область медицины. Будучи «нравственно отягощенным» знанием, она развивается несколько иначе, чем другие науки о человеке. Ее развитие во многом определяется тесными связями с общественными и государственными структурами, необходимостью решать судьбу пациента постановкой адекватного диагноза. В то же время, будучи наукой эмпирической, клиническая психиатрия ориентирована не на теорию, а на классификационные принципы с их определениями и ярлыками, которые периодически уточняются психиатрическим сообществом (Жариков, Тюльпин, с.20). Она также не лишена субъективности и часто зависит от вкусов, культуры, обаяния лидера той или иной школы в пределах страны или города, большого или маленького учреждения.
Критический анализ общих проблем нашей науки должен быть конструктивным, здесь нельзя огульно отрицать общепринятые стандарты или высказывать слишком смелые идеи, проводить эксперименты методом проб и ошибок: «теории всегда замолкают у постели больного» – говорили первые клиницисты (Фуко, с. 166). Клинические испытания новых гипотез длятся порой многие годы. В то же время психиатрия как дисциплина, возникшая на границе естественных и гуманитарных наук, нуждается в постоянном обновлении. Она не может подчиняться уже устаревшим и отвергнутым в смежных науках представлениям, пусть даже фундаментальным.
Полтора столетия клиническая психиатрия развивалась на естественнонаучной основе, что было связано с открытиями в области нейрофизиологии и психологии (Гризингер; Кречмер, 1998; Ярошевский, 1985). «Отправным пунктом ее служит научное познание сущности душевных расстройств» (Крепелин, с.1). Ее недавние успехи вызваны интенсификацией обмена опытом между разными школами, повышением качества параклинических и патопсихологических обследований, появлением психофармакологических препаратов различной направленности, выделением и развитием психосоматики, геронтологии, наркологии, сексологии, значительным расширением реабилитационной службы.
Эти и другие факторы привели к обеспечению стойких «ремиссий» у пациентов, к быстрому и эффективному преодолению функциональных и других расстройств, к серьезной либерализации опеки психически больных, условий их быта, к популяризации психиатрии как социально значимой науки, а также идей гуманного отношения к душевнобольным. Но в последние два десятилетия наметились признаки застоя, простого воспроизведения опыта наших непосредственных предшественников. Психиатрия не только уступает передовые позиции в медицине, но и теряет свою значимость в общественном мнении.
Объектом настоящего исследования является душевнобольной, в частности его патологические переживания, известные своей резистентностью к психотерапевтическому воздействию. Трудности лечения обусловлены тем, что психотерапия, как и лекарственная терапия, направлена на преодоление расстройств, декларируемых самим пациентом, т. е. на следствия, а не на их причину (Бурно 1985; Жислин; Констрорум; Роджерс; Fromm-Reichmann). Психотерапия, как об этом свидетельствует история становления психоанализа и других известных школ, успешна лишь тогда, когда она концептуализует психическую же причину патологического явления, определяет патологическое начало, «почву» произрастания невротических, психических и психосоматических расстройств.
Отсутствие такой концептуализации – главная особенность клинической интерпретации психических нарушений, здесь доминируют «авторитет чистого взгляда», традиция и соматическая каузальность (Фуко, с. 166–190). «В психиатрии, – пишет известный историк науки М. Г. Ярошевский, – господствовала ориентация (обусловленная укорененностью ее понятий в естественнонаучном подходе к этиологии заболеваний) на выявление органических причин патологических процессов. Психоанализ же, исходя из принципа психической причинности, искал эти причины в сфере бессознательной психики безотносительно к физиологическим (нейрогуморальным) механизмам, которыми обусловлено ее функционирование» (Ярошевский, 1991, с. 443). Хотя Фрейд сомневался в успешности глубинной психотерапии психозов (из-за проблем переноса), именно он, в отличие от представителей соматогенеза психических нарушений, положил начало психотерапии душевных заболеваний.
Тем не менее в вопросах диагностики и лечения душевнобольных мы не видим альтернативы клиническому направлению, вобравшему в себя опыт многих поколений теоретиков и практиков. Всем остальным концептуальным направлениям (психоанализ и его ответвления) свойственна выясненная еще Фрейдом избыточная дифференциация неврозов и психозов (Фрейд, 1991, с. 154–162). По его мнению, «невроз не отрицает реальности, он не хочет только ничего знать о ней; психоз же отрицает ее и пытается заменить ее» (Овчаренко, с.190). Развитие клинической (медицинской) психотерапии значимо не только в исследовательской сфере, оно нужно и в прикладной области (Бурно, 1993, с. 213–220).
Клиническая беседа давно уже соседствует с другими арт- и психотерапевтическими техниками, но уступает им из-за ограниченности в методологическом плане. Клинические принципы «видеть и знать», «спрашивать и анализировать» недостаточны для последовательного избавления пациента от психического недомогания. Проблема расширения клинического мировоззрения, создания на его базе новых эффективных методов психотерапии стимулировала настоящее исследование. Это, на наш взгляд, единственный путь сохранения психиатрической культуры и культуры сострадания душевнобольным, в отличие от всякой известной психотерапии, которая так или иначе игнорирует наблюдения и факты, известные психиатрической науке и систематизированные нашими предшественниками.
К 70-м годам, когда началась наша клиническая практика, основная масса душевнобольных во всем мире уже прошла интенсивную медикаментозную терапию и принимала амбулаторные (в лучшем случае) дозы нейролептиков или их пролонгов. Уже получила известность большая часть современных, в высшей степени активных препаратов, были разработаны и внедрены существующие до сих пор стандарты их применения. Лекарственный патоморфоз и бурный рост атипических форм фактически разрушил классификацию Э. Крепелина во всех ее вариантах способом «от противного», причем произошло это за короткое время. Каждый случай, попадавший в поле нашего внимания, выходил за пределы книжных описаний, нуждался в индивидуальном подходе, чего нельзя было достичь в условиях стационара, где терапия напоминает конвейер, а многие врачебные функции отданы на откуп младшему и среднему медицинскому персоналу.
Это обусловлено, думается, тем не учтенным еще фактом, что категориальный аппарат клинической психиатрии формировался в середине XIX века, на почве грубого физиологизма и вульгарного материализма (Дубровский, 1974; Каннабих; Ярошевский, 1961). Он сохранился до нашего времени, препятствуя внедрению новых масштабных идей и мировоззрений, в отличие от развития психологии, педагогики, лингвистики, этнологии. Чрезмерная ортодоксальность представителей клинической психиатрии обусловлена тем, что многие из них не до конца осознают уникальность своего предмета в системе медицинских наук.
Когда исследователь находится в трудном положении, он обращается к истокам своей дисциплины. Так и мы совершили экскурс к началам клинической психиатрии, пытаясь найти предпосылки для формирования новых методологических позиций, изобретения эффективных способов воздействия на патологическое начало. Это было важно не столько в порядке «чистого творчества», сколько ради помощи каждому из пациентов, доверивших нам свою жизнь. Цели настоящего исследования формировались в гуще клинической практики, а отдельные догадки обсуждались не только с консультантами и коллегами по работе, но и с опекунами наших больных – представителями различных профессий. Новая, концептуальная психотерапия возникла на фоне разочарования в традиционных методах лечения душевнобольных, – от суггестивных до психодинамических.
Из всех конструктивных идей, сложившихся в клинической психиатрии, наиболее перспективна, на наш взгляд, теория патологического отчуждения, аутизма. Ее выдвинул швейцарский психопатолог, один из классиков психиатрии Ойген Блейлер. Выдвинутая позитивно, она осталась во многом незавершенной и нераспознанной современниками; она явно опередила свое время, как и близкие по смыслу идеи М. М. Бахтина, М. Бубера, Л. С. Выготского, О. Розенштока-Хюсси, С. Л. Франка, Ф. Эбнера. Эвристический потенциал понятия аутизма мы попытались, как и наш предшественник, раскрыть в клинической практике, выразить то, что, мы полагаем, не договорил выдающийся ученный.
В настоящей работе мы пытаемся впервые систематически изложить наш более чем двадцатилетний опыт лечения душевнобольных в неординарных для врача и пациента условиях (отношения художника и модели). Дается новое решение задач нелекарственного воздействия на патологическое начало, имеющее существенное значение для психотерапии психозов, неврозов, а также проявлений судорожного синдрома. В работе обоснованы теоретические, экспериментальные, технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач.
В наши задачи входило создание методов воздействия на психические расстройства, строго соответствующих завету «не навреди». За первые десять лет работы в стационарах, диспансерах, кабинетах, комиссиях возможности официальных лечебных учреждений были для нас исчерпаны, и мы основали психотерапевтическое учреждение, свободное от бюрократической опеки и контроля. Такие не зависящие от государственной системы здравоохранения структуры создаются для того, чтобы расширить диапазон возможностей врача, освободить его от рутинного труда.
Институт маскотерапии – учреждение альтернативной психиатрии. Последние десять лет мы, пользуясь большей, чем у наших коллег, степенью свободы, стремились преодолеть стереотипы лекарственного воздействия на патологию, развить концепцию клинической психиатрии, добавить недостающее научному подходу звено. В то же время, ощущая свою связь с обычными психиатрическими учреждениями, наши специалисты-психиатры тяготеют к сотрудничеству со своими коллегами, порой работая по совместительству в этих организациях.
Пересмотр важнейших постулатов клинической психиатрии произошел не сразу, он развивался на основе принципиально новых наблюдений и самонаблюдения, критического взгляда на действующие правила опеки и лечения. Такая возможность появилась благодаря предельной индивидуализации лечебного процесса, длительному (до сотен часов) ненормированному общению с душевнобольным в удобной для него и для врача обстановке. Кроме возникновения совершенно новых техник психотерапии, формировался видоизмененный способ применения уже известных лекарственных средств, в целях большей их эффективности и безопасности для больного. В частности, мы отказались от излишней опеки пациентов и курсового назначения шоков и больших нейролептиков – последнего оплота карательной психиатрии.
Портретный метод психотерапии разрабатывался в психиатрических отделениях, где мы искали подтверждения некоторых идей, возникших в период нашей работы над проблемами психологии научного творчества в ИИЕиТ АН СССР под руководством М. Г. Ярошевского. Нас интересовало не только творчество душевнобольных, но и различные формы нарушения творческих функций. Общий корень всех этих нарушений мы нашли в феномене патологического отчуждения. Нас привлекло к нему то место книги А. А. Ухтомского «Доминанта как фактор поведения», где автор дает суммарные образы нетворческих людей – аутиста и схоласта (Ухтомский, с. 311).
Но умозрительные представления, внесенные в клиническую практику, преломляются своеобразно и приводят к самым неожиданным результатам. Психиатрическое отделение отличается от экспериментальной базы других наук тем, что здесь выводы и наблюдения формируются при оказании медицинской помощи. Другими словами, обнаружение и изучение феномена патологического одиночества мы сочетали с его лечением. И поскольку стандарты психофармакологического воздействия на аутистические расстройства не определены, возникла необходимость в усилении психотерапевтического компонента терапии психозов.
Психотерапию душевных болезней и практикующие врачи и теоретики отечественной психиатрии до недавнего времени считали невозможной. Это убеждение было основано на том несомненном факте, что большинство принятых в здравоохранении техник терапии психических расстройств не приводило к убедительным результатам. До 1985 года, когда была установлена профессия психотерапевта (приказ Минздрава СССР № 750 от 31 мая), мы были вынуждены, подчиняясь инструкциям стационара, сочетать психотерапию с назначением психотропных препаратов, а после этого стали применять наши методы неограниченно. Главным среди них остается портретная психотерапия, особенность которой в том, что скульптурный портрет создается не профессиональным художником, а самим лечащим врачом. Это полностью меняет атмосферу психотерапии душевных заболеваний, структуру взаимоотношений врача и пациента.
Концепция патологического одиночества, основанная на диалогическом мировоззрении, дает возможность использовать принципиально новые идеи и методы в области психотерапии душевнобольных. Она позволяет соединить разные жанры портретного искусства с клиническими представлениями. Возникшие на границе науки и искусства, наши методы диагностики и терапии обладают высокой степенью гуманности, сохраняя научные достоинства клинического метода. Они дают возможность подчинить терапевтическому процессу искусство портрета.
Предлагаемые методы исследования распространяются на пять уровней: мировоззренческий, теоретический, экспериментальный, прикладной и психопедагогический. Мировоззренческий уровень сформировался в противостоянии монологической (манипулятивной) парадигме с выдвижением на первый план понятия о патологическом одиночестве, обозначающего единственный в клинической психиатрии феномен, имеющий отношение к диалогическому мировосприятию. Теоретический уровень – благодаря критическому пересмотру понятия об аутизме, привязанного к одной нозологии (четыре «А» шизофрении Блейлера) или к детской психиатрии (аутизм Каннера). Это позволило концептуализовать гипотетическую причину возникновения нервных и психических расстройств, определить перспективы развития клинической психотерапии.
Выдвинутая нами идея об одиночестве как нарушении образа «я» и диалога человека с самим собой обусловила экспериментальные исследования с использованием техники интервью «зеркальные переживания». Этот тест подтвердился на сотнях пациентов и вместе с методикой диагноза пространственно-временных нарушений оказался достаточно точным критерием аутистических расстройств.
Прикладная часть нашей работы – самая обширная и ценная в познавательном плане, она порождена применением авторских методов психотерапии, направленных на реконструкцию образа «я». Здесь зафиксирован и проанализирован опыт терапевтического контакта с душевнобольными, иногда в течение сотен творческих часов. Этот опыт излагается не только в научных статьях и докладах, но и передается непосредственно – врачам, психологам и определенной категории больных посредством разработанных нами психопедагогических методов и приемов.
В первой главе анализируется состояние современной психиатрической науки в стационаре и в амбулаторной практике. Прослеживается отрицательное влияние ортодоксальных идей на судьбу конкретных больных, характерные методологические ошибки, допускаемые практическими врачами. Излагается многолетний опыт наших сотрудников по преодолению укоренившихся догм и предрассудков в реальной практике, попыток либерализации психиатрической помощи и опеки пациентов. Дано критическое рассмотрение одной из главных парадигм клинической психиатрии, имеющей отношение к линейному, процессуальному видению психических явлений. Анализируются последствия сциентисткого клише в клинической практике, определяются пути преодоления этой, по нашему убеждению, устаревшей методологии. Обосновывается необходимость равноценного использования научного и эстетического методов при лечении душевнобольных.
Во второй главе исследуется понятие аутизма. Выявлено тесное родство этого понятия с клиническими представлениями о других формах социальной дезадаптации, выдвинута принципиально новая концепция патологического одиночества. Мы не отказались от устоявшегося понятия об аутизме, но лишь расширили сферу его приложения, пытаясь охватить весь спектр изложенных в литературе и встречающихся в текущем опыте психопатологических расстройств. Классическое определение аутизма, как и детского аутизма, стали в нашем контексте частными случаями более широкого круга явлений, объединяемых под названием патологического одиночества – ключа к личностным расстройствам психики.
Патологическое одиночество, по причине его присутствия в каждом психическом расстройстве, возводится нами в основополагающую категорию; это некоторая инварианта, с распознания которой и начинается терапия психозов в Институте маскотерапии. Такое одиночество для нас не только распространенный патологический признак, но и критерий психической болезни. Разработка этой проблемы перевела практику диагностики и лечения психических расстройств в русло другой, более плодотворной парадигмы – представления о диалогическом характере мышления. В этой же главе впервые дается новая концепция патологического одиночества с опорой на представлении человека о его зеркальном «я».
Глава третья посвящена методу психотерапии скульптурным портретированием душевнобольного. Проводится сравнение этого метода с известными техниками арт- и психотерапии. Обосновываются психотерапевтические приемы и правила проведения сеансов скульптурной психотерапии. Характеризуются современные направления психотерапии неврозов и психозов, различаемые нами по признаку концептуализации психической причины болезни.
Рассматриваются актуальные и недостаточно исследованные проблемы пространства и времени психотерапии. Выявляются различные формы подчинения психотерапевтического сеанса часовому, измеряемому времени. Определяется времеобразующая функция лечебного портрета, дается характеристика качества портретного времени, его интервалы и разметки. Описана структура портретного пространства, атмосфера творческой мастерской, манера лепки лечебного портрета, материал и инструменты. Проведена жанровая идентификация создаваемого врачом-психотерапевтом скульптурного портрета. Критически рассмотрено представление о терапевтическом альянсе, обосновывается необходимость двойного договора с опекуном и пациентом.
Исследуются особенности психотерапевтического диалога, структурные элементы которого создают условия для равного партнерства врача и пациента. На конкретных примерах описаны множественные идентификации больного с портретом и с врачом, а также врача с больным и с портретом. Показывается, как благодаря фактору идентификации удается пробить брешь в аутизме, трансформировать основной синдром заболевания в направлении его поэтапного упрощения, редукции и дезактуализации.
Нами также рассмотрена проблема завершения лечебного портрета, так называемая постаналитическая фаза. В этой связи исследуется феномен самоидентификации, дается критический анализ понятия катарсиса. Наряду с клиническим критерием утверждается эстетический критерий завершения психотерапевтического процесса.
Главе четвертая содержит описание других авторских техник, в частности техники лечебного автопортрета. Рассматривается также группа других авторских методов психотерапии, объединенных под названием бодиарттерапии, – лепка и живопись по живому лицу. Анализируются трудности и преимущества использования этих методик, их значение для модернизации традиционных техник психотерапии (психоаналитической, рациональной, суггестивной терапии), а также для реализации метода параллельного лечения родственников душевнобольных. В этой же главе даны краткие характеристики других применяемых техник: усовершенствованная техника арттерапии (рисунок, живопись, гобелен), ритмическая пластика, другие формы двигательного диалога, групповая психотерапия «беседы у костра», принципы сочетания лекарственных и нелекарственных форм воздействия на патологическое начало, способы обучения техникам маскотерапии. Список литературы сведен к необходимому минимуму, – к тем авторам, труды которых были наиболее влиятельными в нашей практической работе и при составлении данного текста.
Автор приносит благодарность всем специалистам, которые в частных беседах и на конференциях, помогали прокладывать путь к новым методам лечения. Наша особая признательность философам Д. И. Дубровскому и В. М. Розину, К. Чаликяну, психологам П. Г. Белкину и М. Г. Ярошевскому, психиатрам Р. Г. Голодец,A. И. Белкину, М. Блейлеру, М. И. Рыбальскому и В. П. Самохвалову, психотерапевтам Т. В. Снегиревой, М. Е. Бурно, Ф. Е. Василюку, B. П. Колосову и В. Е. Рожнову, этнологу Л. А. Абрамяну, арттерапевтам Ж. П. Клайну, Дж. Мастропаоло и Сукину Ю, художнику Р. Хачатряну, кинорежисерам Н. Верховскому, М. Ляховецкому, А. Пелешяну, Д. Сендрикову, фотографам А. Морковкину, А. Полякову, искусствоведу Г. Ельшевской, филологам Т. В. Цивьян, Ю. Акопяну, В. Айрапетяну, сотрудникам Института маскотерапии.
Глава 1. Современное состояние практической психиатрии
Психиатрическая практика совершенно необоснованно отдана на откуп сугубо естественнонаучному знанию. В игнорировании гуманитарного мышления – одна из коренных причин того кризиса, который переживает сегодня психиатрия. Выход из этого кризиса, по нашему убеждению, следует искать на путях не только еще большего сближения психиатрии с биохимией и нейрофизиологией, но и, в частности, обращения ее к эстетике и искусству как такому методу постижения человека, который содержит в себе огромный психотерапевтический потенциал. Однако это пожелание, высказанное задолго до нас многими видными психопатологами, должно непременно ответить на вопрос: как? Необходим способ сближения науки и искусства, нужна концепция, опирающаяся на глобальный, охватывающий личность феномен, патологическое явление, которое имеет не только клиническую ценность, но которое представлено также в гуманитарных науках.
1.1. В отсутствии новой парадигмы
Массовое применение психотропных препаратов изменило традиционное восприятие душевных заболеваний, обусловило упрощенный, прагматический подход к их диагностике. На базе текущего опыта и катамнестических сведений возникли новые наблюдения, которые во многом противоречат концепциям долекарственной психиатрии. Психофармакотерапия, развиваясь и расширяя сферу своего приложения, фактически подрывала основы клинического подхода, тормозила развитие психотерапии душевных заболеваний. Догматизация классических воззрений, отсутствие новых идей и наблюдений способствовали кризису в тех областях гуманитарных наук, для которых кий опыт является некой «питательной средой»[1]. Нарушился механизм обратной связи между теоретическими изысканиями и практикой.
Изменилась также объективная картина психических болезней. Так называемый лекарственный патоморфоз коснулся подавляющего числа лиц, зарегистрированных в амбулаториях и стационарах[2]. Доступность психотропных препаратов, их неограниченное и бесконтрольное применение оказали также деформирующее влияние на относительно легкие и распространенные расстройства: неврозы, реактивные и соматически обусловленные состояния. Можно сказать, что в результате роста атипических форм количество болезней приблизилось к количеству больных, а критерии идентификации отдельных случаев стали формальными.
Преобразился не только тип течения, но и структура болезни, резко снизились возможности прогнозирования. Нарастает тенденция к превращению приступообразного проявления психических расстройств в непрерывное, а вероятность спонтанных улучшений приблизилась к нулю. Отныне попытка осмыслить каждое патологическое изменение с позиций систематики Кальбаума – Крепелина или соотнести их с международной классификацией в последнем пересмотре (МКБ-10) представляется ввиду быстрого развития новых форм психических заболеваний все более абсурдной (см.: Чуркин, Мартюшов). А это значит, что клиницисты оказались заложниками собственной фармакотерапевтической практики, т. е. результатов применения нескольких десятков наиболее употребительных транквилизаторов, нейролептиков и антидепрессантов.
Сегодня трудно назвать какое-либо альтернативное лечение, которое могло бы заменить практику применения психотропных препаратов. Их интенсивное действие на мозг больного освобождает врача от трудоемкого, многолетнего процесса расшифровки переживаний и поступков наших пациентов. Мы приобрели некий новый способ сдерживания патологической активности и потеряли интерес к образу мысли и образу жизни душевнобольных. Основная часть психиатрических учреждений осуществляет лишь охранительные, карательные функции, так как голый эмпиризм и суеверия пришли на смену научному поиску.
Таким образом, можно утверждать, что почти полувековой путь, который иногда называют «эпохой нейролептиков», видоизменив психические болезни, не привел к ожидаемому решению проблемы. Хотя поиск новейших средств воздействия продолжается, уже ясно, что клиническая психиатрия испытывает новый кризис. По-прежнему остаются актуальными проблема личности пациента, его возвращения в общество, критерии психического здоровья. В связи с этим объективация и стандартизация лечебного процесса менее предпочтительна, чем ее индивидуализация. Вместо дистанцирования участников психотерапевтического сеанса делается желательной эмпатия, предельная близость до полного слияния в творческом процессе мыслей и переживаний врача и больного. По мнению многих видных психопатологов, «единственным „действенным началом“ психотерапии являются тесные эмоциональные связи, аффективные отношения между больным и терапевтом» (Ротенберг, с. 112; Психотерапевтическая энциклопедия, с. 984–985; Мишара, Шварц; Rogers). Этих целей можно достичь на пути комплексного использования лекарственных и нелекарственных форм лечения.
Психологическая атмосфера большинства лечебниц обусловлена не только поведением душевнобольных, но и многими другими факторами:
• архитектурой, интерьером больниц, диспансеров, дневных стационаров;
• распределением палат, кабинетов, вспомогательных помещений, прогулочных дворов, спортивных площадок;
• защитой дверей, окон, территории;
• иерархией ролей сотрудников – врачей, научных консультантов, персонала;
• режимом прихода, ухода, дежурств медицинских служащих;
• проведением внутрибольничных конференций, комиссий, консилиумов, докладов дежурных врачей;
• режимом сна, пробуждения пациентов, приема пищи, лекарств, гигиенических процедур, досуга, свиданий с родственниками, трудотерапии, арттерапии[3].
Все это сложное образование приходит в движение благодаря столкновению двух основополагающих принципов, двух противоположных тенденций: максимальной эффективности лечения и завета «не навреди». Поиск оптимального соотношения этих мотивов и определяет развитие практической психиатрии. Технически это осуществляется, с одной стороны, посредством расширения знаний о предмете, с другой – посредством разработок новых приемов психо- и фармакологического воздействия на патологическое начало. Анализируя работу психиатрических учреждений в разных странах, мы замечаем, что между ними больше сходства, чем различий. А это значит, что, при всем своем разнообразии диагностические критерии имеют единую точку отсчета, скрытую в основе психиатрической практики парадигму, выявление которой представляется очень важным.
Между тем долгосрочные катамнестические сведения свидетельствуют о том, что психозы, изрядно видоизмененные, не перешли в другой, более легкий регистр мозговых расстройств; что внушительная часть современных препаратов все более напоминает средство контроля, а не лечения душевных болезней. Понятия «нейролептической смирительной рубашки», «нейролептической шизофрении» давно утвердились в психиатрическом лексиконе[4]. Все чаще можно услышать, что ни одно, даже самое сильное лекарство не влияет на структуру личностных расстройств, не затрагивает ядра больной души[5]. Клинический подход, основанный на научном методе, фиксирует лишь повторяющееся, типовое, стандартное; он в принципе не ориентирован на создание средств воздействия на индивидуальное, неповторимое, в конечном счете, на личность. В то же время взгляды и установки среднестатистического психиатра не обязательно совпадают с идеями известных психиатров и психопатологов. Критический анализ этих взглядов представляет значительный интерес. В связи с этим можно выразить сомнение в необходимости для практической психиатрии широты и разнообразия наименований, представленных в международной классификации психических болезней. Достаточно просмотреть статистические карты архивов обычной больницы, чтобы убедиться, что большая часть нозологических единиц там не представлена[6].
Мы утверждаем, что нет такого лечащего врача, который мог бы свободно пользоваться всеми диагностическими формулировками типичных и атипичных форм заболеваний. Во-первых, это невозможно по причине внушительного объема вариантов и толкований психических расстройств; во-вторых, назначая одни и те же лекарства при разных нозологических единицах, ни один врач в подобной эрудиции не нуждается. Но даже если бы ему удалось осуществить такую «компьютерную» работу, то она не отразилась бы на конечном результате лечения. Для врача-психиатра или психотерапевта важно другое – развитие и накопление собственного живого опыта, интуиции и умения, необходимых человеческих качеств, гуманитарной культуры. «Не увлекайся частными проблемами, – писал Л. Витгенштейн в своих дневниках, – но всегда старайся ускользнуть туда, где можно свободно обозреть, пусть и недостаточно ясным взглядом, некоторую большую проблему в целом…» (Витгенштейн, 1987, с. 107).
Хотя некоторые наши идеи находят опору в работах других исследователей (М. М. Бахтина, О. и М. Блейлеров, О. фон Вайцзекера, Э. Кречмера, Э. Крепелина, З. Фрейда, К. Юнга, К. Ясперса, многих современных авторов), приходится констатировать, что они так и не были востребованы практической психиатрией. Поэтому, не теряя из виду первоисточников, мы будем исходить из собственного опыта и опыта наших коллег, работающих в различных психиатрических учреждениях у нас и за рубежом.
Над практической деятельностью современного психиатра (отсутствие госпитальной адвокатуры, четких критериев целесообразности назначений) почти нет контроля, цензуры, он монопольно владеет судьбами своих пациентов, особенно когда занимается частной практикой. Можно предположить, что в такой ситуации не существует особых преград для проявлений субъективизма, экспериментаторства, шарлатанства. Значит, речь идет о вполне узнаваемом, самом распространенном случае насильственного вторжения врача-психиатра в мир переживаний душевнобольного. То, что мы называем экспериментаторством, чрезвычайно распространено в психиатрических стационарах, меньше – в амбулаторной практике, см.: МПЖ, 2000, № 3, с. 11). Символичным является пример, который переходит из учебника в учебник, а именно случай ученика Блейлера Klaessi, когда застывшего кататоника бросили в бассейн с водой (Клиническая психиатрия, с. 53). Никто из авторов не заметил, что этот опыт был самым настоящим произволом по отношению к пациенту и научной или клинической ценности не имеет.
Очевидно также, что практикующий врач старается в первую очередь «ликвидировать», искоренить бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение и пр., минуя носителя этих переживаний – душевнобольного. Лечение, как правило, проходит в дуальной структуре с чрезвычайно жесткой иерархией: врач – больной. Наших коллег мало интересует обстановка, в которой они работают, собственные состояния: настроение, физическая кондиция, загруженность сознания другими проблемами, характер отношений с опекунами, возможности памяти, интеллекта, творческих функций на момент назначения лекарств. Можно считать удачей, если мы заметим признаки сострадания, сочувствия к больному. Эмоции практикующего негативны – это эмоции отторжения от пациента с его бреднями как от какой-то заразы, наваждения. Активность медперсонала питается энергией нежелания оказаться вовлеченным в мир «кривых зеркал», энергией выхода из психотерапевтической атмосферы[7].
Отсюда масса отвлекающих маневров в клинической беседе, от ее регламентирования до соглашательских жестов, мимических масок, лицемерных вопросов, не влияющих на решение проблемы, – своеобразных «громоотводов» в наэлектризованном воздухе между врачом и пациентом. И не оттого, что первый относится к душевнобольному без добрых чувств. Типичный клиницист отстранен ради некоей научной «объективности» и стремится еще больше отстраниться в надежде опереться на конкретную систему знаний о законах психики, о механизмах действия препаратов[8]. Он избегает всякой терапевтической интриги с пациентом и в этом отношении холоден, интеллектуален, стоит над своим больным, соблюдает «высокомерную дистанцию» между собой («знающим истину») и пациентом (Цивьян, с. 10). Подобный путь представляется нам совершенно бесперспективным, особенно если речь идет о шизофрении, само понятие которой весьма многозначно и не конкретизировано настолько, чтобы стать руководством к действию.
Вот уже двадцать лет мы наблюдаем у наших коллег два противоположных отношения к этой проблеме – или глубокий скепсис и уныние, или странный оптимизм и ожидание, что вот-вот обнаружатся физико-химические механизмы психозов, а может быть, сразу найдутся и средства от этих болезней. Подобные мысли удостаиваются популяризации (см.: МПЖ, 2000, № 3, с. 13).
Таким образом, одна из важнейших функций лекарственной терапии психических заболеваний сводится к преодолению отдельных симптомов и ликвидации переживаний (пусть даже патологических) данного индивида, то есть признаков, которые находятся в секторе жалоб пациента и его опекуна. Происходит подспудное подчинение диагностической мысли врача основному мотиву заболевания. Можно с уверенностью говорить, что такой упадок психиатрической мысли, ее паралич возник именно в эпоху психофармакотерапии – химического воздействия не на причину, а на следствие, на сигнал болезни.
Комплекс проблем, с которым приходит к нам пациент, на чем настойчиво фиксирует наше внимание, похож на описание душевной боли, душевного дискомфорта. Здесь выявляется еще одно весьма недвусмысленное значение нейролептиков. Они служат психиатру средством устранения нежелательных для пациента или его окружения признаков, а не воздействия на причину самой болезни[9]. Все, кто работал в стационаре, знают категорию недовольных опекунов душевнобольных, которые после многих лет мытарств называют нейролептики наркотиками, говорят, что больных не лечат – только «оглушают»[10].
Здесь возникают вопросы одного и того же порядка. Почему в то время как подавляющее большинство больных недовольны определенными препаратами, а опекуны разочарованы результатом лечения, врачи без тени робости и сомнения продолжают насильственно назначать их? Мог ли такой массовый протест быть игнорирован в соматической медицине? Сколько пользы принес бы опыт хотя бы недельного приема нейролептиков будущими психиатрами во время прохождения интернатуры! Скольких пациентов они впоследствии уберегли бы от лекарственной инвалидизации! Напомним, что однократный прием нейролептиков вызывает у здорового человека оглушенность, апатию, ослабление внутренних импульсов – «расстройство инициативы», а, скажем, паук сначала перестает ткать паутину, затем, когда приходит в себя, начинает ткать в уменьшенном виде (Клиническая психиатрия, с.47). Ряд ведущих отечественных авторов еще в 60-х годах также отмечал вредное «дезадаптационное» влияние аминазина и других нейролептиков (Авруцкий, Недува). Обезболивающие и устраняющие дискомфорт препараты в соматической медицине представлены в сложном комплексе терапевтического и хирургического вмешательства, в клинической же психиатрии последних десятилетий они становятся центральной, часто единственной целью лекарственного воздействия. Более того, поиск новых препаратов ведется именно в данном направлении. Хотя нейролептики считаются лечебными, а не наркотическими препаратами, нам часто приходится признавать правоту опекунов пациентов.
«Охота» за отдельными признаками болезни (чаще всего – теми симптомами, которые декларировал пациент или его опекуны) началась с момента возникновения основного набора нейролептиков, когда, по нашему убеждению, значение личности как «носителя» болезни перестало интересовать психиатров. Причем содержание этих признаков обесценилось в представлении врача – его уже не интересует тонкая структура бредово-галлюцинаторных расстройств, он разучился идти вглубь и путем детального анализа искать причины патологических знаков, пытаться снять завесу с больной души. Наши коллеги почти лицемерно спрашивают: женские или мужские голоса, внутри или вне головы и т. п., но даже форма болезни уже не имеет практического значения – примерно одни и те же лекарства дозируются «на глаз». Ведь все равно цель одна – ликвидировать (а не трансформировать) указанные патологические явления, мешающие больному или его окружению. Остальное имеет отношение к любознательности самого врача или к его добросовестности, «школе» и др.
Любопытно, что, обращаясь в наш институт, родственники пациентов требуют только выздоровления, а не купирования симптома, дезактуализации и т. п., потому что все это было в многолетних мытарствах по больницам и диспансерам. В их последней надежде скрыто напряжение уже отчаявшихся людей. И если мы принимаем решение лечить, то должны идти ва-банк – «все или ничего». Любовь и вера опекунов вынуждают брать всю меру ответственности на себя и находить решения по ту сторону рациональной медицины.
1.2. Эндогенный процесс и «синдромы-мишени»
Главная задача лекарственной терапии – «прервать эндогенный процесс» – один из самых распространенных и едва ли не столь же нелепых в современной психиатрии мифов. Достижение этой сомнительной цели возможно при крайне рискованном, близком к хирургическому вмешательстве – шоковой терапии. По опыту многих лет работы в различных больницах мы знаем, что шоковые методы терапии применяются довольно регулярно. Верная, на наш взгляд, концепция В. фон Байера об искусственно вызванном органическом синдроме парадоксально соединилась в умах практиков с мнением А. Майера о внезапном разрыве непрерывного потока переживаний, на основе чего и родился указанный миф (Клиническая психиатрия, с. 44).
В остальных же случаях происходит медикаментозное заигрывание с мифическим «процессом», якобы в целях ненанесения вреда больному шоками. Считается нравственно допустимым как бы «обстругать» этот процесс, лишить его остроты, внешних атрибутов, вызвать по возможности стойкую «ремиссию» – еще одно понятие, занесенное из соматической медицины. Типичный практик понимает, что с эндогенным процессом ничего не поделаешь, что даже при отсутствии внешних атрибутов болезни – это уже навсегда, на всю жизнь! Подобное лечение проводится из псевдогуманистических соображений. Та же цель преследуется при гипогликемических формах воздействия инсулиновой терапии.
Итак, прервать «скрытый» процесс, которого, возможно, и нет, потому что его существование не доказано, с помощью шоков (на манер «малярияшока» при прогрессивном параличе), подавить его максимальными дозами нейролептиков, а затем многие годы держать в узде пролонгами или малыми дозами нейролептиков – вот терапевтическая цель современного психиатра. Гегель в своей «Философии духа» высказал мнение, что душевнобольного можно вылечить, если незаметно подойти к нему и ударить. Это ли не прообраз шоковой терапии? Подобного рода «гегельянство» в психиатрии не только наносит колоссальный ущерб развитию всей нашей области, но и ощутимо вредит людям, попавшим в сферу влияния психиатра. Стоит также вспомнить, как до последнего времени пугали больных внезапными трюками, – кататоников бросали в бассейн с ледяной водой, инсценировали «кровавые» сцены ужасов и т. п. Сейчас эти техники «лечения» отданы на откуп санитарам некоторых загородных больниц. Если объединить указанные меры и затем попытаться понять логику их происхождения, то ничего кроме слепой агрессии, жестокости, проявляемой к непонятному явлению, выявить невозможно. Но шоковая терапия – многовековая традиция лечения душевнобольных, к которой достаточно серьезно относятся специалисты. Именно она считается нозотропной. В истории этого метода отмечен даже определенный прогресс.
Современная тенденция к возвращению синдромологического подхода показывает разочарование врачей в нозологическом. Появилось даже понятие «синдромов-мишеней». Это некий самообман, светлая надежда, через которую проходят все начинающие психиатры, испытав первые разочарования в себе, запутавшись в распознавании нозологических единиц. Рост новых форм болезней и невозможность «объять необъятное» во многом обусловили и сдвиг гипердиагностики в сторону одной из нозологий, в частности шизофрении[11]. Это своего рода завуалированный переход к концепции единого психоза, хотя бы потому, что тип течения болезни, основа основ нозологического подхода, по существу давно уже не учитывается.
Но на самом деле все гораздо сложнее. Как известно, синдром – структурно организованная единица. Он может встречаться при разных болезнях. Синдромы подробно описаны в общей психопатологии, это одно из выдающихся ее достижений. Преодоление патологического синдрома происходит путем его перестройки, а не «ликвидации». Мы утверждаем, что не существует психофармакологических препаратов, которые трансформируют болезненное структурное образование в здоровое вне непосредственного участия врача. Осуществить эту цель можно только психотерапевтически. Известные нам лекарства имеют отношение лишь к подавлению отдельных признаков болезни или всех вместе без учета ее структуры, самое большее – к снятию душевной «боли», душевного дискомфорта. Соматические и неврологические побочные действия больших транквилизаторов подробно описаны в литературе; что касается психических последствий, то они освещены недостаточно полно.
Понятие о терапевтической «мишени», актуальных расстройствах, тесно связано, как отмечалось, с внедрением антипсихотиков – препаратов, способных кардинально влиять на мозговую активность. Оно возникло в результате несоответствия теории практике лечения душевнобольных. В то же время практикующий врач заранее лишает себя шанса увидеть феномен психического выздоровления в стенах больницы. С годами он вообще перестает ориентировать пациентов с психическими расстройствами на существующее в них здоровое начало. Почти анекдотичные случаи госпитализации здоровых людей известны на опыте каждому врачу и в изобилии встречаются в литературе, хотя со времени эксперимента Раппопорта с рассылкой психологов в качестве пациентов в психиатрические учреждения различных штатов прошло более трех десятилетий.
Если следовать общепринятой медицинской деонтологии, неназначение больному больших нейролептиков и шоков может принести значительно больше положительных результатов, чем назначение таковых, а степень риска, количество потерь уменьшатся[12]. Подчеркнем, что речь идет не о самих препаратах, а о способах их назначения – синдромологизации или нозологизации симптоматических препаратов. Нейролептики, как известно, не являются нозотропными препаратами (Клиническая психиатрия, с. 43), нозотропным является способ назначения лекарств. Это еще один признак избыточности современной систематики болезней.
Здесь есть существенное отличие от соматической медицины, где знание нюансов имеет отношение к этиологии и патогенезу болезни. В этой области даже незначительная деталь может изменить тактику терапевтического или хирургического вмешательства. Когда диагноз строится на позитивных признаках, эрудиция врача, его умение распознавать симптомы, известная технологизация обоснованны, а изучение физико-химических, анатомо-физиологических механизмов позволяет устранить причину и проявления болезни.
Обобщая сказанное, надо признать, что в погоне за мнимой эффективностью практическая психиатрия почти не соблюдает принципа «не навреди». А это означает полную ее беспомощность в собственно медицинском плане. Она гораздо больше занимается сдерживанием, своего рода жесткой опекой патологической активности людей, попавших в сферу ее влияния, нежели действительно лечением, забывая слова Минковского о том, что «идея, преобладающая в психозе, не является производящей» (Аккерман, с. 32). В этой связи следует отметить однотипные и порой роковые ошибки, которые допускали психиатры, приехавшие в зону Спитакского землетрясения. На фоне успехов представителей других областей медицины можно констатировать полный провал их работы с людьми, испытавшими посттравматический стресс.
Итак, бытующую среди психиатров-практиков точку зрения можно выразить следующим образом: что бы врач ни делал, на какие бы ухищрения ни шел, процесс психической болезни продолжается, он скрывается где-то в глубине человеческой личности, представляя собой враждебное, разрушительное начало[13]. Этот процесс способен привести к слабоумию, особенно если возник в раннем возрасте (еще один предрассудок, так как, по нашим наблюдениям, как раз ранние проявления болезни лечатся гораздо легче поздних) или лечение начато слишком поздно (как при запущенной онкологии)[14].
Когда из области функциональных психозов были выведены прогрессивный паралич и другие экзогенно-органические и сомато-психические заболевания, осталась группа психических расстройств, биохимическая основа которых не выявляется. С тех пор выдвигаются гипотезы соматического процесса, который обусловливает психотические расстройства. Поиск в этом направлении безуспешен. К тому же термин «шизофрения» абстрактен и, по нашему убеждению, не является собственно медицинским понятием, так как не обладает скрытым планом терапевтических действий. Это только обозначение некоторого феномена, или, как сказал бы Блейлер, группы явлений, некий классификационный «ярлык». А в нашей стране – приговор. В знаменитую клинику Блейлера Бургхельци под Цюрихом поступало 29 % мужчин и 39 % женщин, больных шизофренией (Клиническая психиатрия, с. 26); в наш институт – более 90 %. Впрочем, диагноз, как правило, не подтверждается. К. Ясперс совершенно справедливо считал, что шизофрения – не просто определенный процесс, но прежде всего «способ переживания, постижимый в психолого-феноменологическом плане, целый мир своеобразного психического существования (Dasein), для выражения отдельных моментов которого найдено много тонких понятий, но которое в своем целом не получило удовлетворительной характеристики» (там же, с.22). Налет шизоидности как нечто преходящее мы наблюдаем у многих из наших больных, впрочем и у здоровых людей. Здесь главный, на наш взгляд, принцип – не относиться к эфемерному явлению, как к чему-то постоянному, не культивировать в себе мнительность в отношении личности и судьбы пациента. Справедливости ради следует отметить, что в «руководствах» старых психиатров (Блейлер, Корсаков, Крепелин и др.) данной нозологии отводится незначительное место, чего не скажешь о современных учебниках и монографиях. В реальной же практике удельный вес этого диагноза сравнительно с другими многократно увеличивается.
К. Юнг первый, еще работая ассистентом у О. Блейлера, высказал мнение о психогенезе шизофрении и о психических же причинах этого заболевания (Зеленский, 1996, с. 236). Его идея не стала популярной среди клиницистов во многом потому, что психотерапия шизофрении в практике самого Юнга и других терпела неудачу. Оставалась надежда создать биохимическую концепцию «эндогенных» психозов, воздействуя на них также биохимическим способом. Но при отсутствии физико-химической концепции ортодоксальный психиатр невольно встает на точку зрения Юнга.
Когда появились нейролептики, механизмы химической активности которых (при очевидных изменениях психики) оставались неизвестными, клиницисты вынуждены были судить о влиянии этих препаратов по динамике психического состояния больного. Происходила подмена патофизиологического процесса психопатологическим. Казалось вполне возможным, поскольку все происходящее в организме своеобразно отображается в нашей психической сфере, говорить о каких-то новых, еще не выясненных физических изменениях, которые сопровождаются теми или иными психопатологическими явлениями, например галлюцинациями. Ведь используют же нейролептики и транквилизаторы в соматической медицине. Можно перечислить десятки соматотропных лекарственных форм или токсических веществ, которые тоже влияют на психическую сферу, хотя и не носят названия психотропных. И наоборот, мы знаем, сколь ощутимы изменения в организме, вызванные теми или иными социально обусловленными душевными переживаниями.
Повсеместно в клинической психиатрии происходит разрушение тонкой грани между психическими и физиологическими функциями мозга. Многие психиатры принимают желаемое за действительное, питаясь иллюзией прошлого столетия, когда считали, что душу можно «препарировать» и исследовать наподобие тела лабораторных животных. А между тем не психиатр, а теоретик литературы, философ М. М. Бахтин справедливо замечал: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, – с ними можно только диалогически общаться» (Бахтин, 1963, с. 92).
Таким образом, созданная в далеком прошлом классификация душевных заболеваний, в основу которой положен принцип неизлечимости и отрицательного «прогрессирования», в эпоху сильнодействующих средств получила новый, достаточно абсурдный смысл, вызвав появление списка якобы психотропных лекарств. Однако упомянутые сильнодействующие препараты являются по существу не психо-, а нейротропными или соматотропными средствами.
Будучи восприняты в качестве психотропных, они способны извращать картину болезни и даже формировать новые расстройства, особенно в условиях их тотального и непрерывного приема (атипичные, нейролептические формы шизофрении, широкий спектр диэнцефальных, нейроэндокринологических, соматопсихических расстройств). Их действие можно сравнить разве что с хронической интоксикацией. Сегодня можно с уверенностью сказать, что, стремясь предупредить мнимое развитие болезни, поставить перед нею шоковые и нейролептические заслоны, мы никогда не увидим тех психопатологических явлений, которые описывали наши предшественники. Так происходит постепенная утрата психиатрической культуры, созданной многими поколениями врачей. Нанесен ущерб многовековой традиции понимания душевнобольных. Только пересмотр принципов применения некоторых групп фармакологических веществ, принятых на ошибочном пути теоретизирования, может восстановить связь нашей психиатрической науки с ее прошлым.
Мы не согласны с простой идентификацией клинического и естественнонаучного методов. Здесь есть существенные отличия, нуждающиеся в специальном рассмотрении, как показывает замечание Леви-Строса о том, что наука «не выдвигает на первый план практическую пользу. Она отвечает интеллектуальным побуждениям, прежде чем или вместо того чтобы удовлетворять нужды» (Леви-Строс, с. 120). Напротив, клинический метод направлен на извлечение этой самой «пользы» и «удовлетворение нужд». Здесь простой совет врача, основанный на обыденном здравом смысле, который может послужить точкой опоры для пациента, и сложная длительная процедура терапевтического изменения внутреннего мира душевнобольного в рамках концептуальной психотерапии – явления одного порядка, равного значения. Еще невролог Мёбиус сказал, что «патология» – это ценностное понятие (Юдин, с. 34).
Излечение от психического заболевания в современной психиатрии связывается с научным прогрессом вообще, с раскрытием сложных психофизических механизмов, с синтезом новых сильнодействующих препаратов. Все это дело будущего. Однако такое положение находится в нравственном противоречии с тем, чего ожидают больной и его родственники от медицины, от врача, ибо потерявшие душевное здоровье люди требуют выздоровления сейчас и отнюдь не утешаются тем, что наука когда-нибудь решит эту проблему. Отсюда неуверенность врача в своих возможностях, вынужденная экономия сил (к чему тратить их зря?), поневоле возникает фальшивый тон в беседе с больным и опекуном. Врачу приходится с грустью видеть повторные поступления больных с симптоматикой, которую он уже пытался преодолеть всеми возможными средствами. Поскольку научный прогресс в этой области пока непрогнозируем, психиатр начинает робеть перед некоим «темным», трудноопределимым патологическим процессом (в кулуарах его называют «эндогенным»), начинает повторяться в своей работе, не пытаясь углубиться в картину болезни. Отсюда отчаянная вера некоторых родственников больных в шарлатанов, обещающих скорое и окончательное выздоровление[15].
Привыкание к нейролептикам категорически отрицается, это убеждение может считаться господствующим (см. Кабанов, с. 47–50). «Антипсихотические препараты относятся к наиболее безопасным из всех применяющихся в медицине лекарств», – утверждает американский специалист Р. Дж. Бальдесарини; к сожалению, он представляет здесь мнение большинства практикующих врачей. Ему вторит его популяризатор Э. Фуллер Торри: «Антипсихотические препараты действительно относятся к наиболее безопасным лекарствам. Практически невозможно совершить самоубийство, используя большие дозы этих лекарств, очень редко они дают и серьезные нежелательные побочные эффекты» (Торри, с.254). Однако наш собственный опыт позволяет считать привыкание к нейролептикам несомненным фактом (Назлоян в МПЖ, 2000, № 3). Толчком к формированию подобной точки зрения послужил случай больной Т. Ш., 27 лет.
Несколько лет она неизменно получала монолечение галдолом. Лечащий врач то уменьшал, то увеличивал дозы препарата в зависимости от текущего состояния пациентки. Начав работу над портретом по нашей методике, мы по привычке отменили этот препарат, назначив дезинтоксикацию и витамины. Однако через некоторое время у пациентки возник тяжелый приступ агрессии с выраженной галлюцинаторно-параноидной симптоматикой. «Голоса» говорили ей о враждебных намерениях пожилой регентши, проживавшей, как и больная, на территории храма. Так как условия не позволяли переждать этот приступ, мы решили остановить его равноценными дозами фенотиазиновых препаратов и транквилизаторов, но безрезультатно. Однако стоило один раз вернуться к приему галдола, и приступ прекратился.
С этих пор мы стали расценивать многие «обострения» как проявления абстинентного синдрома. Они с успехом купировались кратковременным назначением малых доз привычного нейролептика с последующими процедурами отвыкания[16].
У нас есть претензии не только к побочным действиям самих лекарств, но и к режиму их назначения. На большом доступном нам материале – отчетах самих пациентов и их опекунов – можно сделать вывод, что нейролептики, в частности бутирофеноны, способны формировать галлюцинации у пациентов с навязчивостями, фенотиазины – бред, а тактика назначения этих и ряда других препаратов – в прогредиентной форме параноидную шизофрению. М. И. Рыбальский, много лет посвятивший изучению продуктивных расстройств, считает, что подобные явления могут иметь место при назначении малых доз галоперидола, а М. Блейлер говорил нам об опасности применения средних и больших доз (устные сообщения).
Нейролептики способны вызвать грубые расстройства мышления, снижение критики, ослабление памяти и обеднение ассоциативных процессов. Агрессия и аутоагрессия применявших нейролептики пациентов протекает нередко с особой жестокостью. Эти лекарственные средства способны формировать шизофреноподобные болезни, особенно стадию дефекта, переводить легкие рекуррентные формы шизофрении в прогредиентные. Любопытно, что в судебно-психиатрической практике симуляция удается именно тем испытуемым, которые перед экспертизой принимают нейролептик, т. е. лечащее средство (устное сообщение судебного психиатра А. В. Арутюняна). Но важнее всего для нас – усугубление личностных расстройств, грубая аутизация больного. Она наступает в результате непрерывного приема больным пролонгов или других форм нейролептиков. Такая практика приводит к ужесточению лечения, назначению хемио-, инсулино-, электрошоков. Все это приводит к лекарственному дефекту психики и быстрой инвалидизации пациентов.