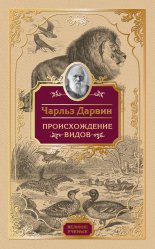Дневник ведьмы Арсеньева Елена
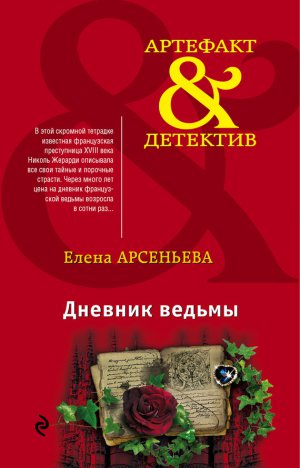
Наше время. Конец августа, Мулян, Бургундия
Шлеп-шлеп – гулко за окном. Топ-топ. Топ- топ и шлеп-шлеп… Тявкнул пес в соседнем дворе и тут же залился утробным ворчанием.
Старуха чуть сдвинула занавеску. Ну да. Она бежит. А псина глуп также, как его хозяин! Старуха вчера утром сама видела, как Жоффрей, забыв свой разум и семьдесят прожитых лет, беззастенчиво млел, когда девка пробегала мимо ворот, а ее груди прыгали вверх-вниз, и майка даже не думала их сдержать. Ну и пес его тоже хорош! Ишь, так и бьется о забор своим раскормленным телом. Думаете, оттого бьется, что жаждет вцепиться девке в голую ногу или, еще лучше, в обтянутую шортами задницу? Как бы не так! Девка всего один раз его погладила, пошептала что-то в слюнявую морду, поулыбалась ему, будто это не бульдог с отвислыми щеками, уродливый до противности, а невесть какой красавчик, – и все, он уже и руки ей лизал, и ноги. А когда она побежала – ну да, как раз вчера утром, точно, утром Жоффрей и вывел к ней своего Атлета, якобы псиной похвалиться, а на самом деле, конечно, на девку поближе взглянуть, – ну вот, значит, когда она снова побежала по дороге на Френ, Атлет завыл с такой тоской, будто потерял самую лучшую сучку на свете. А девка сучка и есть, по повадке видно. Надо же так, с одного раза злющего Атлета приворожить, что он теперь в кровь бьется о ворота, скулит, лишь бы она его погладила. Но сегодня она только хихикнула, ручкой помахала, крикнула что-то по-своему – нормальному человеку этого языка вовек не понять, варвары говорят на нем, варвары и дикари, да ведь русские и есть варвары и дикари! – и потопала-пошлепала дальше по лужам. Ишь, и непогода ей нипочем! А бульдог остался выть тоскливо… Ведьма она, сущая ведьма!
Старуха чуть было не плюнула с отвращением, но вовремя сообразила, что плевок угодит на кафельный пол ее собственной кухни, и не поленилась подальше отодвинуть шторку, чтобы высунуться и… Именно в ту минуту пробегавшая мимо девка повернула голову, и глаза их встретились.
– Бонжур! – крикнула девка со своим кошмарным акцентом и еще улыбнулась вдобавок.
Отвечать, конечно, не стоило. Но уж что вбито годами, десятилетиями, впитано с молоком матери, что стало почти потребностью организма для француза любого пола и возраста – так это необходимость сказать «bonjour» в ответ на «bonjour» и произнести «pardon» в ответ на «pardon». От себя, как говорится, не убежишь! Старуха раскрыла рот, забыв, что он полон слюны, тут же спохватилась, снова захлопнула его, лязгнув старой, плохо прилаженной верхней челюстью, подавилась, закашлялась – и отпрянула назад, в дом, поскорей задернув занавеску, чтобы не видеть промелька сочувствия на лице девки.
Еще не хватало! Пускай подавится своим сочувствием!
Тут же старуха ощутила, что давится сама, – и разразилась надсадным кашлем, задыхаясь и ничего не видя от слез, мигом заливших все ее набрякшее морщинами лицо.
Чертова девка! Проклятая русская дикарка! Ведьма!
Старуха наконец сплюнула в кухонную раковину, отдышалась, утерла лицо кружевным платком, сильно пахнущим лавандой (в шкафу лежали многочисленные саше с лавандой из собственного сада), – и вдруг ухмыльнулась.
Надо же, что творится! Она назвала девку ведьмой… А ведь не столь уж много времени назад ведьмой называли ее. И она только делала вид, будто обижается. На самом деле ничего оскорбительного в этом слове она не видела. Для нее было как комплимент – услышать за спиной сдавленное: «La sorcire!» Судачили: мол, она и с резистантами уживалась, и с фашистами, и никто на нее руку не поднял, даже когда расстреляли пятерых жителей Муляна, заподозренных в связях с маки[1], а потом начали наголо стричь всех баб, к которым хаживали фрицы… Нечистое, значит, дело: всех вокруг пальца обвела! Судачили также, будто кто-то из ее прежних любовников (замужем- то она отродясь не была, да и кто б решился взять ее за себя, с таким-то гонором, это ж самому себя в могилу загнать!) оставил ей деньги, много денег… Иначе как объяснить то, что она жила, не ведая беды, даже в самые тяжелые послевоенные годы, да и вообще всегда? А может, коли она ведьма, то спала с самим дьяволом, а дьяволовым деньгам исходу нету, известно по старым сказкам. Ох, какого только змеиного шепотка не слышала она за своей спиной, но никто так и не разгадал ее тайны. Лишь одному человеку удалось, он и осмелился сказать ей это в лицо. Ну и что? И где он, тот глупец?
Старуха пожала плечами и снова выглянула из окна. Девка на своих длинных ногах (такие длинноногие в бургундских краях – нелепость и редкость, словно журавли в гусиной стае!) уже невесть сколько отмахала. Как раз пробежала яблоневый сад на окраине Муляна. Жаль, пропустила интересный момент: как она воровато оглянется, наклонится, нашарит в траве упавшее яблоко. (Очень, очень много яблок нынешним летом, и яблок, и ежевики, и боярышника, значит, зима холодная будет, померзнут виноградники Жоффрея в горах, померзнут… да и черт с ними!) А девка, как найдет яблоко, оботрет о шорты, а потом, еще раз воровато обернувшись, откусит. И побежит дальше, жуя, откусывая снова и снова. И не подавится ведь!
Конечно, здесь, в Бургундии, яблоки невероятные, сочные, огромные, красные, у них там, у русских дикарей, конечно, такого не видели, вот девка и набивает живот тем, что ни один уважающий себя бургундец и в рот не возьмет: упавшим яблоком. Они ж только для коз, люди едят лишь сорванные с веток, росой покрытые, из них и сидр делают. А эта… Фу, ну и брюхо у нее! Луженое, вот уж верно – луженое. Дикарка, как было сказано.
Впрочем, яблоками отравиться можно только в сказках. Мачеха подсунула отравленное яблочко Blanche Neige, Белоснежке, ну, та и… А в жизни чаще всего другим чем-нибудь травятся. Грибами, к примеру. Вот говорят, будто в здешних лесах растет один такой гриб, почти неотличимо схожий с шампиньоном…
Старуха передернула плечами. Сырость, сырость недавно прошедшего дождя вползла в окно. Пахло августовской прелью, занавеска стала влажной, но старуха не опустила ее, а все смотрела вдаль.
Дорога скоро уйдет в низину. Со всех сторон ее обступили леса. Не слишком большие, лишь поля ограждают от дороги, но густые непролазно, все заплетенные плющом и заросшие низкорослым шиповником. Старуха помнила по прежним временам: когда идешь по дороге, гулкое эхо твоих шагов отражается от плотной стены леса и отдается вокруг. Небось, когда девка бежит, ей чудится, будто кто-то – шлеп-топ, топ-шлеп… – преследует ее. И она дергается, озирается, трусит.
А может, и не трусит. И не дергается, и не озирается. Может, сам черт ей не брат. Бежит себе, изредка поглядывая на метки на асфальте, означающие, сколько километров она пробежала от Муляна и сколько еще осталось до Френа, до Нуайера, Сен-Жоржа, или куда там она бежит. Бежит да какую-нибудь свою варварскую, дикарскую песенку распевает.
Старуха нахмурилась. Ей хотелось, чтобы русской девке было страшно, жутко, тревожно. И она, сильно нахмурившись, вспоминала, снова и снова вспоминала о том, как тяжело дышится между сырых стен леса, как бесприютно посвистывает ветер при дороге, как неподвижно и тупо лежат по обочинам оранжевые и коричневые лимазы[2], словно бы кожаные, немного похожие на отрезанные перчаточные пальцы…
В такую сырость и непогодь плохо на лесных дорогах, плохо, упорно думала старуха. Чувствуется, что август – это последний летний месяц, а то и первый осенний. Листья начинают опадать. Ветер подберется сзади, закрутит их, просвистит за спиной… почудится, кто-то промчался на велосипеде, но обернешься – а там нет никого.
Нет? Никого нет?
Старухе показалось, будто по спине ее прошлась чья-то ледяная рука. Она быстро отошла к разожженному камину и встала к нему спиной, мрачно глядя на кружевную занавеску, за которой медленно, словно нехотя, занимался пасмурный день, суливший близкий дождь.
Таким утром того и жди, что услышишь на лесной дороге шелест велосипедных колес, чье-то запаленное дыхание. В такоеутро носится по дорогам вокруг Муляна призрак велосипедиста, а на сырых опушках вылезает из земли омерзительный и страшный гриб – белая бургундская поганка…
Наше время. Некий день в начале августа, Москва
Невезуха – это что-то вроде курносого носа. Пожизненная награда. От невезухи ничем не избавишься, а нос курносый ничем не исправишь. Конечно, есть такая штука, как пластическая операция… Но ведь ты все равно запрограммирован курносым. И век свой живешь именно так, как определено жить всем курносым: нелепо. Потому что нос твой нелеп. А вот если у тебя греческий, а еще лучше – римский профиль и носик с небольшой изысканной горбинкой (можно не с такой медальной, как у Ахматовой, а что-нибудь поскромнее), то и жизнь ты проживаешь необычайную и изысканную.
Алёна Дмитриева, героиня нашего повествования, не могла бы положа руку на сердце уверять, что жизнь у нее такая уж обычная. Однако нелепой ее вполне можно назвать. Может быть, из-за курносого носа, которому вовремя не было произведено усекновения и который придавал ее физиономии нечто несуразное?
Что характерно, нос Алёны был курносым только анфас. В профиль же он смотрелся очень даже пряменьким и придавал ее профилю нечто… ну, не сказать аристократическое, но надменное, высокомерное и всякое такое. Профиль свой Алёна любила и, стоя перед зеркалом, всячески пыталась извернуться так, чтобы им подольше полюбоваться. Для удобства однажды было даже куплено трехстворчатое зеркало, но буквально на другой день и расколото.
Пусть это и предрассудки – считать, что разбитое зеркало к несчастью, но у кого не дрогнет сердце при сборе зеркальных осколков?! Алёна Дмитриева таких людей не встречала. Именно поэтому она некоторое время обреченно ждала наступления в своей жизни полосы несчастий. Полоса наступала и отступала, жизнь ведь полосатая, за черным идет белое. И наоборот. Алёна все терпеливо сносила, но, хоть продолжала любить свой почти аристократический профиль, больше трехстворчатого зеркала не покупала. Видимо, ее курносому и нелепому носике возвеличивание его высокородной ипостаси пришлось не по нраву. Ну, он и начудесил с зеркалом. Алёна смирилась и теперь лишь изредка осмеливалась, сильно скосив глаза, полюбоваться своим изысканным профилем… И немедленно после этого, словно в отместку, жизнь ее начинала курносить.
Да вот хоть тот последний случай с терминалом на Курском вокзале.
Там в туалете – в том, который на первом этаже, – зеркала очень удобно расположены. Наблюдай за своим профилем сколько хочешь! Алёна так и делала, пока подкрашивала ресницы – в поезде не успела, проспала, а с ненакрашенными ресницами явиться в пир, в мир и в добрые люди она стыдилась (ну вот не удались у нее ресницы, что да, то да!). А потом вышла в зал ожидания и вспомнила, что вчера не заплатила за мобильный телефон: уезжала, как обычно, в обрез, уже такси стояло под окном, а она все еще швыряла последние вещи в чемодан. Ладно, сейчас и заплатит.
Удобнейшая вещь – терминалы для оплаты мобильных телефонов, верно? Натыканы деньгоприемные ящики везде и всюду, никуда не надо ехать, в очереди стоять не требуется, и платежи проходят мгновенно. Алёна любила платить через терминалы. Причем сам процесс оплаты (выбрать вид услуг, найти своего оператора, указать номер телефона, подтвердить его, сунуть в окошечко денежки, получить квитанцию) доставлял ей такое удовольствие, что она, если собиралась положить на свой счет пятьсот, к примеру, рублей, платила пять раз подряд – по сотне. Ну что ж, в каждом из нас, говорят, живет дитя малое, пусть даже ты взрослая (не сказать больше!), самостоятельная, состоявшаяся (хоть и несостоятельная) дама и почти известная писательница (широко известная в узком кругу, как весьма удачно выразился какой-то остряк-самоучка, сейчас и не вспомнить, кто именно). Вот и в Алёне Дмитриевой задержалась девочка Лена Володина, какой она была когда-то. Задержалась и нет-нет да выглядывала на свет божий. Вот и сейчас Лена Володина и Алёна Дмитриева могли испытать кайф общения с терминалом – причем не раз, не два, даже не пять, а целых пятнадцать! Потому что положить на свой счет Алёна задумала полторы тысячи рублей. Ведь она уезжала из России на целый месяц, и не куда-нибудь, а во Францию. Конечно, на такой длительный срок лучше купить новую сим-карту в Париже, но пока-а еще ее купишь… А в роуминге деньги расходуются просто в клиническом количестве, и ведь всем известно, что хуже нет – вдруг оказаться без связи. Поэтому лучше подстелить соломки. Много соломки! Аж полторы тысячи соломок!
Итак, она нашла терминал, подождала, пока отойдет чернявый парень, заплативший пятьсот рублей одной бумажкой («Эх!» – с сожалением подумала Алёна), на мгновение задержалась взглядом на его широких, хоть и худых плечах, обтянутых тонким серым пуловером, удивилась вкрадчивой пластичности его движений: идет, как танцует! Потом нахмурилась, отгоняя некие неизбежные воспоминания из прошлой, давно умершей жизни, которые воленс-ноленс воскресали всякий раз при одном только, даже самом мимолетном, упоминании о танцах и танцорах, – немножко, самую малость, огорчилась, что парень скользнул по ней таким равнодушным взглядом (ну и пожалуйста, ему же хуже, ничего не понимает во взрослых женщинах!), и подступила к терминалу. Выбрала дурацкий логотип МТС (она была верна МТС много лет, что не мешало считать логотип этой сети дурацким, дурацким!), потом набрала свой номер и, повинуясь подсказкам, отправила в приемник первую сотню, нажала на надпись «Оплатить», приготовила вторую денежку… но тут запел ее мобильный телефон.
Звонила Марина – одна хорошая и милая барышня, которая жила в Париже, потому что была замужем за симпатичным французом по имени Морис и даже родила ему двух русско-французских девочек. Алёна дружила с ней и уже несколько раз побывала в гостях в ее очаровательном семействе, туда она собиралась и сейчас: и виза была готова, и рейс Москва – Париж уже сегодня вечерком. Марина такая хлопотунья, такая заботница! Несмотря на то что Алёна старше ее больше чем на десяток лет, Марина считала ее сущим дитем неразумным (ну, наверное, заслуженно считала, ей-богу!) и раз двадцать готова была напомнить, как именно нужно добираться от аэропорта Шарль де Голль. Алёна много раз ездила этим маршрутом и все прекрасно помнила: сначала сесть на бело-зеленый автобус с логотипом «Roissy bus», не перепутать с другой фирмой, другой автобус завезет невесть куда, доехать до улицы Скриба, что возле Опера, а уж откуда до Марининого дома рукой подать. А идти по рю Лафайет да Лафайет и мимо «Галери Лафайет»…
Убеждая Марину, что она, Алёна, не так глупа, как могло показаться во время ее последних визитов[3], и уж никак не заблудится в прекрасном Париже, наша путешественница рассеянно смотрела на терминал, ощущая некое неудобство. Ей чего- то не хватало… Ага, чека, вот чего! Терминал не выдал чек, удостоверяющий, что оплата произведена. А чек в наше время – о-очень важное дело. Ежели вдруг какие претензии возникнут, ну кто ты без чека? Никто! И слушать тебя никто и нигде не станет, даже и глядеть-то на тебя не станут! Поэтому Алёна почувствовала себя без чека очень неуютно. И еще одна настораживающая деталь: не меньше пяти минут прошло после оплаты, а на ее номер до сих пор не поступила эсэмэска о том, что деньги на счет зачислены. Конечно, пяти минут вроде бы маловато, поэтому Алёна не поленилась: закончив разговор, подождала и десять минут, и пятнадцать. Разумеется, она не стояла тупо около терминала, а покупала для Марины ее любимые московские конфеты – рот-фронтовские, краснооктябрьские и бабаевские: «Мишка на Севере» и «Ананасные», а также батончики «Халва в шоколаде» и суфле разных видов. И ждала, ждала… Но толку никакого: эсэмэска о зачислении денег так и не пришла. Тяжко вздохнув, Алёна потащилась в салон «Евросети», расположенный здесь же, на первом этаже Курского вокзала, заплатила все деньги сразу строгой барышне в униформе, получила чек, спустя буквально три минуты приняла эсэмэску о том, что сумма на ее счете изрядно увеличилась… и окончательно смирилась с мыслью о потере первых ста рублей.
– Терминал не работает, – пожаловалась она барышне. – Сожрал мою сотню – и не поморщился.
Да, такое сплошь и рядом случается, – кивнула барышня. – Ой, смотрите, какой-то тип деньги из аппарата вынимает… Наверное, он как раз из их фирмы, кто еще в ящик полезет. Вот вы ему и скажите свое «фэ». Или пусть он вам вашу сотню отдаст.
– Да у меня чека нет, – вздохнула Алёна, – не поверит.
– Попытка не пытка, – уверила добросердечная барышня.
Да ведь и в самом деле!
Алёна, волоча за собой чемодан, вернулась к терминалу и сказала в широкую, плотную спину человека, склонившегося над ним:
– Извините, этот аппарат только что забрал мою денежку, а чека не отдал…
Спина разогнулась, повернулась – и Алёна увидела ее обладателя. Он был такой типичный ретро-качок, что даже смотреть скучно. Сразу вспоминались боевые девяностые годы, широченные штаны с мотней, висящей чуть не до колена, тусклые кожаные куртки и тусклые глаза, покатые плечи, бритые головы, тупая ярость в каждом слове… Все было один в один, кроме кожаной куртки. Все же на дворе конец августа, очень жаркого августа, так что вместо куртки на качке была черная, но тоже тусклая футболка. И в довершение образа у него была свежая царапина на ухе, словно кто-то вот только что провел по нему булатным вострым ножичком. Готовый типаж для киношки по романам Бушкова!
– Я тут при чем? – буркнул ретро-качок. – Звоните в фирму.
Он махнул на терминал и торопливо пошел прочь, воровато косясь на Алёну и засовывая деньги в карманы своих широченных ретро-штанов.
«Я бы ничуть не удивилась, если бы оказалось, что он просто-напросто обчистил автомат!» – подумала наша героиня. Собственно, она бы не имела ничего против этого: автомат обчистил ее, ретро-качок обчистил автомат, фирма получила по заслугам. Экспроприация экспроприаторов, так сказать! Но если так, то ведь и ее сотня тоже украдена. И поди теперь докажи, что она платила. А может быть, внешность ретро-качка обманчива? Вот ведь и у Алёны она очень даже обманчива. С виду тако-ой милый свежий цветочек, а в натуре… нет, конечно, она не божий одуванчик пока еще, но все же и не такая легкомысленная тридцатилетняя девочка-припевочка, какой может показаться на первый беглый взгляд. Именно потому, что Алёна помнила: внешность весьма обманчива! – она поискала на желтом сверкающем боку автомата номер телефона фирмы, которой он принадлежал, и набрала его по своему мобильному.
Сначала долго никто не брал трубку. Потом включился автоответчик:
– Вы позвонили в фирму «Терминал-сервис». К сожалению, сейчас все диспетчеры заняты. Вы можете оставить свое сообщение после гудка или перезвонить попозже.
Алёна задумчиво посмотрела по сторонам. Позвонить попозже? Да она забудет как пить дать. Довлеет дневи злоба его, а злобы, то есть дел и хлопот, у нее сегодня невпроворот. Просто невпроворот! Поэтому она торопливо – гудок уже отзвучал – проговорила:
– Ваш терминал, который находится на Курском вокзале, не выдал мне чека на сто рублей, и сообщения о зачислении денег на счет я тоже не получила, и даже сотрудник ваш, который деньги из терминала изымал, качок в черной майке, бритый такой, с порезанным ухом, отказался со мной разговаривать и принимать претензии. Если вы, господа, качаете таким образом деньги из народа, то это свинство, товарищи! Впрочем, искренне надеюсь, что произошло случайное недоразумение и скоро я получу сообщение о поступлении денег на мой счет. Сообщаю мой телефон… Можете позвонить и принести свои извинения!
Выговорив все одним духом (за словом, как устным, так и письменным, Алёна Дмитриева отродясь не лезла в карман!), она сунула телефон в сумочку и двинулась ко входу в метро, размышляя: а за каким чертом она, собственно, звонила в «Терминал-сервис» и взывала к совести его обитателей? Что, у нее последняя та сотня, чтобы из-за нее так надрываться и хлопотать?! Честно говоря, имелась у нашей героини такая черта: при всем своем патологическом транжирстве и клиническом неумении наживать деньги она вдруг начинала порой экономить на спичках. И довольно бестолково, надо сказать: ведь она сейчас в междугородном роуминге, время же днем самое дорогое, так что, заботясь о несчастной сотенке, кинула псу под хвост почти столько же!
А, ладно! Алёна выбросила эту дурь из головы (она, между нами говоря, виртуозно умела выбрасывать из головы все ненужное… и нужное, кстати, тоже, из-за чего бывала на редкость забывчива, порой до одури) и даже не подозревала, что из-за кретинской, жалкой сотни только что подвергла свою жизнь такой опасности, какой не подвергала ее ни разу… Пожалуй, ни разу с тех самых пор, как родилась!
Из дневника Селин Дюбоннез, 1965 год, Мулян, Бургундия
Иногда меня поражает человеческая тупость. Вернее, невнимательность. Никто, ну вообще никто ничего, ну вообще ничего не видит дальше своего дурацкого носа. Не видит и не помнит. И все бредни, которые можно прочитать в романах о том, как человек через много, много лет узнает своего обидчика и начинает ему страшно и ужасно мстить, – воистину бредни, выдумки досужих писак.
Очень забавно я себя чувствовала, сидя сегодня напротив Жоффрея. Все-таки привлекательный мужчина. Был несуразным мальчишкой, потом нелепым юнцом, а теперь так преобразился. И курица Жанин ему совершенно не подходит. Ему нужна настоящая женщина! Женщина с характером и с таким же огромным жизненным аппетитом, как у него. Но это у них в роду – жениться на курицах. Я ведь отлично помню Лазара, его отца. Он был потрясающий мужчина. А его Мадлен была просто ничто. Но очень хитренькое ничто. Лазар не мог понять, каким образом Мадлен умудрилась забеременеть. Что-то такое плел, мол, она сама залезла к нему-то шалаш на виноградниках, когда он ходил на встречу со связным маки. Все может быть: Мадлен-то была курица, но ведь курица всегда к себе гребет. А может, врал он, строил из себя такую невинность, чтобы я не бесилась. Но… я бесилась!
Теперь Лазара давно нет, Мадлен никого другого себе не нашла и корчит из себя вдову резистанта. Ей так и не удалось добиться, чтобы Жоффрею дали фамилию Лазара – тот был Барон, а Мадлен и Жоффрей – Пуссоньер, но все знают: Лазар женился бы на Мадлен и сын его родился бы в законном браке, если бы за несколько дней до того, как союзники высадились в Нормандии и гитлеровцы начали паковать чемоданы, Лазара не поставили к стенке… К той самой, что неподалеку от часовни на перекрестке, почти в центре Муляна, она теперь увита виноградом… Ох и вкусный там растет виноград! Его никто не рвет – кому нужен дичок, когда у каждого в садах или на полях отличные, элитные сорта? – но я иногда незаметно отщипну ягодку-другую. Какая сладость! Может быть, кровь мужчины, которого я когда-то любила, придает ягодам невыразимую сладость прощального поцелуя?
Красивые слова – прощальный поцелуй… Но мы так и не обменялись им с Лазаром. Я стояла в толпе, когда его вели на расстрел. Он взглянул на меня, но словно бы не увидел. Близость смерти уже затуманила его взор. Он только один раз вскинул голову и крикнул: «Пусть капитан спросит матроса!» И обвел толпу глазами, но словно бы никого не увидел, в том числе и меня. Я была близко, я смотрела в его глаза, но он не заметил меня, не узнал…
Вот точно так же и Жоффрей не узнал меня сегодня в Нуайере. Я смотрела ему в глаза, он взглянул на меня, наклонился, выпрямился… и пошел дальше.
Я растерялась, потому что не была готова к встрече: ну какие дела могут быть у Жоффрея в Нуайере средь бела дня, когда здесь бродят только туристы? Хотя, конечно, следовало ожидать, что я когда-нибудь наткнусь на кого-то из Муляна. Сердце у меня так и сжалось, так и ухнуло! И все же я без страха смотрела в глаза Жоффрея. Я не собиралась прикрывать лицо, я не собиралась что-то униженно бормотать в свое оправдание. Скорее я готова была вцепиться в его лицо ногтями! Пусть бы только посмел бросить мне хоть слово упрека!
Но его счастье…
Он пошел к своей машине, стоявшей у собора. Оттуда, скромно опустив глаза и отирая платочком влажные после святой воды пальцы, выодила Жанин. Итак, эта клуша еще и святоша! Я тогда была готова держать пари, что именно она заставила мужа привезти ее в разгар дня в Нуайер, бросив все дела. И нынче вечером во время аперитива выяснилось, что я оказалась совершенно права. Наша курица ощутила, что, кажется, готова снести яичко! Жанин почувствовала себя «в интересном положении»!
Ненавижу это жеманство. Что там особо интересного, в том положении? Судя по зеленоватому, отекшему личику Жанин, ее мутит круглыми сутками, вот и весь интерес.
Так вот: Жанин очень боится потерять ребенка, которого с таким трудом зачала, и кто-то напомнил ей про старинный обычай: трижды пройти под городскими воротами Нуайера. Ну она и погнала немедленно мужа исполнять дурацкий обряд. А для надежности решила еще и в собор зайти. Жоффрей не стал ее сопровождать, он решил прогуляться и… наткнулся на меня.
И не узнал.
Ох как я тряслась от смеха, глядя ему вслед! Правда, сначала-то я немного потряслась от страха, а уж потом так и зашлась хохотом. Просто давилась им! Боялась, кто-нибудь заметит мое веселье, но повезло: рядом никого не оказалось. А потом пошли туристы от обедни (они любят слушать орган), и мне стало не до Жоффрея.
А вечером я сидела в его доме, в уютном уголке около камина, положив голову на накрахмаленный, несколько пожелтевший от времени антимакассар[4], связанный, если не ошибаюсь, еще бабушкой Мадлен (у меня тоже есть нечто подобное, и мне нравится думать, что ее когда-то связала Николь, «безумная Николь»). Сидела и, с наслаждением ловя каминный жар (нейлоновые чулки ведь совершенно не греют, они не для таких холодов, какие стоят нынче!), размышляла о том, что люди ничего, совершенно ничего не замечают и не видят вокруг себя. Может быть, это и плохо, но меня это вполне устраивает!
Я благостно улыбнулась и только потянулась к рюмочке ратафьи[5], которую Мадлен делает непревзойденно, отдадим ей должное, даже лучше, чем я, как меня посетила мысль, несколько подпортившая мое чудесное настроение: Николь тоже была уверена, что ее никто не замечает и не узнает. А чем все кончилось? Кончилось ее последними словами: «Сколько веревочке ни виться…»
И меня вдруг охватило острейшее желание перечитать ее дневник. Когда-то я знала его чуть ли не наизусть, ну а потом он исчез. Его спрятал Лазар, но не успел рассказать никому о том, куда спрятал. В старой тетради, в кожаном, мягком, очень потертом переплете были на последних листках сделаны его шифровальные записи… для конспирации, так сказать. Мальчишки, глупые мальчишки, вот кто они были, наши маки! Мальчишки, заигравшиеся в опасные, слишком взрослые, жестокие игры! Ну и все исчезло бесследно: и записи Лазара, и записки Николь.
Сколько раз приходил ко мне Легран, командир Лазара (кстати, и друг его, потому-то он и знал о нашей связи, знал, что мы любовники, что Лазар доверяет мне все на свете, даже тайны резистантов), приходил и умолял найти шифровальные записи. И когда я говорила, что не знаю, где они, он страшно злился и орал на меня. Иногда начинал размахивать кулаками и, чудилось, едва сдерживался, чтобы не ударить. Как-то раз за пистолет схватился, за точно такой же «байярд», какой был у Лазара. Но я только плечами пожала. И вовсе не потому, что я такая храбрая. Я действительно не знала, куда Лазар спрятал дневник Николь вместе с шифровальными листами. И до сих пор не знаю! Может быть, знал Матло, не зря же Лазар кричал перед смертью: «Пусть капитан (то есть Легран) спросит матроса!»[6] Они были вместе в тот вечер, когда Лазар мог спрятать дневник. Но Матло той же ночью погиб – подорвался на мине, которую сам же ставил на железной дороге. Спросить было уже некого, но Лазар об этом не знал…
Легран обошел потом всех соседей Лазара, к которым тот мог зайти тем вечером, когда его схватили гитлеровцы. Лазар вместе с Матло был у Волонтье, своих дальних родственников, у Брюнов (его кузина Маргарет попросила прочистить водосток над крыльцом, который все время забивался… он так и продолжает забиваться по сей день, плохо Лазар его прочистил, на него уже все рукой махнули!), был у Женевьевы, вдовы своего покойного брата. Он часто заходил к Женевьеве, чтобы поиграть со своим племянником Рене. Многие, как и я, были уверены, что Рене не племянник, а сын Лазара, а Женевьева как была его подружкой до свадьбы, так и оставалась любовницей после оной… Но никто не видел в руках Лазара тетради, никто не замечал, чтобы Лазар что-то спрятал в их доме. Еще он с Матло ходил к нижним загонам, где держал своих коз старый Марк, и долго гулял с ним по дорожке, ведущей к старой мельнице. И я, к примеру, думаю, что спрятал он тетрадь именно там. Если бы мне понадобилось где-то сохранить секретные документы, я бы точно выбрала старую мельницу!
Сначала Легран со своими маки, потом я собственноручно перерыли там все. Я даже заметила поднятый и уложенный на свое место дерн: что и говорить, Легран искал тщательно. Но ни он, ни я – мы так ничего и не нашли. И реликвия моей семьи, дневник, который сыграл столь странную роль в моей жизни, пропал! А ведь я пишу свой дневник именно потому, что так поступала когда- то Николь Жерарди, моя прапрабабка, вернее, родная сестра моей прапрабабки по материнской линии. Думаю, она возродилась во мне… А может быть, наоборот: я существовала в ее теле в те давние времена, когда та часть нашей семьи, к которой принадлежала Николь, была богата, жила в Париже, когда превратности судьбы и неудачный брак еще не занесли мою бабку Селин в бургундскую глухомань. Кстати, меня назвали в ее честь. Вот жалость-то! Я бы предпочла зваться в честь Николь, но ведь у новорожденных никто не спрашивает, чего они хотят…
Как же мне не хватает Николь! Конечно, я помню всю историю ее жизни, но чтение ее дневника было для меня словно бы общением с человеком, который меня абсолютно понимает и во всем одобряет. Мы с ней совершенно одинаковые, мы так похожи… Думаю, она порадовалась бы, глядя на меня.
Даже не знаю, чего бы я только не дала, чтобы найти дневник Николь. И не только потому, что больше всего на свете хотела бы прочесть его снова. Если он попадет сейчас в чужие руки… это может стать очень опасным для меня. Слишком во многом следовала я той дорогой, которую проторила Николь! А впрочем, чего я боюсь? Бедняжка Лазар так ничего и не понял, так и не догадался о причинах, по которым угодил в засаду, а ведь он читал дневник Николь, он знал, что мы родня… Легран мог оказаться догадливей и осторожней, мне повезло, что он тоже ничего не понял, не нашел ни дневника, ни связи… Да нет, вряд ли кто- то усмотрел бы какую-то связь… Люди глупы, невнимательны и неприметливы.
Вот и великолепно! Меня это вполне устраивает!
Наше время. Тот же день в начале августа, Москва
– Стас? У нас проблемы. Большие проблемы. Слушай, сейчас запись пройдет, принимай инфу.
«Ваш терминал, который находится на Курском вокзале, не выдал мне чека на сто рублей, и сообщения о зачислении денег на счет я тоже не получила, и даже сотрудник ваш, который деньги из терминала изымал, качок в черной майке, бритый такой, с порезанным ухом, отказался со мной разговаривать и принимать претензии. Если вы, господа, качаете таким образом деньги из народа, то это свинство, товарищи! Впрочем, искренне надеюсь, что произошло случайное недоразумение и скоро я получу сообщение о поступлении денег на мой счет. Сообщаю мой телефон… Можете позвонить и принести свои извинения!»
– Не понял…
– Чего тут непонятного? Наш терминал на Курском разбомблен.
– Погоди, да я ведь только что…
– Ну вот он и разбомблен по горячим следам.
– Ты хочешь сказать, что за мной был хвост? Да ты что? Ты просто рехнулся, если такое…
– Заткнись, Стас. Не разбухай. Не то лопочешь. Сейчас строго факты: терминал вскрыт, деньги и все прочее взяты.
– А если это вранье?
– Было бы здорово… Ты сейчас далеко от терминала?
– Да нет, я тут зашел кофе попить.
– Козлина! Сто раз говорено было: сделал дело – ноги в руки! А он – кофе попить… Убил бы на хрен!
– Придержи язык, ты! «Козлина…» От козлины слышу!
– Ладно, прекратили. Даже хорошо, что ты такой кофеман оказался. Живо к терминалу, понял?
Не отключайся. Давай, держи меня постоянно в курсе.
– По шагам, что ли? Ну, вот я вышел из кафешки на втором этаже… спустился по эскалатору… прошел через нижний зал… вот салон, где мобильниками торгуют, вот терминал. Открывать, что ли?
– Открывай. Ну! Что молчишь? Я же сказал, держи меня постоянно в курсе!
– Пусто. Деньги взяты.
– Так… Это точно?
– Я же не слепой.
– А я еще надеялся…
– На что? Что я ослеп вдруг?
– Да нет, что тетка, которая звонила, просто развлекалась. Мало ли, знаешь, какие понятия о чувстве юмора у людей! Но чудес не бывает… Ладно, хватит причитать, слушаем запись еще раз.
«Ваш терминал, который находится на Курском вокзале, не выдал мне чека на сто рублей, и сообщения о зачислении денег на счет я тоже не получила, и даже сотрудник ваш, который деньги из терминала изымал, качок в черной майке, бритый такой, с порезанным ухом, отказался со мной разговаривать и принимать претензии. Если вы, господа, качаете таким образом деньги из народа, то это свинство, товарищи! Впрочем, искренне надеюсь, что произошло случайное недоразумение и скоро я получу сообщение о поступлении денег на мой счет! Сообщаю мой телефон… Можете позвонить и принести свои извинения!»
– Качок в черной майке, бритый, с порезанным ухом? Что за ерунда?
– Вовсе не ерунда! Ты что, не понимаешь, кого описывает тетка? Ведь Крошку же!
– Какую крошку? Крошку чего?
– Заткнись, балда! Нашелся тоже, остряк-самоучка. Главное, «Крошку чего»… Напряги моск! Помнишь, был такой чистильщик автоматов с пепси и всякими печенюшками? Бомбил их почем зря, у него даже и команды не было, он сам-один успевал напакостить только так.
– Погоди, погоди… Конечно, как я мог забыть! Его рожа даже на всех стендах «Их разыскивает милиция» висела. Да ведь вроде его разыскали-таки и даже посадили? Хотя нет, кажется, его кто-то крепко наказал… пришили бедолагу.
– Да, проходил такой слушок. Ну, значит, слушок был, и не более того. Или выпустили Крошку. И он опять пошел бомбить, теперь терминалы.
– Слушай, Юлий, а почему у него погоняло такое, Крошка? Типа, курочка по зернышку клюет? Там денежку, тут денежку…
– Нет, тут проще. Фамилия у него – Крошкин, вот и все. А насчет зернышка ты прав… Правда, сейчас поганая курица склевала зернышко не простое, а золотое.
– Главное дело, судя по времени звонка тетки, я только-только отошел от терминала. То есть он нашу инфу взял сразу, тепленькую еще! И пошел небось с этой бумажкой в ближайший кабак.
– Ну, насчет кабака я слабо верю. Где у нас еще терминалы?
– Забыл? Метро «Площадь Революции», метро «Аэропорт».
– Немедленно двигай туда. Сначала по радиальной на «Площадь Революции», осмотрись там живенько, потом сразу пересаживайся на Горьковско-Замоскворецкую линию и двигай на станцию «Аэропорт». Не исключено, ты еще успеешь Крошку перехватить.
– Да ты что? Я его в глаза не видел! Кого мне перехватывать прикажешь?
– Тебе же сказано было: «Качок в черной майке, бритый такой, с порезанным ухом».
– Ну и что? Да таких качков в Москве знаешь сколько!
– Знаю. Но тебе нужен из всех из них один- единственный. Потому что у тебя один-единственный шанс, понял? И если ты его не используешь, если Крошку не найдешь, тебе останется только пойти и прыгнуть с Крымского моста.
– А почему с Крымского?
– Ладно, можешь выбрать любой другой. Но это будет последнее, что ты сможешь выбрать в жизни!
– Да погоди! При чем тут я? Я свое дело сделал: передал информацию. За работу терминалов отвечаешь ты. Ты, Юлий!
– Я – диспетчер, понял? Ты – исполнитель. Вот и исполняй, пока ситуация еще не пошла вразнос окончательно. Сейчас ты болтаешь, а время идет!
Но ты соображаешь, что я могу просто не найти того Крошку? Иголку в стоге сена легче найти, чем…
– Теряем время.
– Ладно. Что мне с ним делать, если найду?
– Следи за ним и сразу свяжись со мной.
– Уговорил, пошел я. Но только…
– Теряем время!
Все тот же день в начале августа, Москва
Ужасный город, честно… Стыдно, стыдно признаваться, но Алёна Дмитриева не любила Москву. Ни как сын, ни как дочь, ни как русский (или русская, нужное подчеркнуть) не любила. Ни пламенно, ни нежно. Не станем выяснять причины сего явления, чтобы не оскорбить многочисленных москвичей, весьма уважаемых и автором, и героиней, а просто констатируем факт нелюбви Алёны к столице. И нелюбовь ее резко обострялась, когда ей приходилось тащить тяжелый чемодан по лестницам и переходам Московского метро. Пусть даже чемодан на колесиках. Ох, сколько лестниц там на кольцевых и радиальных линиях! Не эскалаторов, а именно лестниц со ступеньками! Ох, сколько народу надрывается ежедневно на тех лестницах и ступеньках…
«Не нравится – езжай на такси», – могут сказать возмущенные метростроевцы и москвичи вообще. Но… ведь дорого, вот что! Дорого, долго и чревато реальной возможностью так застрять в пробке, что опоздаешь везде и всюду, куда надо и куда не надо. Поэтому Алёна, ворча и пыхтя, волокла свою сумку, набитую вещами личными, а также многочисленными подарками – русская водка, русские конфеты, русская икра (только красная, черную могут отобрать бдительные французские таможенники), русские книжки для подрастающих русско-французских девочек и для их мамы Марины и так далее. И доволокла-таки до поезда, который сначала довез ее до «Площади Революции», а там, перебравшись на «Театральную», она оказалась на Горьковско-Замоскворецкой линии, по которой ей надлежало следовать до станции «Речной вокзал», чтобы пересесть там на маршрутку до аэропорта Шереметьево-2. Наконец Алёна оказалась в вагоне – и на некоторое время перевела дух.
Сумка так и сяк выворачивалась из рук. Она вообще была очень причудливая: с полосатыми колесами, которые перемигивались разноцветными огоньками, вся разбойно-красная, вызывающая, огромная, вальяжная – и невыразимо удобная и вместительная. Причем самим своим видом она вызывала у Алёны самые что ни на есть приятные воспоминания. Сумка была куплена случайно, и не где-нибудь, а в Париже. То есть Алёна давно подумывала о покупке нового чемодана, но пока не ощущала радикальной необходимости. И вдруг… Как раз в то время Алёна в очередной раз гостила у Марины, и гощенье совпало по времени с приучением крошки Лизочки к горшку.
А что такого? Почему бы не побеседовать в детективном романе о приучении двухлетнего ребенка к горшку? Пустяки, дело, как говорится, житейское!
У наших, у русских, детей сей процесс начинается раньше. У французских же, приученных к удобнейшим памперсам, он обычно затягивается. Вот и у Лизочки затянулся. Причем девочка очень скоро поняла, что писать в штанишки – плохо. Поняла, приняла близко к сердцу, но… никак не могла заставить себя проситься. Процесс происходил самопроизвольно, вокруг Лизочки, которой перестали в воспитательных целях надевать памперсы, образовывалась лужица, а из глаз начинали струиться слезы – от осознания собственного несовершенства. Поэтому, отправившись на прогулку с Лизочкой, то мама Марина, то Алёна периодически спрашивали ребеночка: «Хочешь на горшок?» Но получали неизменно отрицательный ответ.
Прогулка затягивалась, вопросы сыпались все чаще. Но Лизочка качала головой. Иногда недоверчивые Марина и Алёна поочередно хватали ребенка, стаскивали с него трусишки и «высаживали» под ближайшим укромным платаном или, скажем, каштаном. Годились для сего процесса также липы, вязы и клены. Результат, впрочем, оставался нулевым под любым деревом.
И вот на бульваре Пуссоньер, как раз там, где он переходит в бульвар Монмартр (прошу не путать с тем культовым Монмартром, где Пикассо, и Утрилло, и Модильяни, и Руссо, и все прочие… В Париже, чтоб вы знали, есть бульвар Монмартр, есть улица Монмартр, а еще есть так называемый фобур Монмартр, то есть предместье с тем же названием, причем находятся они от того Монмартра, горы Мучеников в переводе с французского, на изрядном удалении), на бульваре, стало быть, Пуссоньер у Марины зазвонил мобильный телефон. Она приостановилась, Алёна с Лизочкой притормозили тоже. И как раз возле небольшого магазина сумок и чемоданов, хозяин которого выставил на тротуар многочисленные образцы своего товара. Слева висели всевозможные сумки поменьше, а справа важно стояли многообразные чемоданы. Марина позвала Алёну, та подошла, а Лизочка шмыгнула куда-то в сторонку. Внезапно раздался ее громкий плач. Марина с Алёной кинулись на звук и не сразу обнаружили ребенка между огромными саквояжами. С самым виноватым видом Лизочка стояла в центре небольшой лужицы… Она отчетливо сознавала, что совершила преступление, написав в штанишки и забрызгав роскошное разноцветное сверкающее колесо большущей ярко-красной сумки на колесиках.
Переглянувшись, Марина и Алёна схватили «преступницу» за руки и навострились было смыться, но не успели – на плач явился встревоженный хозяин. Французы любят детей, и не просто любят, а любят демонстративно: например, повосхищаться незнакомым дитяткой, улыбнуться малышу, сказать комплимент его мамаше считается хорошим тоном. И хозяин увидел лужицу… и забрызганное колесо… Его откровенно перекосило. Но ведь французы любят детей, потому он только буркнул покровительственно:
– Нормально, сударыни, нет проблем.
И даже умудрился улыбнуться, принимаясь сдвигать в сторону товар, под который уже начинала растекаться лужица. Он был настоящий мужчина! Умел держать себя в руках и делать хорошую мину даже при плохой игре!
Именно в ту минуту Алёна решила, что ей совершенно необходим – радикально! – новый чемодан на колесиках. Именно вот этот, забрызганный. Помеченный милой девочкой Лизочкой, которую Алёна любила, как родную дочь, честное слово. И она немедленно вынула из кошелька пятьдесят евро. Деньги были, честно говоря, не столь большие за такой классный чемоданище, и он потом сто раз оправдал потраченную сумму своей безотказной готовностью, не ломаясь, прыгать по любым, самым экстремальным выбоинам тротуаров Нижнего Новгорода, где проживала наша героиня. Да и забавные воспоминания, связанные с покупкой, стоили куда дороже!
Алёна многое прощала своему чемодану именно из-за воспоминаний. А прощать было что, потому что он иногда начинал вытворять нечто несусветное! Вот и сейчас чемодан своевольничал по-страшному, и о том, чтобы подвезти его к сиденью и устроиться поудобнее, нечего было и думать. Алёна, зарулив в вагон метро, кое-как утвердилась около закрытых дверей, пытаясь удержать равновесие. Одной рукой она цеплялась за поручень, другой удерживала своего красного красавчика. Резко покачнувшись, она отступила назад и почувствовала под ногой чью-то ступню.
– Простите! – пискнула Алёна, полуобернувшись.
– Ничего, – буркнул невысокий чернявый парень, выбираясь из-за ее спины (в единоборстве с чемоданом она даже не заметила, что у дверей кто-то стоит) и проходя наискосок, к почти пустой скамье.
Алёна придвинула чемодан вплотную к стене и немедленно почувствовала себя лучше. И даже смогла проводить парня взглядом и подумать, что где-то она его видела. Худые, но широкие плечи, обтянутые тонким пуловером, танцующая походка были ей определенно знакомы. О, да ведь это тот самый парень с вокзала, с которым они встретились около прожорливого терминала. Надо же… Москва город большой, но тесный. Бывают же совпадения, а?
Размышляя про различные совпадения, случающиеся в ее жизни (а некоторые из них были свойства самого невероятного и неправдоподобного, Алёна потом и сама слабо верила, что они имели место быть!), она искоса поглядывала на парня. Волнующий момент, что и говорить. Причем анфас и в профиль он смотрелся ничуть не хуже, чем сзади, со своей поджарой, подкачанной задницей. Каскетка низко надвинута на лоб, но все равно видно, что он обладатель резких черт, смуглой кожи, небритых (шестидневная щетина, да?) щек, упрямого подбородка, длинных прямых ресниц, затеняющих прищуренные глаза, и твердых, напряженно стиснутых губ. Именно губы выдавали его напряжение, хоть сидел незнакомец в вальяжной позе, забросив ногу на ногу и вольно развернув плечи. Пуловер его был вырезан на груди, и можно было разглядеть, что она сильно поросла волосами. Такой же волосатой была и худая щиколотка, видная из высоко вздернувшейся джинсовой штанины.
Алёна чуть наморщила нос. Вообще говоря, ей не нравились волосатые мужики (точнее сказать, она их просто терпеть не могла), но в этом парне было что-то раздражающе сексуальное. Стоило только представить, как его волосатые ноги с легким шелестом скользят по гладким, шелковистым женским ногам… Например, если женщина вот только что сделала эпиляцию, как Алёна…
У нашей героини слегка пробежали по коже мурашки. Нет, сгиньте, пропадите, греховные мысли! За полтора месяца, что Алёне предстоит провести во Франции, ей вряд ли что обломится в плане простых и незамысловатых плотских радостей, поэтому лучше не будоражить себя мыслями и образами, которые потом будут терзать ее в снах. И вообще, при ее-то буйном темпераменте, надо было куда интенсивней использовать возможности, которые предоставляла ей судьба до отъезда! Каждый день минувшей недели следовало посвящать горизонтальному фитнесу. Ну, не весь день, конечно, но хотя бы пару часов в день непременно следовало, благо желающих поразвлечь одинокую, красивую, совершенно не обремененную комплексами даму находилось предостаточно. У Алёны, заметим, было два постоянных любовника (оба моложе ее на… на много лет, скажем так), которые, понятно, знать не знали о существовании друг друга, ну и еще как минимум двое спорадических, если так можно выразиться. Они ей нравились технически, но никаких особых чувств не вызывали. А вот к Константину и Андрею (так звали постоянных) Алёна относилась почти с нежностью. Особенно к Константину. Нет, особенно к Андрею… Или все же к Константину? А, какая разница! Что тот, что другой будили в ней нежность, желание, пылкость, но не любовь. С любовью было покончено ровно два года назад. Покончено – и прикончено. Что Игорь, что подружка Жанна, приложившая руку к приканчиванию Алёниной безумной страсти, были вычеркнуты из ее жизни. С ними она больше не встречалась, а если судьба все же сводила случайно, так крепко зажимала сердце в кулак, что даже сама не понимала хорошенько, больно ей видеть тлеющие обломки былой страсти или нет.
Ладно, как говорится, померла, так померла!
Отмахнувшись от воспоминаний, Алёна продолжала рассматривать незнакомого чернявого симпатягу. Некая свирепость, присутствовавшая в выражении его лица, не могла не привлекать женщину, пресыщенную аморфными или отупевшими субъектами мужского пола, которых воленс-ноленс наблюдается в переизбытке. А сейчас перед нею находился поистине брутальный мэн. И скрытую его силу оценила не одна Алёна.
Напротив Брутального, как мысленно назвала парня Алёна (а почему нет, в самом деле, если он был интенсивно-брутален?!), сидела девушка. Милая такая девушка – «из приличной семьи», что называется. Так и виделась она девочкой – в кружевном воротничке, с косичками и с нотной папкой в чисто вымытой ручке. Хорошая девочка превратилась в хорошую девушку с правильным, хотя и чуточку скучноватым да к тому же несколько испуганным личиком. А испуг на ее личике проистекал, как немедленно поняла Алёна, из того, что напротив сидел Брутальный (для краткости его можно называть просто Брут, подумала Алёна). Ох ты батюшки, да у него еще и татуировка на среднем пальце левой руки, этакий перстень: темнокрасная змея, кусающая свой хвост. Пошлятина, конечно. Но сидит-то парень как! Нескромно сидит, небрежно разбросав ноги, между которыми виднеется весьма недвусмысленная выпуклость.
Наша героиня, которая была большой любительницей (и мастерицей, следует сказать!) исследовать такие выпуклости, как визуально, так и на ощупь, чуть усмехнулась взволнованному выражению на личике девушки. Брутальный Брут не обращал на милашку ни малейшего внимания! Конечно, мужчины такого типа предпочитают отъявленных стерв, и, судя по тому, что взгляд Брута снова, как и на вокзале, равнодушно скользнул мимо Алёны, она к числу таковых особей не принадлежала. И Алёна задумалась над тем, огорчает это ее или нет. И вдруг Брут напрягся… взгляд его, равнодушно перебегавший по лицам пассажиров, скользнул куда-то в сторону и задержался. На ком? Неужели там сидит та самая стерва? Любопытная Алёна, конечно, повернула голову в ту же сторону, ощущая не только любопытство, но и нечто вроде ревности, какую немедленно начинает чувствовать любая нормальная женщина к любой другой особи одного с нею пола.
А зря, между прочим.
В конце вагона ни одной стервы не обнаружилось. Исключительно одни стервецы там собрались – в том смысле, что сидели в той стороне только мужчины. О, так Брут, что ли, не так уж и брутален? Да что за жизнь пошла, если подобные мысли вообще возникают у приличной женщины! Вот еще не хватало, к мужчинам ревновать!
Кстати, а ревновать-то вроде не к кому, тут же озадачилась Алёна. Все сплошь натуралы там, сразу видно, любой готов немедленно начистить рыло, если однополое существо только лишь помыслит подступить к нему с неприличным выражением непристойных чувств. На кого же столь пристально смотрит Брут?
Наша героиня с ленивым любопытством повела глазами по лицам мужчин, и вдруг что-то такое мелькнуло в мыслях, какое-то воспоминание… Алёна насторожилась, глядя на плоское, близко прилегающее к бритой голове ухо какого-то молодого мужчины. Ухо было резаное, раковина отчетливо укорочена сверху. «Корноухий, – подумала Алёна. – Вот как называется такой человек. Обкорнали ему ухо-то, стало быть!» Она кивнула, довольная своей лингвистической эрудицией, и тут же ее осенило, что это ухо она уже видела сегодня. Это ухо, и эту бритую голову, и эти чуть покатые, накачанные плечи, обтянутые черной майкой…
Качок с Курского вокзала! Тот самый, который вынимал выручку из терминала, слопавшего сотенную Алёны, и отказался принимать ее претензии!
Точно, он. И Брут смотрел именно на его ухо. Стоп-стоп… Да ведь Брут заплатил деньги терминалу-воришке как раз перед Алёной. И квитанцию получил… Неужели и его пятисотка осталась незачисленной? Наверное, он заметил Корноухого, когда тот вскрывал терминал, тоже не получил от него вразумительного ответа, вот и решил проследить за ним, чтобы узнать адрес фирмы, как ее там… «Терминал-сервиса»…
Ага, везде тебе сыщики и воры мерещатся, детективщица Алёна Дмитриева! Заметил, проследил… Просто случайность. Конечно, Москва – город большой, и даже неразумно большой, а все же и в нем возможны такие забойные совпадения, что…
Алёна не успела довести до конца мысль о забойных совпадениях, потому что подоспела станция «Аэропорт» и качок быстро вышел из вагона. И немедленно брутальный Брут тоже кинулся вон, успев в самую последнюю минутку проскользнуть сквозь уже почти сомкнувшиеся створки двери. И двинулся, что характерно, именно в том направлении, куда направлялся качок.
Неужели и правда следил за ним?
«Ну, бог в помощь», – с усмешкой подумала Алёна и снова обратила все силы и помыслы на то, чтобы удержать в повиновении свой своевольный и непредсказуемый, как всякое существо мужского пола, чемодан.
Из дневника Николь Жерарди, 1767 год, Париж
Я сделала это! Я это сделала. О боже мой, какое дивное, какое восхитительное ощущение! Кто бы только знал, какой независимой я себя отныне чувствую! Какой свободной! Я рассталась не только с девственностью – я рассталась с занудными заботами по ее охране. Как я могла быть настолько глупа, что верила всякому бреду – мол, нужно сохранить себя в неприкосновенности для мужа… А поэтому нельзя даже и глядеть на других мужчин, чтобы не поддаться дьявольскому искушению. Иначе немедленно лишишься своего главного сокровища, ведь злодеи-мужчины только и мечтают о том, чтобы похитить невинность у девушки. И все, и ты навеки опозорена, но даже если тебе удастся скрыть тайну твоего падения, муж- то непременно обнаружит на брачном ложе и будет иметь полное право вернуть тебя твоим родителям. А приданое твое оставит себе. И никто не посмеет его осудить, потому что приданое было всего лишь дополнением к главному богатству невесты – ее непорочности. Ну а если он непорочности не обнаружил, должен получить неустойку в качестве приданого.
Просто с ума сойти можно… Конечно, этот закон придуман мужчинами. Что за простор для обогащения нечестных! Скажем, какой-нибудь жених еще до свадьбы вовлекает девицу во грех. И она отдается ему где-нибудь в саду под яблоней, в конюшне или на лесной опушке, умудрившись все проделать так, что следов ее грехопадения никто не обнаружил. Проще говоря, ни на одной из ее нижних юбочек не осталось ни пятнышка девственной крови. Жених счастлив доказательством ее любви, говорит, что беспокоиться не о чем, ведь свадьба со дня на день. И вот брачный контракт подписан, молодые обвенчаны, после брачного пира они восходят на ложе, ласкаются-милуются, не заботясь ни о чем… а наутро бледный, суровый жених призывает папашу своей молодой жены и заявляет, что ему был подсунут бракованный товарец. Девица оказалась вовсе не девицей! Не верите? Говорите, быть этого не может? Да взгляните на простыни! И если вы обнаружите там хоть малое свидетельство невинности вашей дочери, я лично вычищу ваши башмаки собственным болтливым языком.
Разумеется, папаша не отыскивает ничего, поскольку невозможно отыскать то, чего вообще нет. А лепет девицы о том, что именно жених похитил ее сокровище тогда-то и там-то, никто и слушать не желает. Более того, девица ничего такого и не говорит, потому что лежит в обмороке… Ну и что? Брак объявляется недействительным, жених прикарманивает приданое – законным путем, заметьте себе! – переводит недвижимость в наличность, а потом может переехать в другой город, найти там другую богатую дурочку, обручиться с ней, совратить накануне свадьбы… et cetera et cetera… Как известно, в брак вступать можно до трех раз, и церковь смотрит на сие сквозь пальцы. Но на самом деле кто будет вести счет, сколько раз венчался тот-то и тот-то и сколько раз брак его бывал расторгнут по самым что ни на есть священным причинам?!
Если бы я была мужчиной… нет, правда, если бы я была мужчиной, не девушкой (о нет, совсем нет, НЕ девушкой, ха-ха!) по имени Николь, а мужчиной Николь, таким же родовитым, и имела столь же скупого отца… скупого до того, что у меня не было бы горничной, то есть лакея, если бы мне самой (то есть самому) приходилось ставить заплатки на свои юбки (то есть на свои кюлоты) и самой причесываться (то есть бриться), одним словом, если бы я была безденежным мужчиной, я бы непременно постаралась обогатиться за счет невинности глупеньких девиц. Но я, к сожалению, сама – девица (бывшая, что строго между нами!) и намерена сама обогащаться за счет мужчин. Оказывается, девственность – весьма раскупаемый товар. И надо быть дурой, чтобы этим не воспользоваться.
Как там говорила мадам Ивонн? Новобрачного супруга обмануть – самое плевое дело. Конечно, если девушка уродилась пылкой штучкой, ей никак не вытерпеть до свадьбы, однако всякая прореха должна быть залатана. Чистота – лучшая красота! Говорят, есть умелицы, которые и в самом деле умеют залатать прореху в своем хорошеньком потайном местечке. Ах, какое варварство! Какую боль принуждена терпеть неосторожная девица! Моя метода куда как проще и действенней. Берется рыбий пузырь – не от большой рыбы, а, скажем, от маленького карася или карпа, тщательно вымывается и наполняется кровью. Нет, вовсе не непременно человеческой! Глупости. Подойдет свиная или коровья. Или даже куриная. Такого добра у любого мясника можно получить в любое время сколько угодно. Прикиньтесь чахоточной, притворитесь, что вам необходимо пить кровь для поправления ваших легких, не мелочитесь, погромче побренчите монетами в кошельке – и любой мясник с охотою нальет вам стаканчик свежайшей крови! Но вам хватит и четверти стаканчика. Вы должны опустить туда проколотый рыбий пузырь. В крови он расправится и наполнится. Напоминаю: пузырь вовсе не должен быть очень большим. Если на простыне окажется слишком много крови, жених сочтет вас больной и испугается. Постель не зря сравнивают с полем боя. Там есть храбрецы, трусы, отступления, наступления, засады, военные хитрости, там льется кровь… Но во всем нужна мера.
Впрочем, мы несколько отвлеклись. Теперь речь пойдет о главном. Хорошо, если у вас есть преданная горничная или если маменька в курсе ваших шалостей и потворствует им. А вот если никого из помощниц не сыщется – ну что же, придется рассчитывать лишь на себя. Когда настанет ваша брачная ночь, засуньте наполненный кровью пузырь сами знаете куда и поскорей ложитесь в постель. Будьте аккуратны, ни капли крови не должно до времени попасть на простыни и вашу рубашку! И вот вы легли. Открывается дверь, и в вашу спальню входит человек, с которым вы только что обвенчались… Сударыня, начинается самое трудное! Вы должны теперь набраться хладнокровия и ни в коем случае не дать вашей пылкой природе одержать над вами верх. Как бы вы ни любили постельные игры и как бы ни желали предаться забавам с мужчиной, лишь только его руки коснутся вас, а губы прижмутся к вашим губам, вы должны корчить из себя испуганную скромницу. Сдвиньте ножки и сожмите их покрепче. Вспомните, что пузырь, который вы в себя запихали, очень скользкий и может вывалиться при малейшем неосторожном движении. Боже вас упаси поддаться любовным играм, в которые будет стремиться вас вовлечь супруг! Вы – невинная скромница, которая боится мужчины, помните!
Могу добавить: на ваше, девушки, счастье, большинство мужчин убеждено, будто жена в постели должна быть бревно бревном. Вольности и прелестные забавы они готовы разделять только с кокотками и шлюхами, а в жену, считают мужья, следует заталкивать свое орудие молча, деловито и уныло. Но это нам только на руку. Позвольте вашему мужу сделать все так, как он считает нужным. Сожмите ноги и заставьте его применить силу. Стоните, пищите, охайте и ахайте, только не кричите слишком громко. Не нужно переигрывать, не напугайте супруга, иначе он ничего не сможет с вами сделать, уснет да и все, отложив свои желания на утро или на другую ночь, и тогда вам всю ночь придется лежать по стойке «смирно» с рыбьим пузырем в… Ах, я лучше промолчу, сами знаете где. И тогда на следующую ночь придется весь спектакль устроить снова. Нет, следует помнить, что вы теперь – Адриенна Лекуврер[7], не больше и не меньше. Мера и еще раз мера во всем. Ну вот вы сопротивлялись довольно и позволили победителю ворваться в ворота крепости. Вы ощутили, что пузырь прорвался, кровь потекла. Тут самое время лишиться чувств. Пусть ваш супруг насладится плодами своей победы!
Увидев, что вы в беспамятстве, он умилится, быстренько завершит свое дело и, готова держать пари, побежит за водой или вином. Вы же тем временем должны отыскать под собой на простыне пресловутый пузырь и тихонько выкинуть его под кровать или еще лучше в камин – ведь из-под кровати его можно забыть убрать, он там начнет гнить и испускать невыносимое зловоние, или горничная на него наткнется и начнет задаваться ненужными мыслями. Короче говоря, вы должны постараться избавиться от пузыря. Ну, и тут возвращается ваш супруг, к вам возвращаются чувства, вы можете немножко всплакнуть… А дальше все зависит от того мужчины, с которым вы отныне связаны судьбой. Если он вам приятен и пробуждает в вас нежность, намекните ему, что начало пришлось вам по вкусу и вы жаждете продолжения. Если он вам отвратителен, продолжайте стонать и охать и исполняйте свой супружеский долг с превеликой неохотой. Он примет это как должное, уверяю вас. А теперь – благословляю вас, девицы! Отныне ваша супружеская жизнь – в ваших руках!
Вот лихо, да? Даже лучше, чем в том старинном фабльо про веселую женушку, которая принимала любовника, а когда вернулся муж, любовник бежал, забыв штаны, и утром муж надел их сослепу, а потом спохватился и начал честить жену шлюхой. И тогда она кинулась к монаху-минориту и сговорилась с ним… Ой, просто с ума сойти! Я просто обожаю эти стихи!
- Красотка, хитрая лисица,
- Решила избежать бесчестья,
- Надеясь на уловки лести,
- И чтоб все было шито-крыто,
- Идет к монаху-минориту
- И говорит, сознавшись честно
- Во всем, что вам уже известно:
- «О помощи взываю я!» —
- «Но что могу я, дочь моя?» —
- «Мой муж вам верит. Потому
- Одно скажите вы ему,
- Когда, смущен догадкой в Мэне,
- Меня он обвинит в измене,
- Что, мол, штаны у вас я в долг
- Взяла, такой в том видя толк:
- Мол, поносив их, можно в ночь
- Зачать то ль сына, то ли дочь.
- Волшебны только ваши! Мне
- Так, мол, привиделось во сне.
- Моей уловки неужели
- Не осветят благие цели?!
- Впредь жить безгрешно поклялась я!»
- Ну, кто бы ей не дал согласья?!
- И обольщенный минорит
- «Согласен!» даме говорит.
Самое смешное, что ей удалось обдурить супруга!
- Затея удалась на славу:
- Любовник насладился впрок,
- И муж от истины далек;
- Ей был послушен минорит,
- Измена скрыта, страх забыт.
- Все получили по заслугам!
- Сумей-ка так вертеть супругом,
- Чтоб наставлять рога незримо
- И оставаться невредимой!
- Свои любовные дела
- Лиса устроить так могла!
Раньше дамочка из фабльо была для меня образцом хитрости. Но теперь я преклоняюсь перед мадам Ивонн.
Я запомнила от первого до последнего слова все, что говорила она о том, как нужно дурачить мужчин. И записываю ее слова, чтобы иногда возвращаться к ним и обретать бодрость и силу. Надеюсь также, что я почерпну от мадам и другие житейские премудрости. Мы ведь с ней теперь сообщницы. Правда она называет это иначе. «Мы теперь компаньонки, Николь! – говорит она. – Денежки золотым ручейком потекут в наши карманы, потому что ты восхитительно красива, молода и соблазнительна, а я восхитительно умна… Когда мне было столько лет, сколько тебе, я вовсю пользовалась дарами своей свежести и юности, ну а теперь у меня есть ты. Делить доходы пополам ведь справедливо, верно, Николь?» Я не спорила. Я ей безмерно благодарна. Какой приятный, какой чудесный способ выбраться из осточертевшей нищеты!
Я перечитала написанное… Если бы мой дневник попался кому-то в руки, тот человек мог бы решить: ну вот, еще одна бесприданница, давно утратившая невинность, нашла способ подцепить богатого и глупого старика, желающего взять в жены непременно девственницу. Вовсе не так! Я совершенно не желаю выходить замуж. Я хочу одной лишь свободы. Но свободу в нашем мире дают только деньги… Родители не позаботились о том, чтобы я имела их в достаточном количестве. Строго говоря, у меня вообще ничего нет, потому что отец мне ничего не дает. Хорошо сестре моей Клод – она уже замужем! Даже брату Себастьяну, которого отец упек в монастырь еще в детстве, и то лучше, чем мне, – там он живет на всем готовом. А мою сестру обеспечивает супруг. И только я вынуждена сама думать о себе. Значит, и раздобыть деньги должна я сама. Вот и раздобуду, причем самым приятным на свете способом.
Более того – я уже начала это делать! Я ведь прекрасно запомнила все ощущения, которые испытала, когда меня лишил невинности тот мужчина, который заплатил за меня огромные деньги. Да, мне было больно и страшно. Я стонала… А теперь я воскрешаю в себе ту боль и тот страх, когда испускаю наигранные стоны, теряя девственность вновь и вновь…
О боже, как мне смешно! Как мне весело! Как чудесно на душе!
Сейчас закончу писать дневник и пойду наконец куплю белые ажурные чулки и кружевное фишю[8]. Хватит ходить обдергайкой или носить платья, которые мне ссужала мадам. Пора позаботиться о своем собственном гардеробе.
Хм… Я еще раз пересчитала заработок только одного дня. Ну, судя по началу, скоро у меня будет не одна пара самых лучших ажурных чулок. А на смену фишю придут бриллианты!
Наше время. Все тот же день в начале августа, Москва
– Значит, ты его упустил…
– Да нет, понимаешь…
– Ты его упустил. Он заметил слежку, так?
– Ну да.
– А почему ты мне сразу не позвонил, не сообщил, что нашел его?
– Я его заметил только на станции «Аэропорт», уже некогда было названивать.
– Что-то говорит мне, что ты врешь.
– Да ладно, тоже мне… что-то ему говорит… Я его заметил уже перед тем, как он пошел к дверям. Ну и кинулся за ним, чтобы не упустить. А он заметил, конечно, что я ломанулся в двери как раз перед тем, как они закрылись, вот и рванулся, как пес гончий… А там же, в метро «Аэропорт», эскалатора нет, он меня просто опередил, у него фора по времени была. Но я его до последней минуты видел, как он в ту машину ввалился.
– Что? В какую машину?
– Не знаю в какую, в серый «мерс».
– Что, в первый попавшийся?
– H – не похоже… Он от метро бежал по тротуару именно к этой машине.
– Номер?
– Да не успел я номер разглядеть, «мерс» отъехал мгновенно!
– Значит, его машина ждала, так?
– Похоже на то.
– Пурга какая-то. Пургу гонишь, Стасюля! Если у него была машина, за каким чертом ему было ехать на метро?
– Ну, может, у него в той машине подельник…
– Ага, а ты думал, там кто? Представитель конкурирующей фирмы?
– Да ладно, не цепляйся к словам! Я говорю, в той машине подельник, который должен был подобрать его после того, как он обчистит терминал в метро, а он меня увидел – и решил ноги уносить.
– Возможно. Но возможен и другой вариант.
– Какой?
– Да такой. Ты случайно не обратил внимания, он в вагоне не говорил по мобильному?
– Да вроде не говорил… Во всяком случае, когда я его заметил, точно не говорил. И когда я за ним бежал, тоже не говорил… вроде бы… А ты на что намекаешь?
– Не догадываешься? На то, что он тебя заметил и вызвал машину, на которой мог от тебя наверняка смыться. А если он тебя заметил, значит, он тебя узнал.