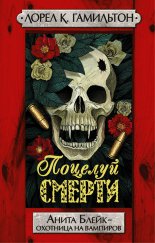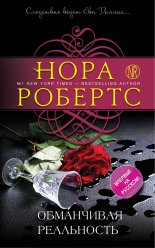Хроники Б-ска + понедельника Кофе

– Юра Хам, змей нявдобный! Чтоб на табе порча нашла! Ты увайдешь домой али нет?
Играющие затихали, но матч продолжался, Не добившись ответа, Богатырь Никитушка зло поворачивала домой, бросив перед уходом:
– Ну, ляди, туруруй! Приди только домой, я те патлы повыдираю, паралик на тебя!
Юру Хама называли хозяином садов и огородов, потому что не было ни одного двора в округе, где бы Хам не побывал, опустошив деревья или грядки. Основной одеждой его во все времена тогда были поношенные рейтузы старшей сестры. Рейтузы были набедренной повязкой, запазухой, кошельком, авоськой и даже рыбацким неводом. В этих рейтузах всегда находились яблоки, сухари, конфеты, огурцы, помидоры и прочие продукты. Юра Хам знал наизусть распорядок почти всех владельцев садов-огородов: когда и в какую смену работают хозяева, когда бабки ходят на рынок или в церковь, когда учатся дети.
Лазил он дерзко и наверняка, хотя случались проколы. Однажды Юра Хам спрятался в гастрономе за бочки и, дождавшись закрытия магазина, стал хозяйничать. Наевшись всего понемногу, он решил переспать за бочками. После полуночи начальник брянской милиции майор Гуркин, проверив все посты и заключенных в КПЗ, умиротворенный шествовал домой. У гастронома он встретил бодрствующего сторожа. Майор Гуркин оглядел объект:
– Лампочку надо б поярче ввернуть!
– Дык все видно.
Майор Гуркин заглянул в полутемный тамбур и остолбенел: на полу распластался человек в сатиновых рейтузах без признаков жизни. И майор говорят, стал свистеть в свисток, пока не потерял сознание. «Скорая» увезла обоих. Из Юры Хама в тот раз выкачали почти полведра меда, а майор Гуркин поседел в ту страшную ночь… Так, по крайней мере, рассказывали у нас в бараке.
Для голодных барачных лучшей порой было лето. Мы сосали цветы клевера и какие-то стебли, откапывали корни, жевали почки. На костре в овраге кипели крапивные щи с грачатиной. В дело шли еще не оперившиеся птенцы. Гермафродит Тонька-Антон лазила на самые высоченные тополя и сбрасывала вниз грачиные гнезда.
Тонька-Антон была угрюма и немногословна. В гимнастерке, в свалявшейся юбке над стоптанными сапогами, она держалась особняком, зверски курила и материлась. В отличие от живущего через несколько подъездов Коли-дурачка, вечно напомаженного и подкрашенного, Тонька-Антон была всегда нечесана и немыта.
С утра барачная ребятня собиралась в кучки и разрабатывала разнообразные планы: где и что можно украсть, стырить, стибрить, сбондить, увести, замылить, спиговать, вертануть. Тащили все – и что плохо лежит, и что хорошо охраняется. Особый урон наносили Огороднику Кузнецову. Огородник обеспечивал весь Б-ск рассадой и ранними овощами. Это был гигантского сложения старик, вечно под градусом, с красной индюшачьей шеей. Даже в морозы он ходил без головного убора и в расстегнутой до пупа толстовке. Что только не придумывал Огородник, чтобы уберечь свои парники от посягательств. Никакой забор не был препятствием, а собака через некоторое время становилась послушной Юре Хаму, который находил с ней общий язык, как цыган с лошадью.
Наконец Огородник решил сделать в одном из парников засаду. Юра Хам разведал эту хитрость и, подкравшись к задремавшему в парнике сторожу, забросил туда «дымовуху», предварительно сбив с рамы парника подпорку Через минуту из парника выскочил весь обезумевший Огородник и, круша по пути драгоценные парники, понесся к дому…
С ранней весны до поздней осени барачная ребятня не знала обуви, а Юра Хам умудрялся бегать босиком между подъездами или до сортира даже зимой. Ноги его были круглогодично покрыты цыпками, а на подошвах была такая толстая кожа, что Хам запросто втыкал в нее горящую спичку, и она сгорала на коже, не причиняя, похоже, ему особой боли.
Однажды по бараку разнесся слух, будто под полом поселились чьи-то кролики. Были да они там на самом деле, никто толком не знал, но слухи будоражили воображение: кто-то видел уже троих, кто-то даже десятерых кроликов.
Барак зажил тревожной и напряженной жизнью: изловить и сожрать чудесного кролика стало делом чести каждого жильца. Юра Хам и тут решил опередить конкурентов. Втихаря Хам вбил у крыльца кол с проволочной петлей. Утром ничего не подозревающая Богатырь Никитушка, как всегда, бежала в сортир. Попав в петлю, она вырвала ее вместе с колом и, пролетев ракетой десяток метров, рухнула на чей-то сарайчик.
Юра Хам сердцем почувствовал беду и, выглянув в окно, увидел выползающую из дров маму с тянущимся за ее ногой колом. Хам смылся вовремя, потому что Богатырь Никитушка жаждала мести. Еще с неделю она ходила по краю оврага, держась за ушибленную ягодицу, и призывала сына явить благоразумие и добровольно вернуться домой. В глубоких сумерках над бездной оврага гремел ее вулканический голос:
– Юра… Хам… Антонов огонь на табе! Приди только домой, бычачьи твои яйцы! Обезьян лопуухай! Ты думаешь домой идти аль нет?
Когда на крыльце Богатыря Никитушки, самом многолюдном и вместительном, разгорался очередной скандал, из комнаты вылезал заспанный Коля-дурачок, выходил в центр и скидывал портки. Скандал враз прекращался, и бабы, проклиная дурака, бросались врассыпную.
Коля-дурачок был старшим сыном Розы Цыганки. Была ли Роза на самом деле цыганкой и был ли Коля на самом деле дураком? Кто знает! Но Роза была похожа на цыганку, а Коля придуривался. Он развлекал публику песнями, танцами, прибаутками и разными пошлостями. До того, как приобщился к спиртному, был всеобщим любимцем.
Коля-дурачок неохотно общался с простолюдинами, зато изощрялся перед власть имущими и богатыми, понимая, где можно урвать кусок пожирнее. Он играл роль придворного шута. После войны Коля-дурачок развлекал в ресторанах офицеров, которые угощали и поили его.
Несмотря на то, что петь, плясать и паясничать ему приходилось, как говорится, по долгу службы, Коля был исключительно артистичен и музыкален. Музыка возбуждала его настолько, что он буквально преображался, начинал подергивать плечами и закатывать глаза. Он знал наизусть все транслируемые по радио песни, оперетты и арии из опер.
Когда на крыльце собиралось достаточно публики, Коля-дурачок давал представление. Особенно он любил «Сильву», где играл и пел одновременно за Эдвина, Сильву, Бонни и Воляпюк, умудряясь играть и за оркестр марши, увертюры и антракты.
Особенно возбуждали Колю-дурачка цыганские мелодии. Когда в городе гастролировали цыганские ансамбли, накрашенный и напомаженный Коля-дурачок с завитыми волосами, в бессменном кителе с украденной медалью «За отвагу» пробирался к самой рампе и пожирал глазами исполнителей. Иногда его артистическая душа не выдерживала, и он прыгал на сцену.
Однажды на летней эстраде городского парка культуры шел концерт ансамбля «московских и венгерских цыган». Несмотря на столь экзотическое название, ансамбль ничем бы не отличался от других, если бы не солистка – худющая двухметровая девица с невероятным именем Колумба Цветная и пронзительным голосом. В самый разгар таборного веселья из-за кулис появился разукрашенный Коля-дурачок. Глаза его остановились, он словно окостенел, завороженный происходящим на сцене. В следующий миг с криком «Сильва!» он подскочил к Колумбе и попытался поцеловать ей руку. Ансамбль «московских и венгерских цыган» пришел в замешательство. Колумба выдернула руку, но Коля-дурачок грохнулся на колени и, раскопав в куче юбок ногу Колумбы, припал к ней губами. Колумба с криками прыгала вокруг Коли на одной ноге – вторую он держал мертвой хваткой.
– Сильва, ты меня не любишь! – кричал он. – Сильва, ты меня погубишь!
Затем Коля бросил Колумбу и зашелся в чечетке, вращая глазами.
И только с опозданием появившийся на сцене майор Гуркин сумел прекратить это форменное безобразие.
– Я Баранела, я Чебурела! – кричал Коля-дурачок, покорно отдавая себя в руки начальника милиции.
А потом в третьем бараке произошло знаменательное событие: впервые за десять послевоенных лет игралась свадьба. Женился Коля-дурачок. Наряженный в синий костюм с цветком в петлице, он шел счастливый и обалдевший, держа под руку также нарядную и счастливую Лиду-дурочку, сосватанную ему в Теменичах. Молодые шествовали по Трудовой в окружении шаферов, сватов и друзей. Многочисленная толпа радостно гудела.
Наиболее удачливые попали за стол, остальные расположились на крыльце или просто под окнами. Самогон завезли родственники невесты, закуска была скудной. В комнате пахло жареным салом и картошкой. Кричали «горько» и пели про «молодого Хасбулата», на улицу страждущим сваты выносили кружки самогона и соленые огурчики. Мужики дымили махрой и мочились у крыльца. Бабы, отплясывая, голосили частушки.
Но уже утром Коля-дурачок, как обычно, забежал в кусты за сортиром и занялся «детским грехом». Неделю спустя Лида забрала пуховую подушку и ушла восвояси. На недоуменные вопросы баб она произнесла философскую фразу:
– Не такая уж я дура, чтоб с таким дураком жить!
Все вернулось на круги своя. Иначе и быть не могло: Коля-дурачок не должен был принадлежать никому – он принадлежал всему городу.
Когда намыли дамбы через Судки и стал ходить автобус, Коля забирался на сиденье кондуктора и объявлял остановки. Причем делал это с юмором и очень оригинально:
– Остановка Горбоедова!
– Остановка драмтеатр! Кому за водкой, 35-й гастроном напротив!
– Остановка чуть-чево (имелась в виду улица Тютчева).
Последние годы своей жизни Коля погрустнел. Умерла его мать. Он часто ходил нетрезвым и всем встречным рассказывал, как ее любил.
Кстати, у Коли-дурачка был конкурент Эдик-дурачок. Это был Колин антипод, хотя и носил такой же офицерский китель. Эдик был суров и не очень общителен. Друг друга они не любили и называли не иначе как дураками. Правда, территория города была негласно ими поделена. Если Коля-дурачок со временем сменил китель на гражданский пиджак с цветком в петлице, то Эдик до конца не изменил военному прошлому. На кителе Эдика с каждым годом появлялось все больше орденских колодок и гвардейских значков. Самыми радостными минутами были для него парады. Эдик пристраивался к увешанным наградами ветеранам и гордо вышагивал во главе колонны.
…Однажды холодной осенней ночью в последний троллейбус второго маршрута на остановке «Мясокомбинат» ввалился Эдик. Вид его был дик. Кроме промокших трусов и майки на нем ничего не было. Эдик опирался на березовый кол. В глазах горел огонь подвига.
– Эдик, что с тобой?
– С фосфоритного сбежал! Они меня, гады, решили в дурдом засадить! Меня! – Эдик ударил себя в грудь кулаком. – Да меня весь город знает! А врач там придурок приезжий и меня не знает!..
…И вот пронесся слух, что барак будут расселять. Слух оказался правдой. Когда расселили уже весь барак, в одной из комнат продолжало светиться окошко. Это Симутиха вела борьбу с властями за отдельную жилплощадь.
Жаркой июльской ночью барак занялся сразу с четырех углов. Трухлявые его стены факельно чадили, с крыши в разные стороны летела с гранатным треском черепица. Прибывшие, как всегда, с опозданием пожарные не столько тушили пожар, сколько следили, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Среди любопытных бегала Симутиха в наброшенном поверх ночной рубахи пальто и галошах.
– Надо же, я как с пожара: не оделась, не обулась, – говорила она отрешенно.
Часам к десяти утра третий барак перестал существовать. Сгорел он натурально дотла. Еще долго на этом месте не росла трава.
…Жизнь разметала детских товарищей моих. Исчез куда-то Юра Хам. Кто-то уехал, кто-то помер. Но когда встречаешь кого-то из старых друзей по бараку, после коротких приветствий обычно начинается: «А помнишь?..»
«Одесский» персонаж
Каждый входящий на рынок через центральный вход при всем желании не мог разминуться с растопырившейся прямо на проходе деревянной треногой. Над треногой, предупреждая возможные сомнения, красовалась рукописная табличка с категоричной надписью «ФОТОГРАФИЯ-ПЯТИМИНУТКА». Рядом на видавшей виды табуретке покачивался эмалированный тазик с косячком плавающей поверху готовой продукции. Хлопотал тут невысокий, худощавый, с блестящей золотом фиксой во рту хозяин «пятиминутки» Фимка Маковский. Вокруг треноги всегда кучковались клиенты, фарцовщики, мазурики и просто охочие до зрелища зеваки. Фимка не столько работал, сколько давал представление. Фимка как падишах восседал на табуретке. Время от времени, помешивая пожелтевшим от химикатов пальцем в тазике, он непринужденно зазывал клиентов: – Мальчики, девочки, граждане, дамочки! Делайте портреты на паспорта и анкеты, на пропуска и дипломы, в семейные альбомы…
С Великой Отечественной он вернулся с боевыми наградами, контузиями и потерянным глазом. Убедившись, что потеря не является помехой в работе, он продолжил семейный гешефт. Маковский числился частником и, естественно, вступал в невольное противостояние с генеральной линией государства. Не выдержал борьбы и прикрыл дело сшивший форменки всему командному составу гарнизона Аврущенко. Сошли с дистанции зубные техники сестры Рейдер, озолотившие челюсти каждому второму жителю города, включая партийный и советский аппараты. Зачехлив зингеровскую машинку, сдался на работу в ателье лучший городской закройщик Король… А Фимкина тренога с трудом, но держалась, как Брестская крепость. Однако в стране было объявлено о строительстве коммунизма, чей призрак, по утверждению классиков, не отводил частнику места под солнцем. Но пока Фимка еще священнодействовал у аппарата.
– Мальчик, мальчик, смотри сюда, в глазок. Сейчас птичка вылетит!
– А птичка где?
– Как где? Улетела!.. Ну а ты, милый, куда шнобелем крутишь? Куда я тебе говорил смотреть?
Мужчина неуверенно поджимал ноги под табуреткой:
– У дырку етту, откель птичка вылетит! Птичка уже вылетела, когда тут мальчик сидел. Больше птички нету!..
– А ты куда должна смотреть? – ласково вопрошал он оседлавшую табуретку бабенку.
– В глазок энтот вот! – уверенно отвечала та, нет-нет, да и зыркая глазами исподтишка в зажатое в руке зеркальце.
– Да не в глазок, а в глазки. Смотри в мои глазки! Убедившись, что клиентка смотрит на него во все глаза, он вдруг выгребал из глазницы свой стеклянный протез, держал его некоторое время двумя пальцами и… отправлял в рот. Клиентка в испуге выкатывала глаза.
– Ну вот, другое дело! – Фимка делал снимок. – Все, милая, готово. Слезай!
Клиентка продолжала сидеть, ухватившись руками за табуретку.
– Ну ладно. – Он доставал глаз изо рта и вставлял его на свое место, возвращая бабенку к жизни.
– Ой, ой, – крестилась та, сваливаясь с табуретки, – ой, страсти господни!
– Через пять минут, не забудь, я возвращаю ваш портрет! – кричал он вслед улепетывающей женщине. Место на табуретке занимал угрюмый гражданин. – Картуз снимите, милейший!
– Так сымай! Сымай так, говорю, я босый!
– Так я тебя не разуваться прошу. Может, ты лысый?
– Ну!
– Баранки гну! Снимай картуз, а то брат не узнает!
– Не, в картузе узнает. А то подумает, что меня замели!..
– Давай без фокусов, – усаживался на табуретку, как курица на гнездо, очень серьезный с виду мужик. Он стаскивал картуз, раскладывал аккуратно его на коленях и грациозно пятерней расчесывал свалявшиеся волосы.
– Готов? – вопрошал ставший тоже серьезным фотограф.
– Чичас гимнастерку заправлю и готов!
Фимка скрывался под накидкой:
– Да ты не дуйся, дядя. Сиди спокойно, как на допросе!
Тот принимал на мгновение расслабленную позу, но затем непроизвольно снова хмурил брови и набычивал шею. Фимка вылез из-под накидки:
– Ты кто, колхозник?
– А чо?
– А то, что с такой физиономией тебя за кулака примут. Раскулачат, а я виноват буду!
Пока тот соображал, как отреагировать на реплику, Фимка снимал колпачок с объектива.
– Слышь, ты, снимай. Хватит ляскать!
– Так снял уже!
– Не, я сурьезно говорю, снимай!
– И я серьезно говорю, снял уже. Все!
– Как все?
– Так, все! Погуляй чуток и приходи за фото! Мужик неуверенно покидал табуретку и, бурча под нос, отходил в сторону. Спустя время сфотографировавшиеся возвращались к треноге.
– Ну, готово?
– Быстрый какой! Ты ж только снялся!
– Как только, – мужик вытащил из брючного кармана часы на цепочке и поднес к глазам, – уже восемь минут прошло!
– Ух, ты быстрый какой. Быстро только кошки дерутся! Погуляй еще чуть-чуть.
– Эт сколь же чуть-чуть? – он снова смотрел на часы.
– А как проявится, закрепится…
– Так что ж получается, не пять минут?
– Ух, ты какой бухгалтер! Давай считать. Я тебя снял за одну минуту, так?
– Ну, так…
– Минута во сколько раз меньше пяти? В пять раз, так? – Ну! – Баранки гну! Значит, я тебя снял в пять раз быстрее. А на все остальное осталось четыре минуты!
– Ну!
– А раз снял в пять раз быстрее, имею полное право все остальное сделать в пять раз медленнее, для баланса. Вот теперь четыре минуты умножь на пять, умножил? Сколько получилось? Двадцать! Двадцать и одна – это двадцать одна минута! Иди, веди любого бухгалтера, пусть проверит расчет!
И мужик отходил в смятении.
– А чой-то у меня глаза мутные? – разглядывал фотокарточку другой.
– Пить меньше надо!
– Дык это я теперь выпимши, а когда фотографировался – ни в одном глазу!.. Слухай, ты мне яйцы не крути! Я три раза на хронте контуженный! На хрена мне такая фотокарточка? Я счас этот твой гребаный миномет к хреновой матери разнесу!
– Ну, дорогой мой, чем тебе глаза не нравятся – нормальные глаза! Ну, посмотрите, – он совал фото окружающим, – глаза как глаза!
Все признавали его правоту. Клиент успокаивался и забирал фотокарточку.
– Ты, может, меня потом всю жизнь благодарить будешь, – говорил Фимка, дружески обнимая клиента. – Может, это твоя последняя фотография в жизни!
– Эт чегой-то? – настораживался клиент. – Всякое может случиться: или аппарат сломается, или я помру, или тебя посадят!
У тазика стоял и копался в растворе пальцем лысый в картузе:
– Дык нет меня тута!
– Есть, куда же ты денешься? Лучше гляди!
– А чо глядеть, тут бабы одни!
Фимка подошел к тазику:
– Ну как бабы, а это что, не ты?
– Вроде не…
– Как не? Пиджак твой? Твой! Рубаха твоя?
– Вроде моя…
– А говорил, одни бабы, – бурчал фотограф, вылавливая фотографию и стряхивая с нее воду. Он мгновенно стащил с головы мужика картуз и припечатал фотокарточку к лысине. Затем нахлобучил сверху картуз.
– Не трогай, – напутствовал он клиента, – отглянцуется, сама отскочит!
Тот нерешительно делал несколько шагов в сторону от треноги, с сомнением щупая через материю прилипшее к черепу фото.
– Эт чо ты мне такую морду наворотил? – удивлялся следующий.
– Я ж тебе говорил, не дуйся! – улыбался Фимка.
– Да я вроде и не дулся…
– Вроде Володи. Выходит, это я за тебя дулся?
– Мужики, – искал сочувствия тот у окружающих, – да у меня сроду такой морды не было! Чо я, в зеркало не глядюсь?
Он взял ручное зеркальце и очень внимательно стал изучать свою физиономию.
– Не моя это морда! – категорично заявлял клиент. – На хрен мне эта твоя фотография!
– Не твоя?
– Нет, не моя!
Фимка было хотел и дальше убеждать строптивца, но вдруг глаз его загорелся огнем первооткрывателя.
– Эй, мужик, стой! Вот ты, лысый, иди сюда! Снимай картуз, покажи фотокарточку! Ну вот, – удовлетворенно говорил фотограф, передавая карточку хозяину, – схватил случайно чужую карточку. Извини, друг!
– Ну, энто другое дело! – говорил тот удовлетворенно. – А как жа ж я? – растерянно разводил руками лысый.
– Что ты переживаешь, там их полный тазик плавает, найдем и тебя. А не найдем, так сфотографируем еще хоть десять раз!
…Время шло. Маковский еще не терял оптимизма и по-прежнему заказывал в ресторане «Роземунду», но его обкладывали все упорней. Финалом стали статьи в газете и стенд в скверике Карла Маркса, где последнего частника выводили халтурщиком и пережитком прошлого. Вдобавок ко всему ему пришили дело по спекуляции.
В последнем слове на суде Фимка произнес знаменитый монолог «А судьи кто?!» Это привело к смятению в стане судей и народных заседателей. Одни удивлялись тому, что Маковский написал такие талантливые стихи, другие доказывали, что он украл их у Грибоедова. Рассказывали, что в колонии он руководил самодеятельностью. Начальство упорно не хотело с ним расставаться… Так или иначе, в один прекрасный день Фимка вышел на волю, но фотографией больше не занимался. Однажды на площади Ленина появилась телега, на которой как ни в чем не бывало восседал, натягивая вожжи, Фимка Маковский. И телега, и кобыла с заплетенной в косички гривой принадлежали славной артели «Искра». Сам возница числился в штатном расписании агентом по сбору вторичного сырья.
…А где, как вы думаете, мог жить Фимка Маковский? Конечно же, только в самом центре города, на площади Ленина. На том месте, где теперь торчит десятиэтажная коробка здания городской администрации, стоял особнячок горисполкома (бывший дом купцов Могилевцевых). Рядом притулился одноэтажный деревянный домик, в котором кроме семьи Маковских проживали еще и легендарные братья Кузерины, с чьими именами связаны яркие страницы послевоенного городского футбола.
Так вот после вступления в артель «Искра» Фимке снова пришлось вступить в противостояние с властями за право проезда на телеге через площадь Ленина к собственной квартире.
У ЦУМа был поставлен регулировщик с белым жезлом и в белых перчатках. Удивительно, но именно этот регулировщик вызывал весьма странную реакцию у лошади Маковского: подлая наловчилась справлять физиологическую нужду прямо перед стражем порядка.
Регулировщик подал рапорт на имя командира отделения. Командир отделения – командиру отряда, тот – начальнику ГАИ, начальник – председателю райисполкома, а уж тот, соответственно, председателю горисполкома. Кончилось тем, что на перекрестке торжественно установили знак, запрещающий въезд на площадь гужевому транспорту.
И тогда Маковский навесил на телегу подфарник. Возница упорно доказывал, что не нарушает ПДД и что телега, оборудованная электрооборудованием, уже не телега, а относится по всесоюзному классификатору к классу автомобилей мощностью двигателя в одну лошадиную силу.
В офицерской столовой стояли обеденная толкотня и гул. Очередь росла и роилась. К дверям столовой подкатила телега. Фимка деловито укрыл спину кобылы пледом от насекомых и поспешил к кассе. Вы замечали, отчего люди начинают спешить? Они начинают спешить, когда обзаводятся транспортом. Фимка приехал на телеге и уже поэтому торопился. Но ни его авторитет, ни знакомые официантки, ни ссылки на нехватку времени, ни шуточки-прибауточки не могли поколебать очередь. Дежурный офицер неуважительно оттащил его от кассы. Фимка, не говоря ни слова, подвел офицера к окну и королевским жестом откинул занавеску. Стоящая за окном кобыла бросила жевать сено, просунула голову в окно и, задрожав верхней губой и страшно оскалив желтые зубы, заржала на офицера.
– Мы мирные люди – продекламировал Фимка, – но наш бронепоезд стоит на запасном пути!
И под одобрительный шум проследовал к кассе.
– Может, я что-то не понимаю, – делился своими сомнениями Фимка, – или среди вас есть умный человек? Вы мне можете объяснить, что такое врач?
– Так вы не знаете? Тогда слушайте меня! Врач – первый человек в городе! Так вот мой сын, чтоб он так жил, получил три образования: начальное, среднее и высшее. Он кончил медицинский институт. Так я думал, он теперь обеспеченный человек! А сколько, вы думаете, ему положили? Ему положили сто рублей в месяц! Так для этого, я спрашиваю вас, надо было учиться 15 лет? Слава Богу, что у него есть папа, и, слава Богу, что папа еще зарабатывает копейку!
…Все проходит. Все меняется. Теперешние рынки мало чем напоминают тот, на котором стояла его тренога, и улицы Б-ска совсем не те, по которым пылила его телега. «Нашел о чем писать, – сказал мне один очень серьезный товарищ. – Мало ли в городе было интересных людей! Их именами названы улицы, о них рассказывают музейные стенды и памятные доски, они строили, творили, писали, открывали… Да тут только копни!»
Он, конечно, прав, этот серьезный товарищ. Наверное, даже наверняка среди них были интересные люди. Но они сидели в кабинетах, залах заседаний или в творческих мастерских, и мне с ними общаться не доводилось. Зато я прожил жизнь бок о бок с теми, без которых вряд ли в полной мере можно составить полное представление о нашем городе. Вот о них я знаю. О них и рассказываю…
Уллуна
Город жался к реке. Когда на единственной, проложенной вдоль правого берега Десны, улице не стало хватать места, строения, торопливо расталкивая друг друга, полезли на горки, отгораживаясь разномастными и разнокалиберными заборами и палисадниками. Совсем недавно по городу прокатилась война, о чем напоминали многочисленные смотрящие черными глазницами окон развалины и преобладающий защитный цвет одежды несношенных еще после демобилизации гимнастерок и шинелей. На самой макушке Ленинской» улицы, где ее пересекала улица Луначарского, стояли два двухэтажных, еще дореволюционной постройки дома с кирпичными первыми этажами и бревенчатыми вторыми. Дома объединяла в общий ансамбль массивная кирпичная арка. Арка вела в затененный двор, ограниченный по всему периметру приземистыми кирпичными строениями, служившими, видимо, ранее амбарами и конюшнями, а теперь приспособленными под жилье. До революции дома принадлежали то ли купцам, то ли приказчикам, а теперь их населяла пестрая армия жактовских квартиросъемщиков.
Один из них, жестянщик и отличник промкооперации Лазарь Рабинович, принялся как-то за общественно полезное дело – изготовление нового номерного знака. Старый насквозь проржавел и скособочился, отчего Лазаря никак не мог отыскать объявившийся родственник из Жмеринки. К тому же старый номерной знак вызывал неудовольствие участкового милиционера Полтора Ивана. Лазарь Рабинович подошел к делу основательно и ответственно: смастерил из оцинкованной жести рамку, вставил в нее стекло и, обставившись кистями, растворителями и красками, приступил к написанию текста.
Лазарь Рабинович носил галифе с вечно болтающимися штрипками и гимнастерку с медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», орден Красной Звезды и значок «Отличник промкооперации». Орденом Красной Звезды награждали за серьезные ранения. Лазарь получил на фронте контузию, был инвалидом войны, а потому и работал в артели инвалидов жестянщиком, где и был награжден за ударный труд значком «Отличник промкооперации». Лазарь очень гордился значком. Еще бы! Если ордена и медали были почти у всех фронтовиков, то такого значка не было больше ни у кого, даже у маршала Буденного. Вокруг скамьи, облюбованной им под творческую мастерскую, толкались любопытные. Мишка Милорадов, грузчик железнодорожной станции, отгреб несколько в сторону и долго, внимательно смотрел нефокусирующимся взглядом на Лазареву работу.
– На морду Рабинович, а в натуре Левитан! – констатировал Мишка, удивляясь, как Лазарь умудряется писать буквы на обратной стороне стекла и в зеркальном изображении.
Рамку оставили сохнуть до утра под застрехой. Утром Лазарь Рабинович, жестянщик и отличник промкооперации, поспешил во двор к своему творению. В прозрачной синеве зарождающегося утра кружились пушинки. Сонька Кац на веранде второго этажа потрошила курочку. Пушинки, как магнитом, притягивало к крашеной рамке. Увидев подобное безобразие, Лазарь Рабинович задохнулся от возмущения и выразил в сторону Сонькиной веранды свое категорическое «фе!». Сонька выглянула наружу и, увидев Лазаря, завелась с пол-оборота. Сонька всегда находилась в страшно возбужденном состоянии, с ней старались не вступать в пререкания и «за глаза» называли «мишугенэ». С Лазарем Рабиновичем у нее была родовая вражда. То ли его прадед охмурил ее бабку, то ли наоборот, толком уже никто не помнил, но они враждовали семьями, как Монтекки и Капулетти.
Лазарь Рабинович, жестянщик и отличник промкооперации, пытался снять пух со стекла и матерно выражался.
– Об чем увесь этот шум, детка? – выползла во двор подслеповатая тетя Песя Курцер.
– Да вот, – как можно вежливее объяснил Лазарь, поднося к ее глазам рамку, – опять эта «мишугенэ» весь двор своими перьями забросала!
Сонька взвыла наверху, как раненая волчица, и на еврейском языке призвала Всевышнего ниспослать на голову супостата пару простых и пару гнойных фурункулов.
Жестянщик и отличник промкооперации, естественно, такого спустить не мог и уже на русском, для большей убедительности, отпарировал трехэтажным матом, так как тот еврейский, кроме этих пресловутых фурункулов да еще лихорадки и повышенной температуры, не располагал более весомыми аргументами. Из квартир на территорию двора стали выползать заспанные квартиросъемщики. Дело в том, что мирная жизнь протекала внутри квартир, тогда как скандалы выплескивались на всеобщее обозрение.
– Шо, опять скандал? – выскочил во двор в шароварах и белых тапочках подполковник Захаров, служивший где-то в органах и совершавший по утрам пробежки и гимнастические упражнения.
– Да вот опять Сонька, – пожаловался ему жестянщик и отличник промкооперации, – на голову всякую дрянь сыпет!
Подполковник Захаров безучастно посмотрел на веранду и побежал трусцой со двора.
– Где вы видите голову? – неслось с веранды. – Если это голова, то что такое у Ароновой кобылы жопа?
– Что, где кобыла? – протирал со сна глаза Арон, агент по сбору утильсырья артели «Искра» – Я ж ее сам вчера распряг и в станок поставил!
– Соня, – как можно убедительней обратилась к веранде тетя Песя, – Соня, как Вы так можете ругаться? Вы уже с утра поставили на ноги весь город!
– Покажите мине город, – бушевала Сонька. – Она называет городом каких-то 50 тысяч недоделков!
– Бешеный баб! Ну, сапсем бешеный баб! – с опаской поглядывая на веранду, констатировал. Зенатулла Шамсияров. – На цэп сажат нада!
Какой национальности был Зенатулла, ведал, пожалуй, только участковый Полтора Ивана, а все остальные знали, что он «нацмен» и присматривает в колонии за овчарками. То, что профессия его именовалась «кинолог», не ведал никто, включая самого Шамсияра. Все считали, что он «собаковод».
– А этого собаковода кто здесь звал? – заорала Сонька дурным голосом. – Это тебе не с собаками гавкать!
Шамсияр поспешно ретиро вался со двора.
– Соня, – прикрыв глаза от солнца ладошкой, заговорил с верандой неистребимый юморист, фотограф Фимка Маковский, – Соня, это Вы повесили на веранде сушить бюстгальтер? – Сонька на минуту умолкла и выглянула наружу.
– Вы, да, – продолжил Фимка, – так идите и сгоните детей! Они думают, что это гамак, и катаются в нем парами!
– Свои, снюхайтесь! – пытался утихомирить скандалящих Васька Астахов, кузнец с «Арсенала». – Говорят, евреи дружный народ, а эти, как собаки!
– Шо за шум, а драки нету! – перед Лазарем появился еще не совсем отрезвевший ото сна Мишка Милорадов.
– Да вот, Миш, – жаловался ему Лазарь Рабинович, снимая с лысины пушинки.
– Да черт с ней, с головой! – рыгнул Мишка, – А за такую вещь, – он указал крючковатым пальцем на рамку номерного знака, – за такую вещь я пасть порву – дело обчественное! – Мишка явно придавал случившемуся политическое значение.
Сонька быстро смекнула, что противостояние такому оппоненту, как Мишка, да еще с такой трактовкой, чревато и захлопнула створки. Двор опустел, а на том месте, где только что толкались квартиросъемщики, делал приседания подполковник Захаров. Удрученный Лазарь Рабинович осторожно обирал со стекла пушинки. Когда день спустя он прибил новую вывеску, равнодушных не было. Вывеска стала всеобщей гордостью жильцов. На утренней и вечерней зорьках она отсвечивала рубиновыми бликами. Все, кто мог читать, раз за разом останавливались и по слогам произносили выведенные там слова: «Ул. Луначарского 57». Даже Сонька, бросив попервости пару ехидных замечаний, в душе осталась довольна Лазаревым творением. Особый же восторг новый номерной знак вызвал у Полтора Ивана, который водил, как на экскурсию, домовладельцев даже с других улиц и, показывая на вывеску, не находил слов:
– Ить ёксель-моксель здорово живешь! А ить того-етого, надоть додуматься! Ведь ежели оно кажный тым-той в сознательность вошел, так оно, я думаю, фактически так-то вот… и кругом порядок.
Вывеска гордо провисела до весны, пока отвалившийся вместе с наледью кусок карниза не выбил в ней брешь посередине, оставив непонятное Луна 57». Гораздый на выдумки фотограф Фимка Маковский стёр точку после «Ул» и назвал дом «Уллуной», а жильцов соответственно «уллуновцами».
Сады нашего детства
Б-ск был всегда яблоневым краем. Москвичи, уральцы, северяне ехали сюда специально за яблоками.
Как бы вознаграждая хозяев, сады выплеснули после войны всё своё великолепие. Каждую весну послевоенный деревянный город заливало по самые крыши вишнево-яблоневым цветом. Красно-сиреневые яблоневые и белоснежные вишнево-сливовые языки пламени полыхали по оврагам и улицам, заполняя ароматом воздух и засыпая цветом землю вокруг.
Кто был тот безвестный садовод, заполнивший местные сады таким разнообразием сортов яблок и груш? Теперь многие и слыхом не слыхали о таких яблоках, как титовка, лимоновка, карабковка, ранет, золотой налив, антоновка-полуторафунтовка, цыганочка, штрифель, репка, райка, малиновка, апорт, китайка. А какие груши висели в садах: дули, бере зимняя, бессемянка! И куда только всё подевалось, почему перевелось? Госпитомникам нужен только план и быстрые в росте сорта. Все начали гнаться за долго сохраняющимися яблоками. Потому и стали редкостью сорта яблок нашего детства.
Из сегодняшнего дня почему-то кажется, что и урожаи яблок были тогда каждый год. То ли климат потом изменился? То ли земля устала?
Помню, как приходилось лазить на вишневые деревья мальчишкам (ветки не выдерживали взрослых) и вёдрами собирать вишни. Теперь в нашем в саду во много раз больше вишневых деревьев, чем в саду деда, да вишня «не та».
Сады были общей заботой не только владельцев, но и мальчишек на улице. Мальчишки всегда хотят есть, а яблоки в садах были самой доступной, хотя и небезопасной, добычей. Любой высоты заборы с колючей проволокой поверху, цепные собаки и даже двустволки, заряженные солью, были нипочём послевоенным мальчишкам.
Обычно налёту на сад предшествовала разведка. Много, правда, яблок не брали, не ломали стволов – брали только, чтобы наесться. А в своё оправдание говорили такую присказку: «Из большого взять немножко – не воровство, а дележка». Притом рвали не у всех подряд, а старались у более богатых или вредных. Жадных на улице презирали.
Улица была самой лучшей коллективной воспитательницей. Не могу согласиться с теми, кто считает, что улица, компания сверстников портят детей. Может быть, в современных условиях – да! Но послевоенные улицы с домами частного сектора, где прожило не одно поколение и все знали друг друга от мала до велика – вряд ли. Улица сохраняла традиции и быт, атмосферу добрососедства и взаимопомощи, уважения к старшим и заботу о младших.
Ну, разве можно было на нашей улице оскорбить старика и нагрубить женщине, чтобы это прошло незаметно и не дошло до родителей?
Улица вставала на защиту слабых. После прочтения гайдаровского «Тимура и его команды» и просмотра одноименного фильма симпатии наши, несмотря на все старания авторов, были всё же не на стороне Тимура, а Мишки Квакина. Дело в том, что за Тимура были все очень хорошие пионеры и военные, и профессора, и весь пузатенько-богатенький дачный люд. Но главное, их было много. А у Квакина с Фигурой почти никого не было, а это было, с нашей точки зрения, несправедливо. Мы становились на сторону слабых.
О своих уличных друзьях-единомышленниках с уважением и гордостью говорили: «Этот пацан с наших огородов». Лето было любимым временем года. После полуголодной зимы все – и птицы и животные, и пацаны – «паслись на травке». Теперь даже трудно припомнить, какие только травы и коренья не отправлялись в рот. Однако самым любимым блюдом были сваренные на костре щи из щавеля и крапивы.
Компания устраивала где-нибудь в овраге шалаш или блиндажи, натаскивались из дому продукты, а затем уже готовился общий стол. Самым лучшим был десерт из плодов близлежащих садов. Целыми днями мальчишки были заняты делом: на них лежали обязанности по дому, по уходу за скотиной, огородом, но всё свободное время было отдано играм.
Мои ровесники росли на природе. Ну, разве проблемой было тогда отличить ворону от грача, чижа от чечётки? Недавно я провел эксперимент: стал спрашивать у прохожих, указывая на усевшуюся стайку свиристелей: что за птица? За полчаса услышал: «воробьи», «скворцы», «вороны»…
А тогда никто еще не ведал о грядущих экологических катастрофах, озоновых дырах, парниковом эффекте, урбанизации, радиации, нуклеидах и пестицидах. Может, оттого и сады родили, и птицы пели?
Мы знали, что яблоки портят червяки, и потому ставили скворечники. Птицы сами наводили порядок, да и пели вдобавок.
Судки были настоящим зоопарком в черте города. Земля, вода и воздух там кишмя кишели всякой живностью. В водах стайками носились вьюны, пескари, мальки рыбешек, заплывавших сюда нереститься из Десны. Вода рябила от невероятного числа разного вида головастиков, а по поверхности сновали водомерки, стрекозы разных размеров и расцветок. Воздух гудел от невообразимого количества мух, комаров, жуков, стрекоз, бабочек, пчел, оводов, ос, а выше, в небе, стаями носились стрижи и ласточки. На утренних и вечерних зорях овраги наполнялись трелями соловьев, малиновок, овсянок, щеглов и чижей, которые гнездились тут же в кустарнике и на деревьях.
Как только с наступлением сумерек замолкал птичий концерт, вступал хор лягушек, старавшихся перекричать друг друга. Из-под ног в разные стороны рассыпались разноцветные и разнокалиберные кузнечики, ящерицы, ужи, ежи. Иногда можно было встретить и белку, лису, зайца.
В пещерах водились летучие мыши, которые бесшумными привидениями носились при лунном свете. А по краям оврагов, обрамляя их чудесным ожерельем, бушевали сады. И все это было не где-нибудь, а в двух шагах от центра.
Какими мы были наивными, полагая, что все это великолепие вечно. Не подозревали, что через каких-нибудь полвека от всего этого останутся одни воспоминания.
Да, мы все хотели жить лучше, строить заводы, асфальтировать улицы, возводить многоэтажки, развивать транспорт, не ведая, что вместе с этим вольно или невольно нанесем непоправимый урон природе.
Как чеховский вишневый сад, б-ские сады поглотил и растоптал наступивший на них каменный город. Но вот, обезумев от жизни в загазованных каменных джунглях, люди стали прозревать. За последние лет пять вокруг города вырос огромный дачный сад. Посажено великое множество фруктовых деревьев.
Пройдет, надеюсь, с десяток лет, и эти яблоневые сады станут похожими на сады нашего детства.
Школа нашего детства
Фронт проходил где-то в нескольких сотнях километров от Б-ска, небо содрогалось от рева фашистских бомбардировщиков и разрывов зенитных снарядов, еще не отчадили головешки на городских пожарищах, а мы уже потянулись к школе.
Господи, на кого были похожи школьники нашего детства, во что только ни были одеты и обуты! Тут и шитые-перешитые из родительских довоенных одежд рубашки и пиджаки. А солдатские гимнастерки, изготовленные из парашютного шелка матроски? На головах – пилотки, буденовки, солдатские ушанки. На ногах – всевозможные тапочки, а то и просто галоши поверх шерстяных носков и не по размеру большие сапоги. Зимой надевались бурки – матерчатые на вате валенки с кожаными пятками. На бурки – «армяшки», склеенные из автомобильных камер галоши. Мало у кого были портфели или ранцы.