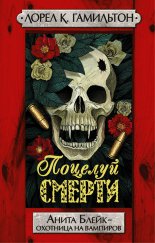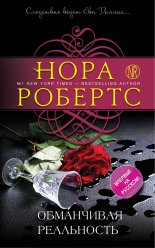Хроники Б-ска + понедельника Кофе

Большинство тащило учебники в матерчатых мешочках, планшетках, а то и просто за пазухой. Каждый первоклассник таскал сшитую из материи «кассу» с карманчиками, в которые был вложены картонные квадратики с написанными буквами.
В матерчатых кисетах болтались на шнурках чернильницы «непроливашки», наполненные фиолетовыми чернилами. Зимой чернила замерзали, и их отогревали дыханием.
Каждый ученик экипировался круглым пеналом с деревянными ручками, карандашами и набором разнокалиберных перьев. Учебники ценились на вес золота. Их было всего по нескольку штук на весь класс. Помню, букварь начинался словами «Рабы не мы, мы не рабы». Возраст первоклассников колебался от 8 до 10 лет. С нами учился сын полка, которому было уже двенадцать, а он был неграмотным: война.
Наши школы в основном были разрушены. Первые годы мы учились в приспособленных для этих целей подвальных помещениях технологического института. Там находилась мужская школа, а в здании бывшего горисполкома (доме купца Могилевцева), находившемся на месте теперешнего здания горсовета, женская школа.
Во время большой перемены младшеклассникам давали кусочек хлеба с ложкой сахарного песка. Вокруг хлеба с песком существовало множество азартных игр. Тем, кто послабее, хлеба могло и не доставаться
В классах, расположенных в подвале, топились печки-буржуйки, куда нередко вместе с дровами подбрасывались патроны, и они взрывались. Подрывников обычно не находили, а во время ремонта ребята естественно, не учились.
Чуть позже, году в 1946-м, открылись школы №4 и №2 на улице Фокина. Школа №4 была мужская, №2 – женская, хотя и располагались они в одном здании. Обучение было раздельное, и двор тоже разделили высоким забором.
Перед занятиями устраивались пионерские линейки с рапортами, салютами и барабанным боем, чем-то напоминавшие утренний развод на воинском плацу. Помню первого директора 4-й школы Степана Ивановича Бондаренко. Все почему-то боялись его как огня. При его появлении моментально прекращались драки, всякие, особенно азартные, игры и даже игра «в жостку» – повальное увлечение мальчишек тех лет. «Жостка» – это небольшой кусочек меха с прикрепленным к нему кусочком свинца. Мех обеспечивал плавность полета. Особенно ценились жостки из козьего или кроличьего меха. Жостку набивали (подбрасывали) внутренней стороной стопы. Были мастаки, умудрявшиеся набивать по 150 – 200 раз.
Ребята тех лет росли в суровом быту: синяки, ушибы и разбитые носы были обычным делом. Почему-то особый страх нагоняли уколы. Уколы и прививки делались во множестве, особенно свирепствовала тогда малярия. Пацаны под всякими благовидными предлогами избегали этих уколов, удирая из классов по пожарным лестницам, с шиком спускаясь из окон на веревках.
Еще одну унизительную с точки зрения уличного достоинства процедуру не выносили пацаны – медицинские осмотры, на которых проверяли вшивость, чистоту рук, ног, ушей. Особо одичавшим стригли ногти и прочищали уши прямо в классе.
Драки были обычным делом на школьных переменах. В них пацаны выясняли (до первой крови) свой статус-кво в ребячьей иерархии.
Снарядов, патронов и прочих атрибутов военного времени было множество, и ребята нет-нет, да и получали раны и увечья, утоляя свое любопытство к этим опасным игрушкам.
Модное и опасное увлечение – разрядка снарядов, патронов. Из свинца в глиняных формах отливались ордена и медали, пользовавшиеся большим авторитетом в ребячьем кругу. Из гильз и разных малого диаметра трубочек изготавливались так называемые «поджигала» и прочие стреляющие «игрушки», набиваемые порохом и серой от спичек. Особой любовью пользовались «дымовки» или «дымовухи».
Где-то в 1951 году была построена новая, первая послевоенная школа в Советском районе на улице Луначарского – школа №14. Теперь это школа №5. Она была не только первой новой брянской школой, но и первой смешанной школой, где в виде эксперимента начали совместное обучение девочек и мальчиков…
До 1951 года обучение в школах было раздельным. Хотя учились мы по одним и тем же учебникам, у одних и тех же учителей. Наконец что-то, видно, сдвинулось и в «верхах». В Брянске открыли первую смешанную школу №14 (теперь №5).
Контингент учеников был весьма оригинальным. Директора спихнули в новую школу всех своих оболтусов. Более того, из старшеклассников было не так-то просто сформировать классы, потому что в женских школах изучали французский, а в мужских – немецкий языки. В нашем классе было всего четыре девочки, да и то приезжие, в другом – наоборот.
Директором школы назначили И. Селищева. Селищев запомнился тем, что вылавливал по оврагам прогульщиков и устраивал в туалетах засады на курильщиков. Через год для укрепления школы из гороно была направлена директором Клавдия Ивановна Пушнова. Пушнова круто взялась за наше перевоспитание. Мы за глаза дали ей прозвище Кабаниха в честь известной героини пьесы Островского. Одним из ее излюбленных методов воспитания были приводы 9—10-классников на уроки в начальные классы. Верзилу ставили в угол на весь урок.
– Смотрите, дети, – обращалась к ним директор, указывая на провинившегося. – Смотрите внимательно и запомните: вот из этого молодого человека не получится Олег Кошевой, Ульяна Громовая, Зоя Космодемьянская!
Дети строили рожи. Для усиления борьбы с прогульщиками и нарушителями дисциплины был введен журнал поведения, из которого в конце каждой недели все прегрешения выписывались и рассылались домой родителям. Какими только ухищрениями не занимались ученики, чтобы ненавистный журнал исчез к субботе! Особая роль по его изъятию отводилась девчонкам, которые сидели ближе к столу учителя. Похищенный журнал уничтожался торжественно всем классом.
Затем, когда мы вступили в комсомол, вопросами дисциплины занялись вместе с учителями комсомольские активисты. Помню, как в нашей школе проходил прием в ВЛКСМ. Весь класс под диктовку написал заявление и строем отправился в райком. Где-то через час они вернулись назад, одаренные членскими книжками. Из всего класса лишь двое избежали посвящения (в том числе и я), отсутствовавшие по болезни во время подачи заявления.
После образования в школе комсомольской организации (а о силе партийной можно судить по тому, что школьный парторг В. Стельмах затем стала многолетним первым секретарем Советского райкома) школу захлестнули комсомольские собрания-разборки. Главной темой был, как вы сами догадываетесь, «моральный облик комсомольца».
В то время школьники о спиртном и понятия не имели, курили редкие экземпляры, да и то нерегулярно. Помнится, лет в 17 скинулись мы, человек пять, и купили за рубль восемьдесят кубинскую сигару – хотели узнать, какое удовольствие получает от этого «дядя Сэм». Пошли в овраг, сняли упаковку и раскурили на пятерых… Некоторых тут же вырвало, другим стало дурно. Так что на собраниях стоял в основном вопрос «О любви и дружбе». Ни о какой любви в стенах школы у комсомольцев, конечно, не могло быть и речи. Любовь – это для взрослых, для юношей и девушек только дружба, комсомольская дружба!
Попавшиеся на изъявлении своих чувств подвергались обструкции. Преследовался маникюр, завивки или накрашенные губы. За подобные «развратные» дела можно было запросто получить строгий выговор, а то и вылететь из рядов ВЛКСМ. Еще большим грехом было посещение танцев в Доме офицеров (особенно девчонками) и посещение вечерних сеансов в кинотеатрах. Где-то с 1953 года в школе стали проводить вечера. Но ребята танцевать не умели, стеснялись, стояли у стенок и смотрели, как вальсируют девчонки.
Особенно любимым, несмотря на крутой характер, был Николай Александрович Фролов – учитель немецкого языка. Высокий красивый блондин арийского типа, в зеленом офицерском кителе. Когда он нервничал, щеку подергивал нервный тик. Любимым выражением Дойча, как мы его называли, была фраза:
– Я подойду! Я буду ждать, но я подойду!
И если уж он подходил, нерадивец мог вылететь из-за парты вместе с крышкой и получить вдогонку по горбу портфелем. Мы его не столько боялись, сколько уважали и принимали наказание как должное. Дойч не признавал авторитетов и не шел ни на какие компромиссы. Помню, как он категорично ответил пришедшей «качать права» жене главврача обкомовской поликлиники Николаевой:
– Да пусть ваш муж хоть десять шляп одну на одну наденет, я вашего Ивана из девятого класса не выпущу!
И ведь не выпустил, несмотря на давление «сверху»! На пенсии Дойч пошел на производство – мастером в домоуправление и при встрече делился:
– Да если бы я знал, что на производстве так хорошо работать, давно бы бросил эту школу! Ты не представляешь, какие теперь ученики. Вы были просто золотыми: дашь кому подзатыльник – и весь конфликт исчерпан.
Он и сейчас еще помнит первых своих учеников поименно, интересуется их судьбой.
Математику преподавал Александр Николаевич Щеглов, ходивший в черном кителе и таких же брюках-галифе, заправленных в хромовые сапоги с галошами. Он был полноват и имел прозвище Самовар. Говорили, что на фронте Самовар был разведчиком. Во всяком случае навыки, приобретенные им в разведке, помогали ему, когда он по бумажной пульке находил, из чьей тетради она была сделана, и разоблачал незадачливого стрелка. Иногда, устав от нашего нежелания вникать в премудрости алгебры и геометрии, он задумчиво говорил:
– Сосновский, я вижу твое будущее! Я вижу тебя сидящим на бочке ассенизатором!
– Павлов, тебе о жилье заботиться не придется. На тебя уже за стадионом место заготовлено!
Он имел в виду тюремную камеру. Ни одно из его пророчеств не сбылось. Самовар был очень богат по тем временам: у него имелся мотоцикл, чуть ли не единственный во всем городе. Впрочем, тогда из трех наших классов часы были у двух-трех человек.
Русский язык вела у нас М. Юршева по прозвищу Вура. Русский был нашей ахиллесовой пятой, несмотря на все старания Вуры. Она была влюблена в словесность и часто тянулась за валидолом, не выдерживая нашего варварского языка…
Праздники нашего детства
Вспомните, давно ли мы все жили от праздника до праздника? Трудовые будни были праздником для нас, воскресные дни – праздником какой-нибудь отрасли или профессии, а кроме того, революционные праздники, дни рождения, юбилеи, открытия, закрытия, события, аванс, получка. Гуляй – не хочу! Было в них много от бутафорско-показушного фарса, но и много веселого, памятного.
Праздник Октября
Октябрьская демонстрация 1965 года: театрализованное представление, где перед трибуной разыгрывались сцены героической истории города, области и государства. Группы озябших студентов, одетых в матросские бушлаты, солдатские шинели и комиссарские кожанки, в перехлест опутанные пулеметными лентами и увешанные гранатами, изображали штурм Зимнего. В самый ответственный момент, перед правительственной трибуной, солдат-знаменосец дважды упал, запутавшись в размотавшейся обмотке. Папаха покатилась под трибуну, а знамя попало под «газик», закамуфлированный под броневик. Растерявшийся солдат, прыгая боком перед трибуной, отчаянно разматывал с ноги злополучную обмотку. Освободившись, он вдруг заорал, махая ею над головой: За Родину! За Сталина!
Студенты с криком «ура» бросились на штурм, целя штыками в ненавистных буржуев. Комиссар отряда выковыривал штыком закатившуюся под трибуну папаху, взятую напрокат в драмтеатре. Вдоль колонны, отдуваясь и тяжело дыша, семенили загримированные под партизан артисты драмтеатра Богатырев и Лисовский. Время от времени снимали папахи и утирали пот с лица. – Пьедестал не видели? – с мольбой в голосах спрашивали они демонстрантов. – Какой еще пьедестал? – Ну, машину бортовую, с партизанской землянкой и макетом «голубого моста». Мы его должны рвануть перед трибуной! – А… так этот пьедестал давно проехал… – О, ты, черт! – ругались артисты-партизаны. Демонстрация короткими перебежками вливалась на площадь, неся несметное количество портретов очередного вождя, флагов, флажков, шаров и транспарантов. Впереди каждой из колонн катили специально изготовленные тележки с красочными панно и праздничными призывами. – А где? А какой? – спрашивали, проходя мимо трибуны, демонстранты. – Да вон в центре, в шляпе! – А там все в шляпах! – Ну этот вот… ну в самом центре… Люди почему-то кричали «ура» и радостно махали флажками в сторону трибуны…
Праздник футбола
Открытие футбольного сезона в городе становилось праздником для болельщиков. Праздник начинался обычно парадом команд всех возрастов. Затем бессменный председатель облспорткомитета Борис Старовойт произносил раз и навсегда написанный спич и давал команду на подъем флага. Право первого удара по мячу в течение десятилетий предоставлялось одному и тому же человеку – преподавателю Брянского лесохозяйственного института А. В. Федосову. Марксообразный Федосов бодро вышагивал к центру и, отдав подержать судье свою трость-костыль, под аплодисменты болельщиков пинал мяч ногой. Последние годы Федосову уже было трудно самостоятельно добираться до центра поля, его сопровождали ассистенты, поддерживающие мастера после нанесения по мячу символического удара. Частенько открытие сезона жаловали отцы города и генералы, о чем восторженно сообщали народу громкоговорители. В такие дни на «правительственной» трибуне бывало многолюдно. Но и когда никого не было, милиция все равно не пускала туда обычных болельщиков, даже во время дождя…
Основным спортивным клубом города было «Динамо», представляющее МВД, ибо по всей области, чуть ли не в каждом районе, была или тюрьма, или колония, а в самом областном центре – аж несколько. И все эти заведения имели чрезвычайно многочисленный штат сотрудников. Вот общество «Динамо» и стало основным и чуть ли не единственным.
Футбольный клуб «Динамо» у нас любили, и болели от души. Да и как было не болеть, если играли, за редким исключением, свои – с соседних дворов, с соседних улиц. В 60-е годы каждый матч с участием столичных команд был для города праздником. Расскажу об одном. Душным июльским вечером 1963 года б-ское «Динамо» принимало на своем поле лидера зоны ленинградский «Спартак». На стадионе яблоку негде было упасть. Перед стадионом – столпотворение. Народ прорывал кордоны контролеров, через заборы сыпались, как картошка из дырявого мешка, безбилетники. Плотная толпа стояла вокруг беговой дорожки, удерживаемая слабыми металлическими барьерами, которые то тут, то там падали вместе со зрителями. На деревьях вокруг стадиона гроздьями висели пацаны. Балконы и окна близлежащих домов превратились в трибуны. Наиболее предприимчивые заняли крышу трехэтажного дома за южной трибуной стадиона. Сразу после начала игры над стадионом разразилась гроза. Небывалой силы ливень накрыл стадион, превратив футбольное поле в болото. Футболисты и болельщики промокли до нитки, но никто и не думал покидать трибуны. Рев и свист над стадионом заглушали раскаты грома. На поле творилось что-то невероятное: мячи один за другим влетали в спартаковские ворота. После каждого падения футболисты горстями счищали с лица и тела жирную грязь и умывались в какой-нибудь наиболее глубокой луже. Вратарь спартаковцев явно нервничал, пытаясь ногами и руками разогнать воду от своих ворот. Долговязый дружинник в шляпе, посланный прогнать пацанов из-за ворот, сам занял их место и сказал что-то обидное вратарю. Ленинградец повернулся в сторону обидчика и стал огрызаться. В этот момент в его ворота влетел очередной мяч. Рассвирепевший вратарь бросился за дружинником. Дружинник, прыгая по лужам, как заяц, драпанул под защиту болельщиков, потеряв на бегу шляпу, которая была тут же растоптана. Вратаря еще долго оттаскивали от шляпы и всей командой упрашивали занять место в воротах. После окончания первого тайма светился фантастический счет – «Динамо» выигрывало 4: 0. В перерыве между таймами на стадионе царило веселье, не уступающее, думается, карнавалу в Рио по случаю завоевания бразильцами звания чемпионов мира. Торжествующие люди прыгали в обнимку, что-то кричали и пели. Часть болельщиков бросилась помогать работникам стадиона готовить поле. Добровольцы сгоняли воду с динамовской половины поля и засыпали штрафную и вратарскую площадку песком. Как водится, подручных средств на стадионе не оказалось. Мужчины носили песок в шляпах и картузах. Несколько женщин таскали в подолах. После того как «наша половина» была приведена в порядок, несколько особо патриотичных болельщиков вылили пару ведер воды на «чужую» вратарскую площадку. Сидевший на трибуне солидного вида мужчина призывал окружающих вести себя прилично. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу «Динамо», а болельщики все не расходились, чтобы еще и еще раз посмотреть на своих героев и продлить праздник.
Русская берёзка
Вдоль бульвара Гагарина наспех вкопали привезенные из леса березы, которые для большей устойчивости крепились распорками. На площади Ленина, напротив драмтеатра смастерили эстраду. Праздник «Русская березка» начался в полдень с общего, но организованного гулянья. Под палящими лучами солнца потели одетые снегурочками мороженщицы. Молодые люди, скользя по столбу, тщетно пытались достать с его верхушки сапоги. Самодеятельные коллективы домов культуры водили хороводы, голосили и отплясывали под гармошки. Играли духовые оркестры. На площади Карла Маркса разряженные тройки с бубенцами катали детей. Вечером почти весь центр был запружен гуляющим народом, ожидавшим обещанного афишами фейерверка. Ближе к полуночи у здания райкома комсомола собралась колонна факельщиков, которая, чадя зажженными факелами, под звуки марша двинулась к площади Ленина. У эстрады факельщики остановились. Ведущая обратилась к публике: – А теперь, друзья, споем наши комсомольские песни! Сейчас вам раздадут тексты! Несколько активистов стали разносить в толпе тексты, которые в сумерках все равно невозможно было прочитать. После первого куплета испортился микрофон. Факельщики пели, оркестр играл, ведущая боролась с микрофоном. Песня совсем было начала угасать, когда на эстраду вывалился из толпы одетый в довольно потрепанный китель мужчина и, обняв ведущую за талию, завопил в отнятый у нее микрофон: Пока я стоять умею, Пока я ходить умею, Я буду итить вперед… Все радостно зашумели, узнав в мужчине Колю-дурачка. Площадь ликовала, милиция оттаскивала Колю от ведущей. – А теперь, – прокричала та, вновь овладев микрофоном, – когда мы спели свои комсомольские песни, можно потушить факелы.
Факельщики радостно затоптали тлеющие тряпки и смешались с толпой. В воздух взвились ракеты – начался фейерверк…
Праздник молодости
Праздник молодости, который город ожидал в течение месяца, начался на стадионе «Динамо», с парада. Проследовали коллективы духовых оркестров, каждый в своей форме. Замыкал парад детский оркестр Дома пионеров. Дети вдохновенно дули в трубы, сверкая золотыми эполетами на красных камзолах. Впереди, с выражением муки на лице, вышагивал тамбурмажор Геваргис Бит-Юнан. Он беспрерывно поправлял съезжающий на нос кивер, махая над головой белой перчаткой. Следом за музыкантами проехали самые маленькие участники праздника на трех велосипедах. За ними бежали счастливые мамы. Промаршировали, чеканя шаг, отряды юнармейцев. Лица их были сосредоточены и суровы, деревянные автоматы прижаты к груди. Большинство юнармейцев почему-то составляли девочки. Со страшным ревом, изрыгая тучи гари, проехали мотоциклисты. На сооруженной над коляской головного мотоцикла площадке стоял «воин-освободитель» с огромным бутафорским мечом в руке. К груди он прижимал девочку. У воина было бледное, напряженное лицо – он с трудом удерживал равновесие. За ноги его держали два ассистента. Замыкая парад спортивной молодежи, на беговую дорожку выкатила кавалькада разномастных коней и всадников, в которых без труда можно было узнать славную дружину ассенизаторов из «треста очистки». Возчики изображали конников разных времен нашей славной истории от Ильи Муромца до Семена Буденного. Рядами ехали Алеши Поповичи, Александры Невские, – голубые гусары и буденовцы. У правительственной трибуны наиболее ретивые пришпорили коней: буденовцы врезались в голубых гусар, Александры Невские перемешались с Алешами Поповичами. Какие-то две кобылы начали кусаться. Один из коней сбросил на гаревую дорожку своего Невского, налетел на мотоцикл и поскакал через футбольное поле. Александр Невский кинул щит и с пикой наперевес бросился преследовать обидчика… Появились артисты Мосцирка. На футбольное поле разом высыпали десятка два ходулистов на разновысоких ходулях и большое количество клоунов, устроивших такой кавардак, что зарябило в глазах. Общую сумятицу усугубил выехавший на поле в клубах едкого дыма автомобиль, похожий на «Антилопу-гну». Клоуны стали прыгать в автомобиль и имитировать падения и ушибы. Ходулисты перешагивали через кувыркавшихся клоунов и автомобиль. Праздник продолжался…
Река нашего детства
До чего же неудачно выбрали место для нашего города! На высоком крутом берегу Десны, а тут и Болва, и Снежеть рядом. Снежка – тихоходная, спокойная, с многочисленными заводями. Болва – полная противоположность, одна из самых быстротечных равнинных рек. За памятником артиллеристам до последнего времени было озерцо, называемое «Пердушкой» за то, что на его поверхности постоянно лопались поднимающиеся со дна пузырьки. Вода там была чистая и холодная. Несколько лет назад «Пердушка» стараниями городских властей приказала долго жить. Уверен, будь среди этих товарищей хоть один местный житель, а не периферийные выдвиженцы, он бы не загнал в «Пердушку» земснаряд и не вычерпал оттуда песок для строительных целей. Теперь за платной стоянкой высится песчаный карьер, а увеличенный раз в 20 водоем «Пердушки» уже не может обеспечить ее подземный источник, и вода там к середине июля покрывается ряской.
Пройдитесь па старым улочкам: Ямской, Верхней и Нижней Лубянке, Калининской, Судкам. Домики теснятся на гористых неудобицах, без подъездов, без приличных приусадебных участков. Казалось бы, возьмите ровное место подальше, километрах в 2—3, и стройтесь, ан нет – люди жались к реке. Каких-нибудь 80 – 100 лет назад Десна была глубоководной и судоходной. До революции по Десне бегали до Киева колесные пароходики. Один из них, «Константин», даже попал на старинную открытку. Городская пристань-гавань располагалась в районе фабрики РТИ на Пионерской улице. Старики мне, тогда мальчику, рассказывали, что в гражданскую напротив дормаша затонул пароходик. Из воды торчали только верхушки мачт – такая вот была глубина.
На левом берегу Десны в месте слияния со Снежетью еще до войны находилась так называемая Бабаева роща. Мы ее уж не застали, но можно себе представить, что это была за прелесть по сохранившимся дубам левобережья рощи «Соловьи».
Десна меняет постоянно русло, даже в черте города. После войны дорога от станции Б-ск-I проходила через три моста: один через Десну и два через старицы. Одна из этих стариц, правда, отрезанная искусно от основного русла, сохранилась и теперь. Ее, как прежде, называют ласково «старушка».
Каждую весну после войны весь город ждал ледохода. Все, от мала до велика, высыпали на берег, наблюдая, как набухшая река с ревом и грохотом рвала на себе ледяные оковы. Нагромождая одна на другую льдины, закипая в торосах и запрудах, река увеличивалась на глазах в объеме и катила воды мимо города.
Половодье растягивалось иногда на целый месяц. Радио ежедневно передавало сводки об уровне подъема воды. Чтобы сохранить опоры моста (мост у Набережной ежегодно разбирался), сооружались специальные ледорезы. Перед самым половодьем город ночами сотрясали взрывы – это подрывники рвали лед у Черного моста, чтобы его не снесло напором. «Черным» назвали мост, соединивший город со станцией Б-ск-II, за его черные, просмоленные опоры. Во время войны мост был разбомблен, но и новый, послевоенный мост, по традиции называли тоже «черным».
Десна в половодье разливалась широко и раздольно, сливаясь в одно пространство со Снежетью и затопляя всю пойму до горизонта. Среди бескрайнего водяного простора, как игрушечные корабли, покачивались на воде затопленные домики Зареченской улицы. Хотя дома строились на высоких сваях, вода доходила до полов. В отдельные годы Десна выходила даже на высокий правый берег, затопляя рынок и Калининскую улицу. В течение всего разлива, пока не навели новый мост, зареченские сообщались с городом при помощи лодок, из которых мальчишки кошелками вылавливали карасей и щурят.
Рыбой Десна была богата. После войны тут же на рынке можно было приобрести и мелких красноперок, и крупных щук. Году в 1946-м братья Сафроновы с Горьковской улицы зацепили сетью у Набережной сома. Его удалось вытащить только с помощью лошади, хвост его свешивался с телеги. Не каждый мальчишка в то время отваживался переплыть Десну, хотя плавать умели все. Тут же проводились соревнования по плаванию – для этого натягивали канаты и устраивали водные дорожки. Геройством было ныряние с моста. Особо отважные прыгали с перил, но этих смельчаков было немного. Они собирали зрителей.
Нырял с перил и известный в Б-ске Эдик-дурачок. Это бывало зрелище. Эдик снимал на мосту свой поношенный офицерский китель с орденскими планками, залезал неуклюже на перила и долго, дрожа синими коленками, готовился к прыжку. Затем он издавал свое фирменное, «тхрррх», прочищая носоглотку, зажимал пальцами нос и, закрыв глаза, топориком кувыркался вниз.
Полет его каждый раз был непредсказуем и неописуем. Эдик плюхался в воду животом или спиной и, подняв море брызг, со стоном уходил под воду.
По-собачьи выгребал на берег и, отдышавшись, снова залезал на перила, вообще послевоенный город даже трудно представить без Эдика-дурачка и Коли-дурачка. Недаром даже бывшая председатель облисполкома Домна Комарова, делясь воспоминаниями, наряду с первыми секретарями обкома вспомнила и о Коле-дурачке.
Ныряние с моста запретили в 1955 году, когда десятиклассник Ю. Сулимов разбился, ударившись головой о прошлогоднюю сваю – река мелела на глазах.
В пятидесятые годы основной городской пляж размещался на противоположном от дормаша берегу. Затем, когда стали намывать площади под новые цеха завода, горожане обжили рощу «Соловьи». Пляж обустроили, поставили павильоны, грибки, туалеты, но кому-то в голову взбрело и в этом месте спрямить русло Десны. После этого течением снесло с пляжа песок, берега заилились, и люди покинули этот чудесный когда-то уголок. Сейчас там пустота и полуразвалившиеся строения..
Мода нашего детства
В первые послевоенные годы улицы города, как и всего Союза, были окрашены в защитные цвета. Солдаты и офицеры донашивали военную форму, кто мог, с удовольствием меняли ее на гражданскую. Случалось видеть сплошь и рядом гражданский пиджак поверх галифе и сапог.
Номенклатура одевалась в темного цвета полувоенные кители и такого же цвета галифе. Хромовые сапоги обязательно венчали галоши. Вид обладателей хромовых сапог был величав и недоступен. Многие держали, в подражание вождю, правую руку за лацканом кителя. Для большей убедительности обладатели черных кителей именовались руководителями, сокращенно «рук», например: технорук, худрук, военрук, физрук.
Но отходила в прошлое война, и постепенно пришло время гражданской моды. Мужчины оделись в двубортные темно-синие или коричневые костюмы с невероятно широкими штанинами. Головной убор (кепка шести- или восьмиклинка) была обязательной частью костюма. Наиболее представительные позволяли себе заменить картузы на шляпы и носить галстуки. Это было, однако, совсем небезопасно. Десятилетиями в народе культивировалась ненависть к этому атрибуту капиталистического гардероба. В любой момент обладатель шляпы мог услышать обидное: «Буржуйская рожа!».
У молодежи обязательным являлся косой чубчик из-под сдвинутого на лоб картуза, тельняшка и тупоносые лакировки, показывавшиеся только при ходьбе из-под нависавших над ними, как трубы, брючин. Верхом шика считалась зажатая зубами в блеске золотой коронки папиросина.
Внешнему виду соответствовал свой стиль поведения и отношения к женщине, исключающий всякое проявление сентиментальности. Среди уличного фольклора в жанре городского романса распевалась песенка «Парень в кепке и зуб золотой» – о похождениях этого пролетарского героя. Очень образно показал такого парня незабвенный Леонид Осипович Утесов в постановке «Эволюция танца»:
– Мань, сбацаем фокстрот?
– Не, отвали!
– Пойдем сбацаем!
– Не пойду!
– А и с Жёрой пойдешь?
– А и с Жёрой пойду!
– Ну, смотри, пойдешь и с Жёрой, живая с танцев не уйдешь!..
Женщины щеголяли в простеньких ситцевых по щиколотку платьицах и бесформенных на широких каблуках туфлях. Жены ответственных работников вечерами, перед походами в кино или театр, надевали тяжелые крепдешиновые платья с плечиками, рюшечками и полным отсутствием декольте.
Зимой все население переходило на ношение валенок с галошами или бурок с «армяжками», самодельными подобиями галош, вырезанными из автомобильных камер. Элитная часть мужского населения облачалась в пальто с каракулевыми воротниками и такие же ушанки, женщины обвешивались чернобурками. Особым шиком считалось ношение так называемой «муфты», которая делалась из того же меха, что и воротник, и носилась вместо перчаток. У дамы, идущей с муфтой, обязательно должна была быть домработница, так как сумку нести она уже сама не могла: руки были заняты «муфтой». Кстати, «слуги народа» не видели ничего зазорного в эксплуатации наемного труда в виде домработниц. Почему-то у значительной части номенклатуры были нездоровые супруги, и кто-то же должен был при неразвитой сфере централизованных бытовых услуг заниматься этими проблемами на дому… Вольно чувствовали себя в то время мальчишки, не связанные никакими условностями. Босоногие ватаги день и ночь носились по пыльным улицам и заливным лугам, обуваясь только для посещения школы. Это было в городе, а в деревне…
В середине 50-х деревенские бабы, увидев на приехавших студентках спортивные шаровары, бросали работу и поднимали невероятный визг: «Ой, бабоньки, глядите, девки в портках, срамота!» Еще больший переполох вызывало появление загорающих в плавках. Плавки и купальные костюмы шили себе сами. Промышленность такие товары не производила. Одно время стало модным использовать в качестве плавок детские машинной вязки трусики. Девочки перешивали себе разноцветные борцовские трико под купальные костюмы.
Мужские прически того времени подчеркивали мужество и непритязательную простоту. Самыми модными были «полька», «бокс», «полубокс» и «под горшок», когда под машинку выстригались вкруговую волосы чуть выше ушей. У женщин верхом шика считалась «шестимесячная завивка». Женщины стали носить шляпки с вуалью на манер начала века и длинные по локоть сетчатые перчатки. Наиболее смелые использовали губную помаду, тушь для ресниц и делали маникюр. Любой случай использования косметики даже в старших классах школы становился ЧП, зато после просмотра фильма «Тарзан» молодые люди начали отпускать волосы, а девочки, наоборот, стричь косы.
В 1954 году до Б-ска стали доходить слухи о появлении в столичных городах загадочных «стиляг» или «узкобрючников». Центральные газеты и журналы развернули массовый агитационный психоз, изображая стиляг пьяницами, развратниками, насильниками, а там уж недалеко и до предателей Родины. Не повстречав в жизни ни одного «стиляги», люди уже проникались к ним лютой ненавистью. Первым, на кого вылилась эта провинциальная лютость, оказался приехавший на зимние каникулы студент столичного вуза Э. Шишлянников. Одет он был в светлое, чуть ниже колен однобортное полупальто, шапку-боярку и боты с металлическими пряжками спереди, прозванными в народе «прощай молодость». Самыми заметными в его наряде были выпирающий из бортов пальто ярко-оранжевый шарф и узкие брюки. Когда он появлялся на улице, вслед ему катились возмущенные крики: «Стиляга! Мериканец! Боярин! Выродок! Куда смотрит милиция? На Колыму их!»
Мальчишки под одобрительные возгласы родителей бросались в Шишлянникова снежками. Однако молодежи его вид очень понравился, и после отъезда студента спешно началось укорачивание остроплечих двубортных пальто, перешивка пуговиц и переглаживание лацканов, чтобы «открыть» наружу шарфы.
В 1956 году Бежицкий камвольный комбинат заполнил магазины тканью «аргон» зеленого и синего цвета. Тут же многие появились в пошитых из «аргона» зеленых узких брюках. Что до других нарядов, то нашим стилягам было тяжело тягаться со столицей – в магазинах не было импортных вещей, а в столицу просто так не ездили, разве что к родственникам или в командировку. Шили и переделывали то, что было в наличии, и выглядели зачастую довольно нелепо.
Первыми «стиляжничать» начали ребята. Девчонки втянулись в это только через пару лет. Особой гордостью стиляги была прическа: длинные, гладко зачесанные назад волосы, собранные впереди в так называемый «кок». Чем выше и дальше нависал кок надо лбом, тем было престижней, а чтобы держался и не разрушался на ветру, волосы густо смазывали «бриолином». Спали на спине, боясь помять во сне. Такие прически не могли делать в парикмахерских, поэтому стиляги стригли друг друга сами, и некоторые делали это довольно профессионально.
Особо мучились провинциальные стиляги от обуви. В Москве продавались чешские туфли на толстой микропористой подошве, так называемой «каше», а в Б-ске, кроме пресловутых тупоносых лакировок и полуботинок, ничего не было. Обладателям туфель «на каше» жутко завидовали.
Если наши стиляги постепенно приближались к столичным, то девушки заметно отставали. Приезжавшие на каникулы, всего лишь год пожившие в столице, уже носили другие прически, пользовались косметикой, по-другому одевались и даже походкой отличались от оставшихся в провинции подруг!
«Стиляга» – стало выражением нарицательным. Сами же модники называли себя «чуваками» и «чувихами», основные отличия которых были (кроме модной одежды) любовь к джазовой музыке, новым течениям в литературе и искусстве, а также критическое отношение к существующим устоям нашего общества.
Стиляги появились в то время, когда внутренние враги все были уже ликвидированы. Но соцобщество не могло поддерживать своих граждан в должной воинствующей форме против врагов внешних без постоянной борьбы с врагами внутренними. И «стиляги» быстро заполнили этот вакуум. Сколько молодых корреспондентов, поэтов и композиторов сделало себе карьеру на борьбе со «стилягами»! С провинциальной патриотичностью взялись борзописцы за стиляг. Все стенгазеты школ и учебных заведений обязательно разносили кого-нибудь из своих учеников. В районных городах появились витрины «комсомольских прожекторов» с карикатурами и частушечными творениями. На бульваре Гагарина, где совсем недавно была портретная галерея лучших людей города, были расставлены вырезанные из фанеры уродливые фигуры «стиляг» в диких нарядах. Комсомольские патрули и бригадмильцы вылавливали «узкобрючников», пороли им штанины и отрезали «коки».
Но странно, чем активнее велась борьба, тем больше появлялось «стиляг». Вероятно, пришло время, когда люди захотели, наконец, одеваться и жить лучше. Ведь как-никак, а шел уже пятый десяток Великой Октябрьской социалистической революции. Но Б-ск еще долго, по-партизански сопротивлялся этим пережиткам и тяжело привыкал к европейской моде.
Особенно сопротивлялись окраины. Даже в середине семидесятых можно было наблюдать такую картину. Одетый в шорты Э. Гнездовский (известный в городе под кличкой Мэр), шел на пляж по погружавшимся в сон от аванса до получки соловьевским улочкам с мирно грызущими на крылечках семечки хозяевами и детско-куриным криком вокруг. Проходя мимо крылечек, Мэр вежливо здоровался. На крыльце при виде его обнаженных коленок воцарялась настороженная тишина: дети и куры любопытно вытягивали шеи, а взрослые, оставив семечки, с гневом испепеляли взглядами наглеца. Затем с близлежащих крылечек прибегали, поспешая, соседи, и начинался стихийный митинг. Мужики матерно ругались и чесали пудовые кулаки, бабы осеняли себя крестным знамением и посылали вослед «антихристу» и «супостату» проклятия.
Зачем боролись? С чём боролись?
Каток нашего детства
Послевоенные зимы, не в пример теперешним, помнятся снежными и морозными. Снег ложился уже к середине ноября, иногда раньше, и никаких тебе оттепелей. Заносило улицы по самые верхушки заборов. Самыми распространенными коньками после войны были «пролетарки» или «пролетарские». До примитивного простые, они привязывались веревками к обуви. Коньки с ботинками являлись недостижимой мечтой. Да мальчишки особенно и не рвались к ботинкам, так как в валенках было теплей. Веревки на коньках затягивались специальной палочкой. Выглядело неказисто, зато надежно.
После «пролетарок» по популярности стояли «снегурочки» или «снегурки», с загнутыми кверху закругленными носами. Особую зависть вызывали обладатели «хоккеев» или «дутышей», и уж совсем редкостными были «ножи» или беговые.
Особое возбуждение у пацанов вызывало появление на улице редких грузовиков, чадящих газогенераторными установками. Мальчишки цеплялись за борта проволочными крючьями и катили вслед вихляющими шеренгами, ухватившись за хлястики и полы друг друга, рассыпаясь. как горох, от выскочившего из кабины шофера.
Самой популярной игрой был хоккей с мячом или русский хоккей. Целыми днями мастерились клюшки и расчищались площадки. Больше везло зареченским, игравшим на замерзшей Десне. Мальчишки так поднаторели в уличных баталиях, что, когда стали заливать каток и создавать хоккейные команды, проблем с игроками не было. Какие скорость и удаль демонстрировал русский хоккей! Самыми яркими игроками у нас были Иосиф Мочанис, Эдуард Кузерин, Валерий Жуков, Сергей Кухарев, Виктор Соловьев, Анатолий Елисеев.
О канадском хоккее (или хоккее с шайбой) в начале пятидесятых знали только понаслышке, но когда пришла его пора, те же ребята, взяв в руки непривычные клюшки, показывали чудеса. Пока осваивался новый вид, возникало много курьезов. Вратари пытались ловить шайбу двумя руками, бросив клюшку. Особой гордостью являлось сидеть на скамье штрафников – нарушители были в почете и за пределами площадки. Казалось, б-ские хоккеисты достигли верха совершенства, но тут, как ушат холодной воды на головы – приезд команды «Торпедо» из Горького (высшая лига). В ее составе был игрок сборной СССР Солодов. Наши даже забросили, под ликование трибун, шайбу. Но затем все стало на свои места, и шайбы, одна за другой, посыпались в наши ворота. Кончилось тем, что горьковчане стали играть одной пятеркой, а их вратарь, сбросив щитки, оставил пустыми ворота и выкатился на площадку шестым полевым игроком. Конечный счет 27:1 в пользу гостей. И при этом б-цы сражались, как львы. Горьковчане с удивлением взирали на носящихся, как ракеты, наших. Зрители, поначалу болевшие за своих, хохотали затем до слез над обескураженными хозяевами. Центром жизни зимнего города был, несомненно, каток. Каток на стадионе «Динамо» работал регулярно с 17 до 24 часов в любую погоду. Как только из стадионных динамиков начинала играть музыка, к стадиону слетался народ. С 17 до 20 каток отдавался детям. С 8-ми вечера начинали пускать взрослых, но дети не хотели покидать лед, и поставленным на коньки милиционерам стоило большого труда выловить всех шустрых мальчишек. Через полчаса после открытия на катке яблоку негде было упасть. Возрастной состав катающихся был от 14 до 60-ти. Спрессованная масса катающихся непрерывно скользила по часовой стрелке, оставив в центре катка небольшой пятачок, где спасались начинающие. Чем дальше от центра, тем скорости возрастали, а по большому радиусу носились самые быстрые. Репродукторы без конца предупреждали об опасности катания «против течения», так как от столкновений иногда образовывалась куча-мала из десятков людей, многие получали травмы. Увернуться от столкновения в такой массе не было возможности. Наиболее лихие умудрялись в этой гуще ещё и играть в догонялки или устраивали «паровозик: десятка три-четыре становились друг за дружкой, держась за талии, и катили, все ускоряясь, по кругу. На поворотах хвост «паровозика» заносило, сметая зазевавшихся. Тогда к месту инцидента мчались милиционеры, тоже на коньках… Раздевалки стадиона и на треть не могли вместить всех желающих. Большинство добиралось до стадиона уже на коньках, а подростки в основном прыгали через заборы стадиона. Взрослых, как и детей, с трудом удавалось выдворить со льда даже после закрытия стадиона и выключения на катке света. На Новый год в центре катка ставили огромную наряженную елку, а скульптуру футболистов у входа преображали в Деда Мороза. Однажды неожиданно ударила оттепель, Дед Мороз осел, подтаял и уменьшился в размерах настолько, что сзади из него показалась рука одного из футболистов скульптурной группы. Скрежет коньков катающихся был слышен далеко за пределами стадиона. Чтобы разгрузить каток, пробовали заливать льдом дорожки в парке Толстого, но людей, несмотря на тесноту, тянуло на стадион. Тут же под трибунами можно было наточить коньки, «приклеить» их к ботинкам. Под трибуной работал буфет. Сколько радости дарил людям каток, сколько бодрости и здоровья прибавлял он людям!
Милиция нашего детства
В стародавние времена
Архивист В. Кузьменко уверял, что до революции в Б-ске жило двое городовых: один – на вокзале, другой – на базаре. Тот городовой, который дежурил на вокзале, кроме прямых обязанностей, представлял собой в одном лице уголовный розыск, отдел по борьбе с организованной преступностью, отдел по борьбе с хищениями на транспорте, медвытрезвитель и детскую комнату милиции. Другой курировал базар и выполнял одновременно функции санэпидемстанции, комитета по охране природы, вневедомственной охраны, госторгинспекции, налоговой инспекции, ОБХСС, милиции, госавтоинспекции, управлении торговли, а также комиссии по урегулированию трудовых споров. Он указывал места парковки телег, торговли, пробовал на вкус продукты, недоброкачественная продукция тут же опрокидывалась на голову зарвавшегося продавца. Городовых уважали. Завидев ещё за квартал, снимали шапки и раскланивались. Любой случай неповиновения становился историческим событием. На здании теперешнего пассажирского вокзала станции Б-ск-I висит мемориальная доска с надписью «Здесь 18 декабря 1905 года произошло столкновение рабочих-железнодорожников, вылившееся в политическую демонстрацию». Так вот, по словам архивиста, все «волнения» тогда начались с крепкой выпивки железнодорожников, которая в конфликте со здешним жандармом приобрела политический характер, так как после взаимной перебранки закончилась рукоприкладством.
Но это всё – устная летопись легенды. Я той полиции не знал. Я помню только нашу, послевоенную милицию.
Верхом на коне
После войны милиция была малочисленна, да ведь и город был невелик. Для большей мобильности милицию посадили на коней. Конная милиция выезжала на Б-ск-I встречать возвращавшиеся после демобилизации эшелоны. Демобилизованные на радостях крушили пристанционные магазины и киоски, конники бесстрашно отстаивали народное добро. Руководил милицией майор Гуркин. Известная журналистка Татьяна Тэсс, описывая в журнале «Крокодил» один из судебных процессов, по ошибке назвала его Чуркиным. Но пусть это остаётся на её совести. Всю госавтоинспекцию представлял один милиционер по фамилии Иванов. Машин в городе было не более сотни, и надо ж такому случиться: Иванова раздавила машина!
До появления светофоров уличным движением управляли регулировщики. Один из них на самом ответственном перекрестке у ЦУМа не пропускал на площадь Ленина гужевой транспорт. Исключение составляли только возчики «треста очистки», или попросту ассенизаторы. Они ездили всегда обозом из нескольких телег, на которых стояли бочки. Из бочек торчали ведерные черпаки, а над обозом роились мухи. Когда ассенизаторы проезжали мимо регулировщика, тот оторачивался и зажимал нос.
Одним из первых государственных учреждений, вступивших в строй после освобождении от немецко-фашистских захватчиков, была тюрьма. Тюрьма в центре города до сих пор является одной из достопримечательностей города. Для того чтобы не вызывать в обществе отрицательных эмоций, не так давно вокруг тюрьмы возвели высоченный забор и административно-культурные служебные помещения, а на выходящие на улицу и детскую поликлинику окна навесили жалюзи. После войны стена была на треть ниже, на углах стояли сторожевые будки, где дежурили вооруженные стрелки. В народе их звали «мухобоями». Перед тюремной стеной регулярно вскапывалась полоса земли, обнесенная колючей проволокой. Из-за зарешеченных окон тюрьмы выглядывали зэки и бросали завернутые в кусочки материи камушки с записками на волю. Стрелки отгоняли прохожих, не давая подбирать эти записки, но мальчишки нет-нет да и умудрялись незаметно ухватить их. В записках указывался адрес родственников, чаще всего просили прислать передачу с сухарями и табачком. Большинство адресатов было из сельской местности.
Весёлые времена
Сталин когда-то произнес исторические слова: «Жить стало лучше, жизнь стала веселей». Но веселей стало жить, пожалуй, при Хрущёве. Выполняя лозунги партии о слиянии города с деревней, деревни двинулись в более сытые города. Население города росло не по дням, а по часам, и одной из первых селянами осваивалась профессия порядка. Учились профессии по ходу дела. Для поддержания порядка в помощь милиции была создана добровольная народная дружина. В нее записывали добровольно-принудительно, поощряли дополнительными отпусками, учитывали активность в итоговых показателях соцсоревнования.
С начала 60-х годов вином и водкой забили все гастрономы, открыли отделы торговли в розлив. В розлив торговали многочисленные буфеты и лотки. Вино лилось рекой, сосед поил соседа, вытрезвители не справлялись с возросшей нагрузкой. В скверах, дворовых палисадниках и других укромных местах на кустах висели граненые стаканы, предусмотрительно оставленные любителями выпить «на троих». Но и милиция не дремала. В находившемся на месте теперешнего музея «Б-ский лес» летнем кинотеатре парка Толстого за сценой размешалась дежурная комната милиции. Сюда же в парк, а зимой на каток собиралась выяснять отношения молодежь со всех районов города. Милиция со шпаной особо не церемонилась.
«Все сидят»
Центром жизни тогда стали винные отделы гастрономов. Один знакомый, приехав после десятилетнего отсутствия, встретил у гастронома бывшего однокашника и стал расспрашивать о друзьях детства.
– А все сидят! – ответил тот.
– Как сидят?
– А раз к магазину не ходят, значит, сидят!
«Сидели», однако, далеко не все. Сколько было в ту пору преступлений, сколько сидело, каков процент раскрываемости – никто из простых смертных не знал.
Когда говорит, что раньше не грабили и не убивали, не соглашаюсь и привожу собственный пример. Меня ограбили с покушением на убийство в пяти шагах от собственного дома и в сотне шагов от управления внутренних дел. Когда пришел в себя, увидел на свежем снегу следы преступника. Было около двух часов ночи, транспорт уже не ходил, и не надо было быть Пинкертоном, чтобы по свежим следам взять грабителя, тем более, что и подобрал-то меня шедший на дежурство милиционер минут через 10—15 после нападения. Но то ли жалко было будить ночью служебную собаку, то ли милицию, но прибыли стражи порядка на место происшествии только к 9-ти часам утра, когда от улик не осталось и следа. Более того, следователи с неделю отрабатывали версию: не долбанул ли я сам себя металлическим прутом по голове с целью запутать следствие?
Но это были частности. А в общем на улицах пьяные не лежали…
На посту
Даже самые отъявленные пьяницы и хулиганы, завидев грозную двухметровую фигуру милиционера по кличке «Полтора Ивана», переставали качаться, начинали выражать возмущение американским империализмом. В те времена основными охраняемыми милицией объектами были партийные и советские комитеты и «пост №1» у памятника Ленину.
Пост №1 вряд ли нуждался в охране, причиняли ущерб «чугунному» монументу только голуби. Из бытовых объектов особой заботой милиции пользовался обкомовский дом на углу Октябрьской и Горьковской улиц. В этом доме жили «первые» – от Крахмалёва до Войстроченко, а также другие люди, далеко не последние в структуре партийной власти. На Октябрьской улице было совсем перекрыто движение автотранспорта, по улице Горького запретили проезжать грузовикам, а легковухам – с 10 вечера до 7 утра.