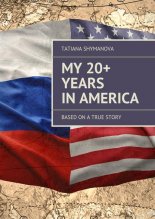Моя вторая жизнь gra4man

© gra4man, 2024
ISBN 978-5-4474-3780-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
День первый
Жила-была кошка, и было у неё девять жизней. А чем я хуже той кошки? Тем, что пол у меня другой, задница не обременена хвостом и потолок вечно набекрень? Так это для количества жизней несущественно. По крайней мере, я так думаю. Посему, начну-ка я своё повествование иным манером.
Живу-бываю я, и есть у меня девять жизней. Согласен, ассортимент небольшой, но, всё же, это больше, чем одна жизнь, как у других людей-человеков, что, несомненно, делает меня особенным. Но вся моя особливость станет былью лишь тогда, когда закончится моя первая жизнь и начнётся одна из следующих. Какую бы мне жизнь выбрать? Сразу девятую? Или седьмую? Или третью? Для меня нечётные цифры почему-то имеют большую притягательность, чем чётные. Они более ершистые, более самостоятельные, более непредсказуемые. И более затасканные. Попроси любого человека называть любую цифру от нуля до девяти, и процентов восемьдесят из опрашиваемых назовёт нечётную цифру. Не веришь? Просто пройдись по офису с листочком и ручкой. Или прокатись с листочком и ручкой на карусели. Пробегись по подъезду. Постой у обувной мастерской. Посиди в метро. И записывай, записывай, записывай, ответы всех тех, кого ты вырвешь на полсекунды из суматохи или мутного болота их единственной жизни. Тогда ты увидишь, что абсолютно большинство из твоих респондентов выберет нечет. Но я не хочу быть большинством. По крайней мере, в таких вопросах, как моя вторая жизнь. О! Вот оно и свершилось. Я сам сделал за себя свой выбор. Вторая, так вторая. Будем считать, что первая жизнь умерла. Да здравствует жизнь номер два!
Первым делом выхожу из метро. Иду по улице. Снег, ветер в лицо. Впереди две миниатюрные девушки нашего времени: обтягивающие джинсы, сапоги на ногах-спичках, сумки на полусогнутых руках, тёмные куртки, крашеные волосы до плеч, две сигареты и один разговор на двоих. Вернее, крик души. Одна из прекрасных барышень, бытописуя свои будни, козыряет перед другой всеми матерными словами, которые она знает. Быстро выясняется, что матерный язык она знает на уровне английского, поэтому хрупкой горожанке приходится постоянно повторяться, растиражировав пару нецензурных выражений на весь свой текст. Но её подружку это не смущает. Она энергично поддакивает товарке, используя всё тот же небогатый словарный запас, не забывая курить по ходу движения. Порывы ветра упорно доносят до моей головы сигаретный дым, отзвуки какого-то другого неприятного запаха и жалкие остатки великого и могучего. Моей голове это не нравится, и я легко обгоняю девчонок, лавируя в разнонаправленных, но таких одинаково хмурых людских потоках. Услышав очередной девичий мат, поворачиваю голову, чтобы увидеть тот неумелый милый ротик, который дал ему жизнь. Меня накрывает волна мерзкого запаха, и я вижу, как изо рта моей случайной попутчицы вместо слов льётся вонючая склизкая гниль. Я ускоряю шаг. Чужой гнили мне не надо: мне бы со своей расхлебаться. Но я не могу удержаться и ещё раз оборачиваюсь на таких типичных подружек двадцать первого века, чтобы пронести этот гнилой образ через всю свою вторую жизнь в качестве назидания самому себе.
– Чего уставился? Иди к чёрту!
Прозрачные, еле различимые следы стыдливости, заставили подружку подружки ответить на бесцеремонный взгляд незнакомого человека хотя и грубо, но без мата, что меня нисколько не удивило. Я поспешил исполнить просьбу объекта моих наблюдений. Да, да! Это была просьба, ибо за грубостью формы скрывалась крайняя неуверенность содержания. Если бы барышня знала, что временами я бываю удивительно послушным, она, скорее всего, понадеялась бы на то, что сейчас настало именно такое время, и непременно послала бы меня не «к», а «на». Но барышня не могла знать, что в основном моя покладистость просыпается лишь тогда, когда мои желания совпадают с желаниями других людей, и что это как раз тот самый случай, поэтому она не потребовала, а всего лишь попросила меня убраться к чёрту. К чёрту, так к чёрту. Я киваю случайным подружкам и отправляюсь в гости к нечистой. Для этого мне нужно всего лишь на всего нырнуть в подземный переход.
Ныряю. Переход широкий, длинный и с потугами на творчество. Очередные весёлые ребята с гитарами терзают покойников в надежде, что то, что от них осталось благодаря стараниям постоянно фальшивящих собратьев по переходам, даст самодеятельным певцам по паре бутылок пива на брата. Не имею привычки служить костылём для чьих-то еле ковыляющих надежд, поэтому бодро прохожу мимо протянутой шапки и натянутой похмельной улыбки.
– Мне не до вас, ребята, – вместо денег бросаю на ходу попрошайкам с раздолбанной гитарой, – я тороплюсь, мне к чёрту надо.
Чёрт не бог, к нему можно и опоздать. А опоздаешь – пропустишь что-нибудь интересное, что не входит в мои планы. Я иду по переходу быстро, поэтому преодолеваю его меньше чем за считанные минуты. Только поднявшись по ступенькам на улицу, понимаю, что за то время, которое я провёл в подземелье, мир изменился. Люди всё такие же напряжённые, издёрганные и уставшие. От самих себя. От себе подобных. И от изнуряющей жары, испытывающей город на прочность уже шестые сутки. Вот такой мне достался чёрт. За пару сотен шагов я отмахал как минимум месяцев пять. Люди пялятся на меня, как на пришельца с другой планеты. Я стою посреди знойного города в наглухо застёгнутой куртке с меховым капюшоном на голове. Под моими тяжёлыми ботинками плавится асфальт. Пора прекратить это безобразие. Я освобождаюсь от куртки и ботинок, подворачиваю джинсы и размышляю о том, куда мне двинуть. Мой сегодняшний чёрт отошёл от традиций русских сказок и не позаботился о камне с ценными указаниями. Вот проказник, из-за него придётся выбирать летнее направление наугад. Тащить с собой зимние вещи, которые вмиг стали мне не нужны, я не хочу. Я всегда так поступаю. И не только с вещами. В этой, второй жизни, мне хватает смелости бросать то, что нужно бросить, и я больше не таскаю весь душевный и недушевный хлам на своём горбу. Я оставляю его там, где ему место. На сей раз это место у подземного перехода. Может быть, он пригодится тому, кто решит уйти из лета в зиму. Может быть, это буду я сам. Может быть, кто-то другой. Может быть, кто-то, кем я стану, когда вернусь к этому переходу. Но сейчас мне не нужны зимняя куртка и ботинки с драконьей мордой. Я без сожаления предаю их асфальту и держу свой путь куда глаза глядят.
Бреду по раскалённым венам большого города и думаю, что для моих ног было бы лучше: свариться (останься я в ботинках) или поджариться (продолжи я свои приключения босиком)? И понимаю, что нет у меня никакого желания играться со злом в его любимые игры – выбирать меньшее. Пусть этим занимается кто-то другой, а я заворачиваю в первую попавшуюся обувную лавку, где меня ждёт сюрприз. Оказывается, летом зимние деньги к оплате не принимают.
– А к чему вы их принимаете? – спрашиваю я у продавца.
– Ни к чему, нам эти деньги без надобности, – отвечает мне кассир, потому что ему и скучно, и грустно, и не кому денег подать. А вот продавцу не скучно. Он, поняв, что никаких комиссионных с моей зимней валюты он не поимеет, убежал окучивать следующую потенциальную курицу, которая несёт летние яйца.
– Для туалетной бумаги они жестковаты, костёр в магазине нам разводить пожарные запрещают, для автографа твои бумажки тоже не пригодятся, не заходят к нам селебритис, – размышлял о способах применения денег кассир. Видимо, покупателей в этой лавчонке немного, совсем, бедняга одичал на боевом посту.
– А давно летние деньги перестали принимать? – интересуюсь я.
– Да как на летнее время перешли, так и перестали. Ты чего, из комы только что вышел? – с денег фантазия кассира переключается на меня.
– Да, – не стал я разочаровывать обделённого событиями бедолагу, – буквально пару минут назад. И сразу к вам, за сандалиями.
– Да, не повезло тебе, парень, – неожиданно говорит кассир.
Выйти из комы, по-моему, везение если и не большое, то вполне увесистое, которое легко перевесит невезение пребывания там. Но, кассир, видимо, чихнул на меня и заразил своей логикой.
– Не повезло, – соглашаюсь с ним я. А как тут не согласиться? Летних денег у меня нет ни копейки. Или что нынче в летнем ходу? Про ход я узнать ничего не успеваю, так как моего кассира отвлекает продавец, на аркане притащивший к кассе покупательницу, которой он так умело запудрил мозги своими нелепыми, но очень жаркими комплиментами, что ей ничего не остаётся делать, как поделиться с продавцом ответным теплом, то есть летними деньгами. Чтобы я не мешал опустошать заветный кошель, продавец молча оттирает меня от кассы. Он, конечно, молчит только в мою сторону, а в сторону покупательницы он извергает тонны слов, которые она готова обменять на деньги. Товар (лесть и прочее фуфло) – деньги (деньги) – товар (обутки и прочее фуфло). Вечная формула успеха. Но босому человеку она не указ, и я выхожу из этого обувного притона.
Свет режет глаза, асфальт режет ноги, звук проносящегося где-то над моей головой поезда режет слух. Весь изрезанный, истекая собой, я быстро передвигаюсь то на пятках, то на носках, озираясь в поисках спасительной прохлады и тишины. Бесплатных оазисов на моём горизонте не оказывается, и мне приходится довольствоваться скамейкой, которая хотя и стоит не в тени, но зато находится далеко от жэдэ моста и грохочущих по нему сороконожек-сороковагонок. Я лежу на скамейке не более пяти минут, а меня уже накрывает сонливое состояние, которому я не в силах, то есть, не в желаниях, противостоять. Последнее, что я вспоминаю, окунаясь в прохладу сна, это то, что воспитательница в детском саду говорила, что на солнце спать вредно. Но, во-первых, я сплю не на солнце, а на скамейке, а во-вторых, я же уже не в детском саду и могу забить на слова воспитательницы, не опасаясь неприятных последствий. И я с удовольствием забиваю.
Просыпаюсь от того, что кто-то с удовольствием забивает меня. Я, как вий, силюсь открыть глаза, но никто не торопится поднимать мне веки. Мне упорно пинают по почкам, но глаза от этого открываться почему-то не хотят. Трясу головой в надежде, что глаза откроются сами. Вместо этого открываются мои уши, и я слышу:
– У него нет ни одного долбанного рубля!
– Конечно, нет! Его кто-то отоварил до нас.
– По-твоему, мне должно от этого легче стать?
– А по-твоему, тебе станет легче от того, что ты сядешь?
Я мысленно благодарю этого умника, который силой слова раскрыл над моими почками зонт и укрыл от града пинков своего собеседника, не выдержавшего встречи с пока ещё виртуальной решёткой. Она настолько увлекла его небогатое воображение, что он совершенно забыл о своей жертве, что мне на руку (или на почку, или даже на обе).
– Чего это я вдруг сяду?
– Того это. Если продолжишь его пинать, запинаешь до смерти. Уж я-то свои ботинки знаю, – усмехнулся человек с зонтиком.
– И чего? – всё ещё сражаясь с невидимой решёткой спросил обладатель чужих ботинок.
– Того. Десять лет тебе дадут за убийство.
– За какое это убийство?
– За такое это убийство. Или ты ещё кого-то успел замочить, пока меня не было?
– Никого я не мочил, ты же меня знаешь!
– Знаю. Потому и спрашиваю.
– Не понял?
– Неважно. Потопали отсюда, пока эта падаль не сдохла и на нас её не записали.
Я получаю прощальный пинок в висок и отключаюсь, не успев подумать о том, включусь ли я ещё когда-нибудь во второй жизни, или бесславно отправлюсь прямиком в третью. Какое-то время я упорно валяюсь без сознания, а потом…
День тридцать второй
Я прихожу в себя от того, что кто-то хлещет меня по щекам. На сей раз глаза открываются быстро, и я вижу перед собой мужика в чёрной шапке и в чёрном халате с чёрной биркой, на которой что-то написано мелкими белыми буквами. Если бы не цвет одежды, он вполне мог бы сойти за врача. Вижу его белоснежную, ободряющую улыбку и обвожу глазами окружающее пространство. Оно чёрного цвета. Всё. «Неужели, преисподние всё же существуют», – думаю я и сглатываю слюну, готовясь задать свой первый вопрос. Но мужик меня опережает:
– Как самочувствие?
– Пока не знаю, – отвечаю.
– Люблю честных пациентов, – улыбается мужик, – пошевелите правой рукой.
С трудом, но послушно шевелю. Рука шевелится, а я пытаюсь разглядеть надпись на чёрной бирке моего визави, но изображение лишено чёткости. Может быть, сказывается сотрясение мозга?
– А теперь поиграйте пальчиками, – требует чернохалатник.
Пальчиков у меня нет, поэтому приходится играть пальцами. Думаю, что справляюсь неплохо, хотя моментами проскальзывает ощущение, что пальцы играются сами по себе, независимо от моего желания. Это ощущение отвлекает меня и от бирки, и от её обладателя, но он не даёт отвлечься.
– Прекрасно! – восклицает мужик, – рука и пальцы хорошо прижились, поздравляю!
– В каком смысле? – в голове стоит такой же туман, что и в глазах, поэтому соображаю я примерно так же как вижу, то есть плохо.
– В прямом, голубчик, в прямом, – вторит сам себе мужик, – у вас была полностью отморожена правая рука, и нам пришлось её отрезать.
– А левая?
– Левая пострадала гораздо меньше, ведь Вы лежали на ней и согревали её своим телом. Поэтому с Вашей левой рукой нам возиться почти не пришлось. А вот с правой были проблемы, но мы их полностью разрешили. Конечно, Вам повезло, что в нашем распоряжении оказалось сразу два подходящих материала. Такое бывает не часто, так что Вы, в определённом смысле, везунчик.
– Почему? – в голове было всё также туманно и нужные вопросы не находились.
– Потому что нам удалось пришить Вам чужую руку и чужие пальцы и, как видите, они прекрасно прижились.
– А нельзя было мне пришить только чужую руку?
– Вы предпочитаете иметь правую руку без пальцев? – удивляется доктор.
– Нет, руку я хочу с пальцами, только не понимаю, зачем к чужой руке нужно было пришивать пальцы, чтобы потом её пришить ко мне? Она что, была без пальцев?
– Вы на удивление хорошо соображаете, – доктор радуется как ребёнок, – это надо отметить в истории болезни.
Он вынимает из кармана диктофон и что-то говорит в него на латыни. А может быть, на каком-то другом языке, которого я тоже не знаю. Заметив выражение моего лица, доктор улыбается:
– Не обижайтесь, голубчик. Я не хотел Вас обидеть, я просто не до конца выразил свою мысль. Вы удивительно хорошо соображаете для Вашего нынешнего состояния, вот что я имел в виду.
– Из-за чего я должен плохо соображать, доктор?
– По правде сказать, я не знаю, как именно Вы должны соображать, – в голосе доктора появляется некая торжественная нотка, – Ваш донор, конечно, не был идиотом, но такая операция была проведена мной впервые и я не знаю, насколько быстро Ваши новые части тела найдут общий язык между собой. Но я уверен, что всё будет в порядке.
Меньше всего мне сейчас хочется думать о порядке.
– Что значит «новые части тела»? – спрашиваю я не своим голосом.
– Мы пересадили Вам новые пальцы и новую руку, – говорит доктор.
– Это я уже знаю, – говорю я. Несмотря на туман в голове, я всё же понимаю, что ни рукой, ни пальцами я раньше не думал.
– А также новую почку, и я должен сказать, что это было самой простой частью нашей операции. Если попадается подходящий донор, с пересадкой почки никогда не бывает никаких проблем. А Ваш донор идеально Вам подходил, так что теперь у Вас есть новая почка, которая прекрасно работает и прослужит Вам долгие годы.
– Я не почками думаю, доктор. Ни левой, ни правой.
– Вы, безусловно, правы, голубчик. Кроме почки мы пересадили Вам новую голову.
– Что?! – мой голос снова мне кажется не моим.
– Новую голову, голубчик, – отвечает милый доктор и ещё раз повторяет, – Мы пересадили Вам новую голову.
Моя новая голова отказывается верить в то, что она слышит.
– Это же бред, – говорю я.
– Это не бред, голубчик, это нобелевская премия в области медицины.
У меня новая голова, а он думает о какой-то премии!
– Чья у меня теперь голова? – спрашиваю я, понимая, что это глупый вопрос. Ведь того, о чём говорит мой чёрный доктор, не может быть. Или может?
– Голова, безусловно, Ваша, – серьёзно отвечает доктор.
Значит, всё же не может. «Оно и к лучшему, – думаю я, – моя голова мне определённо нравится и у меня нет никакого желания менять её на другую.
– Теперь Ваша, – продолжает доктор, – после того, как операция закончилась, все новые органы стали целиком и полностью Вашими. Конечно, в научном мире до сих пор продолжаются дискуссии по поводу такой части тела, как голова, но какой бы теоретической точки зрения мы сейчас не придерживались, результат будет один.
– Какой? – моя новая голова, по всей видимости, всё же не очень хорошо соображает.
– Единое тело, разумеется, – улыбается чёрный мужик, – поэтому кому бы ни принадлежали его части в прошлом, в настоящем дело обстоит так, что все эти части суть единое целое и это целое – Вы, поэтому все части тела Ваши, чьими бы они не были в недалёком прошлом.
Было бы отлично, если бы этот мужик так же хорошо жонглировал частями тела, как словами. Нужно это проверить. Новой почкой я подвигать не мог, новой рукой и новыми пальцами уже подвигал, пришла пора поиграть новой головой. Думать о том, что она не моя, не хочется, посему интеллектуальные развлечения я оставляю на потом и слегка приподнимаюсь на постели. Доктор бросается мне помогать.
– Правильно, голубчик. Вам нужно понемногу начинать двигаться, а то мышцы без движения могут атрофироваться, и вся наша работа пойдёт насмарку.
«Ну, не лишать же человека нобелевской премии», – думаю я и с помощью эскулапа кое-как сажусь на кровати. Сидеть почему-то не очень удобно, но голова двигается хорошо, как пришитая. «Чёрт с ней, – решаю я, – раз уж мне её пришили, придётся с ней жить». Однако, прежде чем взглянуть на свою новую голову, неплохо было бы всё же узнать её родословную.
– А кому моя голова принадлежала раньше? – абсурднее вопроса я в жизни никому не задавал.
Но доктор, возвратившись на стул, снова смотрит на меня одобряюще-ободряющим взглядом и всем своим видом показывает, что мой вопрос вполне естественен и ни капельки не абсурден.
– Вашему брату.
Хорошо, что я сижу. Но, наверное, было бы лучше, если бы я продолжал лежать, а не шёл на поводу у премии доктора. Мало того, что у меня теперь новые органы, мужик в чёрном халате парой слов легко одаривает меня и новым родственником.
– У меня нет братьев, – я отказываюсь от дарёного коня.
– Теперь действительно нет, – соглашается со мной доктор. Видимо, им читали курс психологии больных людей, который предписывает по возможности соглашаться с тем, что говорят их подопечные.
– Но раньше у Вас был брат-близнец, его голову мы Вам и пришили, – доктор продолжает театр абсурда, как ни в чём ни бывало.
– Вам пришлось меня убить? – спрашиваю я и понимаю, что не понимаю, чьей головой я задал этот вопрос.
Доктор, по всей видимости, всё прекрасно понял.
– Нет, конечно. Вашего брата мы не убивали. Он попал в автокатастрофу, в результате чего потерял все свои конечности, кроме головы. Не выдержав такого удара судьбы и не желая быть растением в человеческом обличье, он покончил жизнь самоубийством, предварительно вызвав к себе нотариуса, который заверил его завещание. По этому завещанию Ваш брат пожелал, чтобы остатки его тела после смерти заморозили и использовали в медицинских целях, то есть для пересадки его органов всем нуждающимся. К моменту, когда Вы поступили в нашу клинику, от Вашего брата осталась только голова.
– Очень удачно получилось, – говорю я, слегка двигая тазом. Мне определённо неудобно сидеть на этой кровати, – Вы не находите?
– Безусловно, нам с Вами очень повезло, – отвечает доктор, – это единичный, уникальный случай в медицине, и мы с Вами войдём в историю.
По-моему, я не вошёл в историю, а вляпался в неё, но смысла делиться этим откровением с доктором, занёсшим кулак, чтобы постучаться в дверь нобелевского комитета, нет. Что-то другое царапает моё сознание, и я задаю своему собеседнику следующий вопрос.
– А как он покончил с собой? У него же не было ни рук, ни ног.
– Понимаю Ваше недоверие. Ситуация действительно небанальная, – говорит доктор, – Ваш брат уговорил одну из наших медсестёр, и она из жалости дала ему смертельную дозу транквилизаторов.
– Мой брат лежал в Вашей клинике?
– Удивительное совпадение, не правда ли? – улыбается доктор. – Именно благодаря этому совпадению Вы до сих пор живы.
Доктор явно напрашивается на комплимент, ведь одного этого совпадения не достаточно. Нужно было, чтобы кто-то пришил мне то, что осталось от моего брата, но у меня нет желания почёсывать его самолюбие. Думаю, он и сам неплохо справляется с этой задачей.
– Что стало с этой медсестрой?
– С Верочкой Пановой? Ничего. Мы не стали поднимать шум и в милиции сказали, что кто-то случайно оставил транквилизаторы у кровати Вашего брата. Они пытались найти того, кто это сделал, чтобы наказать его за халатность, но у них ничего не вышло. У нас очень дружный коллектив. Надеюсь, голубчик, Вы не станете требовать наказания для Верочки? Если бы не её мужественный шаг, Вам бы не поздоровилось.
Мне и так не очень-то здоровится, но до Верочки Пановой мне сейчас дела нет. Как нет дела и до моего брата-близнеца с его удивительной судьбой. И до доктора с его врачевательной улыбкой. Сейчас мне есть дело только до себя. Мне как-то муторно. Зрение никак не наладится. Туман в голове никак не рассеется. А кроме всего прочего я чувствую себя как принцесса на горошине, мне что-то явно мешает сидеть.
– Вам нехорошо? – улавливает доктор моё настроение.
– Да, как-то не очень, – я не вижу причины скрывать своё состояние.
– Вам нужно отдохнуть, голубчик, я Вас заболтал.
Кроме внутренних мерзопакостных ощущений, мне не нравится чёрная окружающая действительность. Все эти чёрные стены, чёрный пол, чёрный потолок, чёрная мебель, чёрное постельное белье и наша с доктором чёрная одежда наводят на меня тоску.
– Почему здесь всё чёрное? – спрашиваю я у доктора, который помогает мне улечься.
Доктор опять улыбается.
– Это новый метод терапии. Он применяется в лучших зарубежных клиниках уже несколько лет, но мы приняли его на вооружение совсем недавно. Тем не менее, он даёт потрясающие результаты. Больным настолько не нравится эта давящая чернота, что они поневоле мобилизуют все силы своего организма, чтобы поскорее отсюда сбежать. Вам это тоже поможет, вот увидите. А пока расслабьтесь и постарайтесь уснуть.
Стараться, чтобы заснуть, мне особенно не приходится, глаза закрываются сами собой, но я ещё успеваю спросить:
– Сколько времени я здесь?
– Вы здесь ровно тридцать один день, голубчик. А теперь спите, я позже к Вам ещё загляну.
И я послушно засыпаю, даже не подумав о том, что тридцать один день из своей второй жизни я потерял.
День тридцать третий
Я сплю в чёрной комнате на чёрной кровати в чёрной пижаме, и снится мне чёрный сон. Досмотреть и запомнить его я не успеваю, потому что меня будит мой добрый доктор в чёрном прикиде.
– Голубчик, просыпайтесь, Вам пора на обследование.
– Я хочу есть.
– Понимаю, но сначала нужно провести обследование. Обещаю Вам, оно будет не долгим, а после него Вы позавтракаете.
Такая перспектива меня не вдохновляет.
– Я хочу жрать, доктор.
– Я понимаю разницу между «есть» и «жрать», голубчик, но все анализы нужно сделать на голодный желудок. Могу Вас утешить, я тоже ещё не завтракал.
Смешной человек. Кому сейчас есть дело до других людей? Чужие горести не могут увеличить моё горе, уменьшить мою радость, облегчить страдание или кошелёк. Когда я очень голоден, я слышу только один голос – это голос моего желудка, требующий жратвы. Я спешу разочаровать доктора. Не комментируя его голод, сконцентрировав внимание на своём, говорю:
– Сейчас меня может утешить только большой кусок мяса.
– Чем быстрее Вы переместитесь со своей кровати на эту каталку, тем быстрее Вы получите свой завтрак.
– Значит, это будет не мясо, – понимаю я и делаю попытку переместиться, как того хочет доктор и мой желудок.
– Да, на завтрак мясо вредно, – мягко говорит доктор и, видя, что моя попытка переместиться с кровати с ножками на кровать с ножками и колёсами безуспешна, достает из кармана свисток и оглушительно свистит.
Под такой свист я точно перемещаться не буду, несмотря на все протесты моего желудка. Зато под этот свист в комнату передвигаются два дюжих молодца, оба, разумеется, в чёрном. Они молча складывают меня на каталку и так же молча покидают мою палату. Доктор вчера не врал – коллектив у них действительно дружный. И немногословный. Не удивительно, что милиции не удалось узнать правду о смерти моего брата.
Меня везут на чёрной каталке по чёрным коридорам, а я думаю о том, что наличие в моём недавнем прошлом брата-близнеца, меня не удивляет и не вызывает ни вопросов, ни чувства протеста, которое так для меня характерно (термин, заимствованный мною из нескольких характеристик, выданных мне несколькими учебными и не учебными заведениями по месту требования; где то место, я до сих пор не знаю, как впрочем, и где теперь все эти характеристики). Не в том ли проблема, что у меня теперь его голова, которую этим фактом ни удивить, ни раззадорить?
Каталка вместе с доктором и со мной делает резкий поворот, и моя правая рука вцепляется в перила, страхуя меня и себя от падения. Между тем моей левой руке, по всей видимости, наплевать, навернусь ли я с каталки или нет, потому что она остаётся спокойно лежать там, где лежала всю дорогу, рядом с левым бедром. В мою новую голову приходит мысль что, возможно, дело в том, что моя новая правая рука не моя, поэтому она действует сама по себе, повинуясь импульсам своего прежнего хозяина. Даже двух хозяев. Ведь пальцы-то не её. То есть, не моей руки, которая тоже не моя. Устав от размышлений о нестандартном поведении моих новых частей тела, которые с одной стороны мои, а с другой вроде и не мои, я возношу хвалу моей новой почке, которая, хвала не знаю кому, ведёт себя прилично, не привлекая к себе моего внимания.
Тем временем мы добираемся до процедурного кабинета, где я получаю ещё одно подтверждение тому, что с моей правой рукой и с моими правыми ручными пальцами дело нечисто. Они ведут себя так, как будто я отправил их на каникулы в деревню к глухой и слепой бабке, где они предоставлены сами себе. А в деревне моя правая рука, как оказалось, любит щупать девок за задницы. В кабинете ей попалась только одна девка, она же медсестра, в наглухо застёгнутом мешкообразном чёрном халате. Ни тебе разреза снизу, ни декольте сверху, ни распущенных по обворожительным плечам волос. Я вообще не знаю, есть ли у неё волосы, потому что вся та поверхность, которую они могут занимать, задраена непонятной формы шапкой вполне понятного чёрного цвета. Я даже не знаю, есть ли у неё уши, ибо они или их отсутствие сокрыты от меня всё той же шапкой. Не уверен также, есть ли у неё нос и есть ли ей чем дышать, кроме рта. Всё её лицо, кроме глаз, закрыто повязкой, естественно, чёрного цвета. Вот интересно, если эта славная медсестра себя увидит во сне, она сильно испугается или просто вскрикнет от неожиданности? То, что это медсестра, а не медбрат, я понимаю только, когда доктор называет её милочкой. Каким бы дружным у них ни был коллектив, вряд ли доктор будет обращаться к медбрату, используя слово «милочка». Не успеваю я додумать эту мысль, как моя правая рука охватывает прелестную попку милой сестрички. А какой она ещё может быть, если я ни одной женской задницы не видел уже больше месяца? А моя правая рука, по всей видимости, и того больше, вишь как оголодала. Но, то ли от голода, то ли от того, что глазомер моей новой головы далёк от совершенства, а скорее всего от того, что мне ещё не приходилось иметь дело с чёрными балахонами до пят и без подсказок в виде выпуклостей я плохо ориентируюсь, где у балахона может быть задница, моя правая рука промахивается. Тут я понимаю, что у медсестры есть рот и что это действительно медсестра, а не медбрат, потому что она истошно орёт. От неожиданности доктор роняет причиндалы, которыми он орудует для снятия показаний. Я мужественно не ору, несмотря на лёгкие порезы.
– Что же Вы так кричите милочка? – спрашивает ошарашенный доктор.
– Он меня лапает! – с негодованием говорит чёрный балахон, замаскировавшийся под медсестру.
– Это не я, доктор, – искренне говорю я, – а моя правая рука. Та, что Вы мне сами пришили. Я не могу отвечать за её действия.
– Она двигалась произвольно? – с живейшим интересом спрашивает меня доктор, не обращая никакого внимания на возмущённую медсестру.
– Совершенно произвольно, доктор, – подтверждаю я, снимая с себя всякую ответственность.
– Это поразительно! – умиляется доктор, – я изучаю этот феномен уже давно и в каждом случае нахожу подтверждение своей теории о том, что остаточные рефлекторные импульсы сохраняются в ампутированных конечностях довольно длительное время, от одного до двух месяцев. Из этого правила я не знаю ни одного исключения! – восторгу доктора нет предела.
– Это поразительно, – бубнит сквозь повязку медсестра, – мужчины всегда найдут оправдание для своего скотского поведения.
«Подумаешь, за ляжку пощупали», – думаю я и понимаю, что если рука и не моя, то всё же родная, и преисполняюсь благодарности закамуфлированной под чёрный бессердечный мешок медсестре-недотроге. Благодаря её псевдонравственности я принял чужую руку как свою собственную. Никакие слова восхищения статистикой поведения пришитых конечностей, произносимые доктором, не сделали бы мою руку и мои пальцы мне ближе так, как сделал этот крик яростного негодования по столь пустячному поводу.
Чёрные медики продолжают своё чёрное дело в чёрной процедурной. Только инструменты радуют глаз своим естественным металлическим блеском. Как они не догадались перекрасить и их, я не понимаю. Как не понимаю и того, что мне мешает лежать на чёрной каталке, пока меня в меня тычут иголками и измеряют всё, что человечество научилось измерять в человеческих телах за всю историю своего существования. Чтобы отвлечься от процедур, я думаю о своём брате. Именно эта тема меня занимает сейчас больше всего.
Раньше у меня никогда не было брата. Не было и мыслей о том, хорошо это или плохо иметь брата-близнеца. Нет человека, нет проблемы, то есть мыслей о нём. Так я думал до сегодняшнего дня. А теперь вот у меня снова нет брата, а мысли о нём есть. Благодаря Генриху Карловичу. Оказалось, что моего голубчика-доктора зовут именно так, по крайней мере мысленно отблагодарённая мною медсестра. Как интересно, звали моего брата? Какую колбасу он любил? Как звали его собаку, если она, конечно, у него была? А может, у него была не собака, а жена? И у них были, в смысле есть, дети? То есть, мои племянники. Эта мысль мне определённо не понравилась. Я легко смирился с мёртвым братом, но с новыми, живыми кровными родственниками мне мириться не хотелось. Это тебе не новая почка, которая плавает где-то внутри тебя и помалкивает. И не новая рука с новыми пальцами, которые периодически напоминают, что когда-то не были твоими. И даже не новая голова. «Это живые люди, которых тебе, конечно, не пришьют, – подумал я и мысленно сплюнул через левое плечо, вспомнив искорки в глазах доктора при разговоре о нобелевской премии, – но которые могут легко втянуть тебя в совершенно не нужные тебе отношения». При мысли о возможных отношениях с новыми родственниками меня передёргивает.
– Ну, что Вы, голубчик, это же совсем не больно, – успокаивает меня Генрих Карлович, думая, что мой взбрык вызван очередной иголкой, которую он воткнул мне в череп, и не подозревая о том, что я только что чуть не стал дядей.
– Вы доктор, сами не знаете, что говорите, – отвечаю ему я, не пускаясь в объяснения, чтобы не сделать гипотетических родственников более осязаемыми. «Нет мыслей, нет проблемы, то есть человека (он же племянник/ца)», – думаю я и переключаюсь на Генриха Карловича, который заканчивает забор данных и отсоединяет меня ото всех чёрных приборов.
– Вот и молодцом, голубчик. Все Ваши мучения уже позади, Люсьена Милентьевна отвезёт Вас в палату, где Вас ждёт завтрак.
«Видно, дружный коллектив подбирался исключительно по именам-отчествам», – думаю я, пока Люсьена катит меня по чёрным коридорам к моему первому сознательному завтраку за тридцать с лишним дней. Отчество я ей оттяпал за её вредность и нетерпимость к ближнему, который всего лишь тактильно выразил ей своё восхищение, несмотря на её ужасно безвкусную одежду. Люсьена мстит мне с помощью свистка, который на мой слух, звучит ещё более пронзительно, чем у доктора. Она даже не удосуживается сама закатить меня в палату и едва дожидается появления медбратьев, которым перепоручает меня нетерпеливым движением руки.
Два брата молодца, одинаковых с лица, принимают меня под своё крыло, быстро переправляют в палату, перекладывают с носилок на кровать и молча исчезают. Я начинаю думать, что они немые. Но думаю не долго, потому что на чёрном подносе меня ждет чёрная еда. Не спрашивайте меня, как они это сделали, но они это сделали. Моя манная каша, молоко и даже яичный желток оказались чёрными, не говоря уже о чае и хлебе с икрой. На вкус чёрный завтрак совершенно обычный, и я даже немного расстраиваюсь по этому поводу. Быстро насытившись, я откидываюсь на подушку и снова чувствую, как что-то мешает моей заднице умиротворённо наслаждаться послевкусием завтрака. Пора с этим покончить. Я приподнимаю свой таз и шарю рукой по кровати. То, что я нащупываю и извлекаю из-под себя, меня, мягко говоря, удивляет. После того, как я понимаю, что моя находка не просто завалялась на больничной койке, а является частью моего тела, я начинаю думать, что мой мёртвый брат щедро напичкал свою голову галлюциногенами непосредственно перед тем, как уговорить Верочку Панову свершить исторический акт милосердия, который должен вывести Генриха Карловича в нобелевские лауреаты.
То, что я нахожу ни один нормальный человек, даже если его несколько раз перекроят вдоль и поперёк, найти не может. Но я нахожу. Я нахожу у себя хвост. Он торчит из моей задницы, как будто так и надо. Как будто я с ним родился. Я-то думал, что в этой чёртовой чёрной больнице у меня развился комплекс принцессы на горошине, совершенно неподобающий лицу мужского пола, а всё оказывается гораздо проще. Никаких комплексов: это всего-навсего хвост. Обычный тигриный хвост, длиной сантиметров семьдесят, не больше, правда, необычного цвета – белого. Я думаю, это всё от того, что мне надоел чёрный цвет, окруживший меня со всех сторон. Это мой протест против чёрной реальности, в которую меня занесло. По крайней мере, цвет хвоста определённо является протестным, а вот само наличие хвоста меня озадачивает. Я начинаю строить разные версии того, как я заделался носителем шикарного хвоста белого тигра.
Первое, что мне приходит в голову, это то, что хвост мне пришили. Ради нобелевской премии Генрих Карлович и его сердобольная подружка Верочка пойдут на что угодно, даже на такой звериный эксперимент. Интересно, дают ли премии за пересадку тигриных хвостов? Думаю, вряд ли. Ведь, чтобы пересадить хвост, его где-то нужно взять. А где можно взять тигриный хвост? Правильно, его можно оттяпать у тигра. Или у тигрицы. «Вот чёрт, неужели мне пришили женский хвост», – думаю я и внимательно осматриваю свой новый пушистый орган. Понятия не имею, чем женский хвост отличается от мужского, но прихожу к выводу, что мой хвост абсолютно точно мужской. Это меня немного успокаивает, и я продолжаю размышления. Итак, мой хвост оттяпали у какого-то белого тигра, который, если мне не изменяет память, должен водится в Индии. Значит, оттяпанный хвост нужно было привезти контрабандой из Индии и доставить в ту клинику, где я сейчас нахожусь. То, что хвост привезли контрабандой, у меня не вызывает никаких сомнений, ибо хотел бы я посмотреть на реакцию таможенника (хоть индийского, хоть нашего), которому бы предъявили белый тигриный хвост с сопроводительными документами примерно следующего содержания: «Настоящая справка дана предъявителю, дабы засвидетельствовать тот факт, что такого-то числа сего года в муниципальном зоопарке города Мумбаи номер пять, была проведена операция по удалению левого хвоста самца тигра по кличке Снежок. Решение об операции было принято расширенным консилиумом ветеринаров „Главной ветеринарной службы г. Мумбаи“ и одобрено мэром города (см. отметку канцелярии мэрии ниже). Ввиду вышеизложенного, предъявителю справки дано право на использование левого хвоста Снежка по его (предъявителя) усмотрению в течение десяти лет (считая с даты выдачи настоящей справки), включая право на вывоз и обратный ввоз хвоста из/на территорию Индии, при условии сохранения внешнего вида хвоста без каких-либо изменений (с учётом естественного износа). По истечении десяти лет, предъявитель обязуется вернуть левый хвост Снежка в администрацию зоопарка номер пять города Мумбаи. Дата, подпись уполномоченного лица органа, выдавшего справку, отметка канцелярии г. Мумбаи, подпись предъявителя и его паспортные данные, приложение.».
Что прикажете делать таможеннику с такой справкой, кроме неоднократного прочтения, копирования и робких звонков начальству? Ах, да, забыл сказать, в приложении содержится фотография левого хвоста самца тигра по имени Снежок. Значит, таможенник ещё может развлечься сравнением предложенного к таможенному оформлению хвоста с его (хвоста) фотографией, не увеличивая, однако естественного износа хвоста. Итак, хвост сравнён со своей фотографией, естественный износ справки существенно возрос в результате неоднократного просмотра компетентными лицами, но делать нечего: хвост приходится пропускать через границу. Так или иначе, с помощью мифического двухвостого тигра или без оной, хвост оказался в клинике, практически не подвергшись естественному износу, готовый к немедленному использованию по прямому назначению. И Генрих Карлович его использует, пользуясь моей полной бессознанкой. Хорошо это или плохо, я судить не берусь, ибо не знаю, на что способен мой хвост (как в положительном, так и в поганом смысле этого слова).
В палату никто не заходит, поэтому я приступаю к освоению хвоста. Чем думать о том, кто виноват, лучше заняться поиском ответа на вопрос что делать. Для этого нужно думать не том, как всё случилось, а что с этим всем делать, то есть попытаться извлечь из хвоста максимальную пользу. А какая может быть в хвосте польза? Эх, поболтать бы с белым тигром, расспросить его, что да как. Но, боюсь, в этой клинике тигр если и есть, то чёрный. Поэтому придётся рулить хвостом самому. Тем более что, как говорил мой чёрный лечащий врач Генрих Карлович, чем бы ни были мои части тела до настоящего момента, хоть головой неизвестного мне брата-близнеца, хоть хвостом неизвестного мне белого тигра, теперь они суть я, а значит, я могу делать с собой всё, что угодно.
Я пытаюсь шевелить хвостом. Очень странные ощущения возникают, знаете ли, когда ты пытаешься привести в движение то, чего у тебя раньше никогда не было. Вот если я когда-нибудь стану ангелом и обнаружу за своей спиной крылья, мне будет проще справиться с ними, несмотря на то, что у меня их никогда не было. Ведь за спиной у меня будут не только крылья, но и опыт освоения чуждых мне ранее частей тела. А пока беспомощно кручу задницей, пытаясь заставить мой новый хвост совершить хотя бы одну фигуру пилотажа. Отдельно от задницы мой хвост, увы, не работает. Это мне не нравится. Я уже готов высказать свои претензии Генриху Карловичу. «Что это за дела, доктор, – скажу я ему, – хвост пришили, а он ни черта не функционирует! Вот если бы он работал как надо, тогда, пожалуйста, я бы ни словечком вас не обеспокоил, а так – спарывайте его на фиг!»
Генрих Карлович, по всей видимости, решил не давать мне возможности произнести мою речь, достойную церемонии вручения оскара, потому как время шло, а в палате он не появлялся. Скорее всего, Генрих Карлович сейчас копается в моих анализах или стоит над душой какого-нибудь лаборанта, который не видит ни одного из пациентов снаружи, но каждый день изучает, как они устроены внутри.
Делать мне совершенно нечего: хвост не работает, права рука с правыми пальцами работает сама по себе и во мне не нуждается, голова работать отказывается. «То тридцать с лишним дней от тебя ни слуху, ни духу, – обидчиво заявляет мне моя (бывшая братова) голова, – то думай беспрерывно о всякой чепухе». Это она хвост чепухой называет. Как мою голову называет мой же хвост, я не знаю, потому что воображение – это часть головы, а она, как вы уже поняли, объявила забастовку на предмет шевеления извилинами. Нужно её чем-то развлечь.
Радио в палате нет, телевизора тоже. Могли бы поставить хотя бы чёрно-белый ящик, в традициях, так сказать, заведения. В поисках мало-мальского развлечения шарю по палате глазами, которые обрели, наконец, приличную чёткость зрения, и понимаю, что все стены моего то ли прибежища, то ли узилища, оказывается, увешаны картинами. Точнее, плохими копиями одной и той же картины. Не трудно догадаться, что это чёрный квадрат Малевича. Что это за клиника, в которой чёрные стены украшают чёрными квадратами? Это всё, что я успеваю подумать, застав свою голову врасплох. Она быстро выкарабкивается из расплоха и снова отказывается думать. Приходится ублажать её газетами и журналами, которые я нахожу на тумбочке. В основном это профессиональная медицинская литература, пестрящая длинными (трудночитаемыми) словами, короткими (латинскими) словами, аббревиатурами (преимущественно англоязычными), фотографиями (мелкими), графиками (крупными) и прочей околонаучной символикой. Что примечательно, даже в журналах нет цветных картинок. Вся медицина в этой клинике выдержана в строгих, чёрных тонах. Самым интересным среди этой макулатуры оказались некрологи в одной из газет. В них были написаны понятные простому смертному слова о том, какими прекрасными специалистами были те, кто нынче примеряет ангельские крылья. А как же иначе? Ведь они были не только прекрасными медиками, но и заботливыми матерями, добрыми отцами, радушными сёстрами, внимательными братьями. Читаю и удивляюсь. Почему бог, который, как говорят, любит немедленно призывать в своё царство лучших из лучших, не забрал их к себе раньше (большинство газетных мертвецов перешагнули семидесятилетний рубеж), если они были такими замечательными людьми? Или они стали таковыми только после смерти и только на страницах специализированных газет? Пожалуй, так и есть, ведь бог не может ошибаться, даже если его вдруг нет. Моя голова, утомившись от медицинской терминологии, вернулась в стан размышляющих. Кому нужно это враньё в некрологах? Тем, кто умер, всё равно, что о них прочитают там, где их нет. Возможно, я просто не в курсе, и газеты с некрологами доставляются на небеса? Я думаю, что если я проведу ещё дней пять в палате с плохо сделанными квадратами Малевича, то точно это узнаю. А пока неплохо было бы что-нибудь съесть. Часов в палате нет, и я понятия не имею, сколько времени я предавался размышлениям о своём хвосте и о прочих, таких же бесполезных вещах. Но этого времени хватило, чтобы я проголодался.
Я пытаюсь встать с кровати, чтобы отправиться на поиски столовой, но не могу. Резкое движение вызывает к жизни тьму мошек, которые с остервенением пляшут у меня перед глазами. Я отступаю перед этой мельтешащей двукрылой ордой и проваливаюсь то ли в сон, то ли в беспамятство.
Это состояние настолько захватывает меня, что я не слышу, как в палату входит медсестра в чёрном халате. Если бы я не был в ауте, я бы прочитал белые буквы на её бирке, которые гласили, что фамилия её Панова, а зовут её Верочка. Именно так, белым по чёрному, написано на её бирке, но я этого не вижу: я в отключке. Верочка подходит к моей кровати, ставит принесённый поднос с лекарствами на тумбочку поверх некрологов, которые развлекали меня некоторое время назад, и заботливо поправляет одеяло, пристально вглядываясь в моё лицо. Наверное, она видит перед собой человека, которого она так милосердно убила какое-то время назад. Вероятно, это решение далось ей нелегко, но ещё труднее ей смотреть на мою физиономию сейчас. Что она думает, глядя на пациента, которого она отправила к праотцам, будучи уверенной, что никогда больше не увидит его глаз. Глаз, которые молили её об облегчении страдания. Глаз, которые так явно опровергали просьбу об убийстве, неоднократно произнесённую опухшими губами. Глаз, которые верили, что она в состоянии им помочь, и найти иной путь, чем путь к могиле. Что она могла предложить этим глазам? Она, которая не была ни господом богом, ни святой, ни даже врачом? Что она могла сделать, чтобы не видеть эту мольбу, на которую она не могла откликнуться ничем, кроме доброго слова, ибо только это и было в её силах. Ах, да. Я забыл о лошадиной дозе транквилизаторов. Вот выход для человека, который больше не может страдать от собственного сострадания. Что поделаешь, если некоторые медсёстры слишком чувствительны для своей профессии?
Что она могла поделать, если она не могла больше выносить этих взглядов, полностью состоящих из одной отчаянной мольбы. Ведь больше за душой у её пациента ничего не осталась. Только надежда и вера в то, что такая милая сестричка в чёрном халате сможет сотворить чудо, на которое не способны лучшие доктора местной клиники. И она его совершила. Она нашла способ избавить себя от страданий. Она поверила в то, во что не должна была верить, но во что не верить у неё не хватило духа. Она поверила в слова измученного болью человека, который не знал, как выразить словами то, что так ясно показывали его глаза. Словами он говорил одно, глазами – другое. И она поверила словам. Ведь это было куда проще, чем каждый день сталкиваться с тем, что ты не можешь помочь ближнему своему. Она корила себя за слабость, убеждая себя, однако, что это была вовсе не слабость, а самое настоящее мужество. Верочка Панова корила себя за то, что у неё хватило мужества убить человека, взгляды которого она больше не могла выносить. Пусть она будет проклинать себя до конца своих дней, зато она смогла помочь человеку, которому никто, кроме неё, помочь не мог. Пусть ей будет больно от того, что к ней навсегда приклеится ярлык «убийцы», но эта боль не идёт ни в какое сравнение с той болью, которую она испытывала, глядя на страдания моего брата-близнеца. И разве можно её судить за то, что из двух зол она выбрала меньше. Меньшее для себя. Чем было это зло для моего брата можно только гадать. Но я уверен в том, что он не хотел смерти, несмотря ни на что. Даже на то, что его голова мне так пригодилась. А у медсестры Верочки Пановой совсем другое мнение. Она смотрит на меня и видит моего брата-близнеца. Она боится того момента, когда я открою глаза и снова посмотрю на неё. Она панически боится опять увидеть мою мольбу и понять, что её мужественный поступок оказался напрасным. Она, по сути дела, пожертвовала собой, своим спокойствием, чтобы спасти меня, и она не готова увидеть в моих глазах то, что для меня значила эта жертва. Поэтому Верочка Панова берёт с подноса шприц и со знанием дела колет. Она очень хорошая медсестра.
Я просыпаюсь и вижу перед собой Верочку Панову. Она смотрит на меня добрым взглядом всё понимающей и всё принимающей медсестры. Ни тени любопытства, смущения или вины. До того, как она открывает рот и я слышу её голос, я успеваю заметить, что никакого шприца в её руках нет.
– Как Ваше самочувствие? – спрашивает Верочка.
Её голос полностью соответствует её взгляду – никаких эмоций, кроме явно выраженного участия к пациенту.
– Нормально, – коротко отвечаю я, усаживаясь на кровати.
Человек, который помог мне заполучить новую голову, а моему брату – новый гроб, не кажется мне подходящим для бесед о моём хвосте. Уж лучше я обсужу его с голубчиком Генрихом Карловичем. Верочка не делает даже попытки помочь мне с посадкой. И мне это нравится, нашей семье она уже помогла более, чем достаточно. Теперь она может отдыхать.
– Я принесла Вам обед, – говорит медсестра.
На тумбочке около кровати действительно стоит поднос с едой, среди которой я замечаю мясо. Оно и проснувшееся чуть позже меня чувство голода примиряют меня с Верочкой. Я беру чёрный поднос и устраиваюсь так, чтобы ничто, включая мой хвост, не отвлекало меня от пищи. Но у Верочки другие планы. Она протягивает мне какие-то таблетки.
– До еды Вы должны принять вот это.
– Кому? – спрашиваю я и разворачиваю вилку и нож, кем-то заботливо упрятанные в чёрную салфетку.
– Себе, – не моргнув глазом, отвечает Верочка.
Видимо, она привыкла иметь дело с капризными пациентами и ничто не может её заставить изменить своему долгу.
– Себе я точно ничего не должен, – говорю я и отрезаю солидный кусок мяса, – я сегодня это проверял.
Верочка останавливает меня.
– Не бойтесь, это просто витамины и иммуномодуляторы, их нужно принимать до еды.
– Я не боюсь, – говорю я не совсем правду, – я просто очень хочу есть.
Откуда мне знать, что в этих небольших чёрных пилюлях? Вполне возможно, что сестра Панова решила повторить свой подвиг и предлагает мне то, что не доел мой брат.
– Я Вас понимаю, но если Генрих Карлович прописал Вам эти таблетки, Вы должны их принимать, это для Вашей же пользы.
Верочка продолжает свободной рукой удерживать меня от мяса. Борьба с женщинами мне не доставляет никакого удовольствия, поэтому я решаю наплевать на то, что содержится в чёрных капсулах и опробовать Верочкину заботу на своей шкуре. Я глотаю то ли витамины, то ли иммуномодуляторы, то ли ещё какую гадость, запиваю это водой и кладу, наконец, в рот отрезанный кусок вожделенного мяса. Еда доставляет мне удовольствие, но не долго. Верочка, исполнившая свой долг по впихиванию в меня пилюль, не удаляется, а продолжает сидеть у моей кровати, наблюдая за тем, как я справляюсь с обедом.
– Хотите присоединиться? – спрашиваю я её.
– Нет, – качает головой Верочка, – но я хочу убедиться, что процесс приёма пищи идёт нормально.
– Очень мило, – говорю я, – но Ваше внимание не добавляет ему нормальности. Я не люблю, когда за мной наблюдают в процессе приёма пищи.
– Я не наблюдаю, – не соглашается Верочка, – я присутствую.
«Она от меня не отвяжется, сожри я хоть все таблетки на свете», – раздражённо думаю я. Так и будет смотреть за моими процессами, не моргая своими невинными глазами.
– Вы полагаете, я нуждаюсь в Вашем присутствии, чтобы хорошо переваривать пищу? – мой тон не оставляет сомнений в том, что мне очень не нравится, что она на меня пялится.
Верочка, наверное, не знает такого слова как «пялится», используемого исключительно в разговорной речи необразованных слоев населения, к которому Верочка, безусловно, не относится. Поэтому она не понимает или делает вид, что не понимает, что её присутствие меня страшно бесит. А может быть, она и этого слова не знает. Забив свой желудок мясом, я немного отвлёкся от голода, и моё раздражение начало плескать через край.
– Конечно, нет, – Верочка разговаривает со мной не как с больным, а как с больным ребёнком, – но контроль Вашего состояния является неотъемлемой частью Вашего лечения. Ведь Вы хотите выздороветь как можно скорее?
– Я больше не съем ни крошки, пока Вы не уйдёте, – говорю я, понимая, что обед мой мясом и ограничится.
– Не нужно капризничать, – уверяет меня Верочка, – так Вы сделает хуже только самому себе.
– Зато это буду я сам, – отвечаю я, ни капельки не жалея о том, что поданная к мясу цветная капуста так и останется на тарелке.
– Самоистязание до добра не доводит, – говорит Верочка ничуть не смущённая тем, что лишила меня половины обеда.
– Я в курсе, – говорю я, имея в виду самоистязания моего брата, которые довели его до могилы, а меня до новой головы.
– Тогда к чему это детское упрямство? – спрашивает Верочка.
– Понятия не имею, – говорю я, старательно вытирая рот салфеткой и давая Верочке понять, что она может убираться ко всем чертям.
Но Верочка и про чертей не в курсе: она продолжает сидеть и смотреть на меня.
– Я советую Вам закончить трапезу, – говорит медсестра.
И в каком только медучилище её научили трапезничать? Могла бы просто есть как все нормальные люди.
– Я её уже закончил.
– Вы не доели гарнир и салат, – говорит Верочка.
Возможно, у меня есть проблемы с головой и хвостом, но проблем со зрением у меня нет. Я прекрасно вижу, что я недообедал. И я прекрасно знаю, почему это произошло. Это произошло из-за Верочки, и уступать я ей не намерен, поэтому я просто пожимаю плечами и возвращаю поднос с тарелками на тумбочку.
– Напрасно Вы так демонстративно встаёте в позу, – Верочку таким пустяком не прошибёшь, – раздражение и отказ от полноценного питания только удлинят процесс выздоровления.