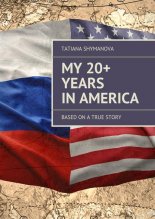Моя вторая жизнь gra4man

Она мне надоела со своими назидательными разговорами, и я предпочитаю их не поддерживать, а сменить своё положение с сидячего на лежачее. Верочка делает ещё одну попытку меня накормить.
– Хорошо, сдаюсь, – говорит Верочка, – я сейчас уйду, а Вы доедите свой обед. Обещаете?
Не собираюсь ей ничего не обещать, даже если я сделаю этим хуже только себе самому. Своя рука и бьёт не так больно, поэтому я молчу.
Верочка не желает принимать мои правила игры в молчанку и уже в дверях говорит:
– Я Вас очень прошу, не поддавайтесь эмоциям и пообедайте.
Я посылаю её подальше. Даже если буду подыхать от голода (чего, конечно, даже в этом лечебном заведении, не будет), я не сделаю Верочке приятное и не доем этот обед. Я не собираюсь сдаваться. Единственное, что меня беспокоит, это то, что в этой чёртовой чёрной палате совсем нечего делать. Хвост и некрологи развлекли меня, позволив скоротать время до обеда, но чем мне заняться после него?
Минут через сорок я начинаю жалеть о том, что не был вежлив с Верочкой. Она, конечно, изрядная зануда и убийца, но она умеет разговаривать. А кроме того, она думает, что связана долгом помощи местным пациентам. Из этого можно извлечь нечто большее, чем сверхдоза транквилизаторов. Из этого можно извлечь продолжительную беседу, убивающую время не хуже, чем ящик, изобретённый то ли в прошлом, то ли в позапрошлом столетии. Если разобраться, то разговор, пожалуй, более изощрённое средство для убийства времени, чем телевизор. Ведь разговору уже не один десяток тысячелетий, а телевидению пошла всего лишь вторая сотня лет. За время своего существования разговор перестал быть исключительно средством выживания и приобрёл качества, необходимые при противоположном процессе. Телевидение же никогда не было средством продления жизни, а изначально было приспособлено только для сокращения продолжительности её сознательной составляющей. Именно эта узкая функциональность и делает ТВ отстающим звеном в связке с беседой, которая, будучи явлением многофункциональным, в состоянии предложить желающим утолить свою жажду быстрого течения времени больше вариантов для убийства в силу наличия возможности создания перекрёстков разных функций. Никто не будет спорить, что перекрёсток более предпочтителен, потому что он даёт больше вариантов для продвижения. Ты можешь пойти – поехать не только с юга на север, но и с запада на восток. А также с запада на север, или с юга на восток. Как только ты попадаешь на перекрёсток, число вариантов времяпрепровождения значительно увеличивается. Правда, это относится только к тем людям, которые предпочитают двигаться исключительно проторенными дорогами. Нормальному же человеку ничего не мешает свернуть с шоссе и пойти, куда глаза глядят, даже если они глядят буквой «зю», а не на стрелки компаса. Я как раз из этой породы людей, идущих по жизни неправильными зигзагами (а может быть, и правильными – кто эти зигзаги разберёт?).
Моя трудолюбивая фантазия заставляет меня больше любить слова, чем картинки, потому что слова, на мой взгляд, ставят меньше рамок, чем картинки. В них больше свободы, трепета и страсти, если, конечно, у тебя порядок с воображением. Думаю, у Верочки Пановой с воображением порядок, поэтому беседа с ней могла быть весьма увлекательной, но своим присутствием она вынудила меня заставить её удалится, от чего я, пожалуй, только проиграл. Но проиграл не так крупно, как мой брат-близнец, поэтому у меня ещё остались козыри в колоде и теперь самое время пополнить свою руку, прикупив пару козырных тузов. А на меньшее я не согласен.
Ещё через час я готов был согласиться и на одну козырную шестёрку. Делать было абсолютно нечего. Даже заснуть, чтобы приблизить время ужина, я не мог, хотя старался битых минут двадцать. Я ещё раз перебрал все некрологи, сполз с кровати и размял ноги. Оказалось, что двигаюсь я довольно сносно, но на марафонские дистанции меня выставлять пока рано. Дверь палаты оказалась закрытой. Окошек под чёрными пседвомалевичевскими квадратами не оказалось, поэтому я даже не мог на некоторое время перенестись в существование скучающей в ожидании чужих происшествий пенсионерки. Пенсионеров на лавочках и в окошках я не встречал ни в первой, ни во второй жизни. То ли они менее жадны до бытовых подробностей постороннего существования, чем их сверстницы, то ли просто не дотягивают до лавочек и окошек, то есть попросту до них не доживают. В любом случае, уподобиться пенсионерке в этой клинике мне не дают. Я возвращаюсь на кровать, так и не ощутив прелестей (или тоски) пенсионерской жизни, ложусь на своё ложе так, чтобы хвост не мешал, и в третий раз принимаюсь перелистывать газеты. Это занятие наталкивает меня на мысль придумать некролог и, тем самым, скоротать время до ужина. Но чей некролог мне сочинить? Свою кандидатуру я отметаю сразу. «Я про себя всё знаю, – думаю я, – несмотря на то, что за последние пару дней я приобрёл не только новые, доселе неизвестные мне почку, руку, пальцы, голову, но и хвост. А перекладывать на слова то, что я знаю, пусть даже такого не случалось ни с одним другим человеком, мне неинтересно». Мне интересно придумать какую-то совершенно новую историю, создать какую-то новую жизнь, пусть даже мне придётся её оборвать в самый неподходящий для её обладателя момент. Кто же будет тем человеком, который под моим мысленным пером проживёт увлекательную, насыщенную и в чём-то даже счастливую жизнь?
Одновременно обретённого и потерянного навсегда брата я отвергаю. Как-никак, его головой я собираюсь родить прекраснейший из некрологов, а писать о себе (даже если это только твоя голова) скучно. Верочка отправилась в ту же мусорную корзину, что и мой брат. О ней я и так слишком много думаю в последнее время. Люсьена Милентьевна меня тоже не привлекает. Даже в смысле некролога. Остаётся Генрих Карлович. Думаю, он является идеальным кандидатом. Если его жизнь оборвётся утром, в день объявления его лауреатом нобелевской премии, некролог получится, что надо: в меру трагичный, в меру героический, в меру любопытный. И я принимаюсь за дело, надеясь, что мне удастся закончить его до того, как я вновь увижу Генриха Карловича. Уж очень мне хочется его удивить и порадовать. Где-то посередине некролога мне некстати приходит в голову мысль, что мой голубчик-доктор может и не обрадоваться своему некрологу. В этом случае, пусть пеняет на себя. Что ещё я могу придумать в чёрной палате, лежа на чёрной кровати в чёрной пижаме, после чёрной трапезы (спасибо Верочке за мясо и за слово) кроме некролога? В любом случае, он удивится, решаю я, и продолжаю свой скорбно-развлекательный труд на благо отечественной медицины. Чем дальше я продвигаюсь по жизни Генриха Карловича, тем больше мне нравится это занятие. Я увлекаюсь им так, что продолжаю сочинять даже во сне, который смаривает меня где-то в последней четверти моего творения.
Верочка Панова будит меня к ужину, удаляя из моей памяти не только то, что я сочинил во сне, но и половину того, что я сочинил бодрствуя. Я без разговоров проглатываю пилюли, ужин и Верочкины слова. Мне не терпится вернуться к моему Генриху Карловичу. Верочка понимает моё молчание по своему и пытается разрядить накалённую, по её мнению, обстановку какими-то словами. Где она, спрашивается, была тройку часов назад, когда мне было так одиноко и совершенно нечем заняться? Она занималась своими делами. Теперь, когда ей приспичило позаниматься моими, она не обращает никакого внимания на то, что мне её занятие совершенно без надобности. Верочка думает, что она умеет обращаться с больными. Может быть, оно так и есть (даже несмотря на историю с моим братом). Но я-то не больной. Я временно немного не в адеквате, только и всего. И неадекват-то мой небольшой, всего сантиметров семьдесят, не больше. Белый, с чёрными пятнами, приятный на ощупь. Короче, не самый страшный в мире неадекват, так что нечего меня записывать в больные. Но Верочка вбила себе в голову, что я её пациент и она должна мне помочь, и выбить эту мысль можно, только если позволить ей что-то для меня сделать. Тогда её совесть успокоится, она бросит своё чувство выполненного долга таять чёрной дымкой в моей палате и отбудет восвояси, оставив меня один на один с Генрихом Карловичем из моего, то есть, из его некролога. Я говорю Верочке, что в терапевтических целях мне крайне необходимы бумага и ручка. То, что терапией для меня нынче является сочинение некролога я, на всякий случай, умалчиваю. А Верочка и не думает меня пытать. По крайней мере, не в этот раз. Она быстро покидает палату, отложив на время контроль моего пищеварения. Не успеваю я добраться до компота, как Верочка возвращается и кладёт на тумбочку тетрадь, карандаш и стирательную резинку.
– Почему не ручка? – спрашиваю я, доедая макароны по-флотски.
– Лишней ручки на посту не нашлось, – врёт мне в глаза Верочка.
– Ладно, спасибо за карандаш, – принимаю я её враньё и остатки макарон, – когда доктор ко мне зайдёт?
Генрих Карлович мне нужен, конечно, не для того, чтобы уточнить детали его некролога, а для того, чтобы разобраться с моим хвостом.
– Завтра утром, – коротко отвечает Верочка, – может быть, я могу Вам чем-то помочь?
– Вы уже помогли, – говорю я и киваю на принесённые ею принадлежности для некролога.
– Больше Вам ничего не нужно? – спрашивает Верочка.
– Нужно, но это не по Вашей части, – довольно вежливо отвечаю я.
На этом наш разговор обрывается. Я добиваю ужин, допивая компот, Верочка желает мне спокойной ночи и удаляется с тем, что осталось от моего ужина. Я довольно бодро сползаю с кровати и посещаю санитарный блок. Так на больничном плане эвакуации при пожаре обозначены туалет и ванная. Санитарный блок, разумеется, тоже чёрный. Удивительно, что вода в этой чёрной больничке обычного цвета, то есть прозрачная. Видимо, всё же у местного главврача сохранились остатки здравого смысла. Очень хочется встать под душ, но я не знаю, можно ли мочить мой хвост. Я решаю, что самое страшное, что может с ним случится, это то, что он отвалится, что мне только на руку, точнее на задницу, которая освободится от несвойственного ей придатка. Поэтому я подставляю свои новые части тела (за исключением почки, которую я не стал выковыривать из себя ради этого момента) под душ, и они благодарно отзываются на струящуюся по ним воду. Хвост действительно намокает, но не отваливается даже после десяти душевых минут. Неужели моё тело прожило без воды больше месяца? Или они всё же время от времени обмывали меня (и я не имею ввиду алкогольные возлияния)? Скорее да, чем нет. Не позволят же они доказательству научных заслуг Генриха Карловича гнить заживо. И что-то мне подсказывает, что обмыванием занимался не голубчик-доктор, а его ближайшая приспешница Верочка Панова. Или Люсьена Милентьевна. Я пока ещё не разобрался, кто из них ближе к будущему светилу мировой медицины. Продолжаю рассуждать дальше. Поскольку Люсьена Милентьевна ассистировала голубчику в процедурном кабинете, а мои скромные покои не удостоила даже взглядом, думаю, что меня обмывала убийца моего брата. Вода в кране моментально становится ниже на минимум на полтора десятка градусов. Я до отказа поворачиваю кран с красной пимпочкой, но температура воды больше не меняется, и я понимаю, что она тут ни при чём. Как обычно, все причины внутри, а не снаружи. Меня бьёт озноб от того, что Верочка протирала моё тело влажной губкой. Как только я это понимаю, я с криком выскакиваю из-под душа, который вот уже несколько десятков секунд обдаёт меня кипятком по моей же собственной воле. Зеркала в санитарном блоке нет, но я и без него вижу, что стал похож на варёную колбасу. Только хвост остался прежнего молочного цвета, лишь слегка потемнев от влаги. Я осторожно вытираю ошпаренную кожу полотенцем и нахожу, что особого вреда я себе не причинил. Облачаться в пижаму, которая теперь кажется такой грязной и насквозь пропахшей потом, мне не хочется, поэтому я заворачиваюсь в чёрное полотенце и возвращаюсь к кровати без больничной одёжки. Сажусь на кровать, ещё раз протираю промокшим полотенцем свой некогда пушистый хвост, и устраиваюсь в надежде перебить мысли о Верочке, беспардонно протиравшей моё тело, некрологом Генриха Карловича. Но Верочка неотступно следует за мной. Поразмыслив, я понимаю, что больше всего в этой ситуации меня пугает не контакт Верочки с моим телом, а вопиющая несправедливость. Верочка Панова видела меня не только полностью обнажённым, что дано не каждой женщине. Она видела даже больше. Ей открылся мой хвост! То есть она увидела во мне (или на мне?) то, чего я сам о себе не знал. А я не видел ничего, кроме части её головы (в смысле лица), части её рук (в смысле кистей) и части её ног (в смысле лодыжек). Это несправедливо. Даёшь око за око, зуб за зуб, хвост за хвост! Хотя вряд ли у неё есть хвост или что-то такое, чего я ещё не видел у женщин. Впрочем, я не отказался бы посмотреть на её душу. Мне ещё не приходилось видеть душу убийцы. Но, боюсь, душа (даже у убийцы) не хвост, который торчит из задницы и который можно пощупать руками. Душа – предмет менее осязаемый, если она вообще существует. Мысли о душе неизбежно возвращают меня к некрологу Генриха Карловича, и я подхватываю нить его жизни, которой ещё не время обрываться.
Итак, Голова Генрих Карлович, чьё рождение, крещенье и учение в школе уже внесены в анналы некролога, поступил в медицинский университет с первой попытки, несмотря на то, что его родители не имели никакого отношения к медицине. Отец его был дорожным регулировщиком, а мать – секретарём местной ячейки международной ассоциации шпагоглотателей. Как они сошлись, Генрих никогда не спрашивал. Как не спрашивал и о том, почему его назвали Генрихом Карловичем, ведь отца его звали Фомой Юрьевичем, а мать – Апполинарией Митрофановной. Стало быть, никаких немцев в роду Головы ни по одной линии не было. Как не было Карлов. На все вопросы о том, кто его отец, которые Генрих осмелился задать матери только уже будучи совершеннолетним, она отвечала, что его отец и есть его отец.
– Как от Фомы Юрьевича мог получиться Генрих Карлович? – спрашивал у матери Генрих Карлович.
– Самым натуральным образом, – отвечала Апполинария Митрофановна, не вдаваясь, однако в подробности.
– Но отчество сына должно соответствовать имени отца, – продолжил щекотливую беседу Генрих Карлович.
– Это чистый воды формализм, – отрезала мать, – ты мой сын, и я имею право называть тебя так, как хочу.
– А отец? – спросил Генрих.
– Что отец? – не поняла сына мать.
– Как отец хотел, чтобы меня назвали?
– Какая разница чего он хотел? Он тебя не рожал, не ему и решать, как тебя называть, – отвечала Апполинария Митрофановна, впрочем, безо всякой агрессии.
– Ладно, – смирился с отстранением отца от процесса своего «называния» Генрих Карлович, – а как в ЗАГСе тебе разрешили не то отчество записать?
Генрих с малолетства неоднократно заглядывал в своё свидетельство о рождении, чтобы убедиться, что отцом у него записан Фома Юрьевич Голова, а в графе «отчество» значится «Карлович». Видимых подчисток и исправлений в свидетельстве не было, что свидетельствовало о том, что оно подлинное, и в таком виде было выдано Голове Апполиинарии Митрофановне спустя месяц после рождения её единственного отпрыска. Как советский бюрократический аппарат мог допустить превращение сына Фомы в Карловича, для Генриха оставалось загадкой.
– Что значит «не то»? – спросила мать, и Генрих понял, что дальнейшие расспросы бесполезны.
Он на всякий случай, уже будучи студентом медуниверситета, организовал экспертизу своего сыновства, и наука подтвердила слова матери: Голова Генрих Карлович является сыном Головы Фомы Юрьевича и Головы Апполинарии Митрофановны. Это окончательно успокоило Генриха насчёт его ближайших родственных связей и заставило смириться с отчеством, за которое его в школе (и не только) дразнили «Карлой».
Мать Генриха Карловича стала не только причиной его странного прозвания, но и повлияла на выбор профессии. Разговоров о том, куда ребёнку идти учиться, в семействе Головы не водилось. И отцу, и матери было всё равно, чем их чадо будет заниматься по жизни, лишь бы оно не мешало их собственным занятиям, но у Генриха было на этот счёт другое мнение. Занятия отца его не волновали, поскольку они увеличивали шансы отца отправиться на тот свет не больше, чем те, которыми обычно занимаются люди. А вот занятия матери Генриха беспокоили. Будучи более двадцати лет бессменным секретарём ячейки шпагоглотателей, Апполинария Митрофановна желала не только влиться в столь привлекательные для неё ряды глотателей холодного оружия, но сделать это так, чтобы произвести в этих рядах настоящий переворот. Первые десять лет своего секретарства она тайно ото всех самостоятельно обучалась глотанию ножей, кортиков, мечей, шпаг и других плоских и острых предметов. Её желание стать «первой шпагоглотательницей на деревне» было так велико, что его исполнению она посвящала всё своё свободное время. Как в таких условиях мог родиться Генрих Карлович, не ясно, но он всё же появился на свет и стал единственным свидетелем мучительных попыток своей матери овладеть никому ненужным искусством. Сына Апполинария Митрофановна не стеснялась. Напротив, она использовала его в качестве зрительского тренажёра. Именно Генрих Карлович должен был не только наблюдать процесс постановки лучшего в мире номера по шпагоглотанию, но и оценивать результат с точки зрения потенциального зрителя. Как одно могло сочетаться с другим, знала только сама Апполинария Митрофановна. Через десять лет безуспешных попыток добиться фантастического результата Апполинария Митрофановна поняла, что эти годы были потрачены ею не совсем по назначению, ибо она преследовала не совсем ту цель. Настоящий переворот в излюбленной ею профессии можно было сделать, только если внести в неё что-то по-настоящему новое. Увидев однажды, как переворачивают песочные часы, Апполинария Митрофановна ясно осознала, что удивить мир профессиональных шпагоглотателей глотаемым предметом было невозможно. Его можно было удивить лишь поменяв орган глотания. И она его поменяла. Да так, что увидев подготовку к новому номеру, который должен был потрясти мир, тринадцатилетний Генрих решил стать психиатром, чтобы избавить мать от навязчивой идеи, угрожавшей её жизни. Проучившись три курса и попробовав применить некоторые рекомендуемые методики на практике, Генрих Карлович понял, что он, как и его мать, ошибся в выборе цели. Отвратить мать от не ротового глотания острых предметов с помощью слов и медикаментов оказалось невозможным. Тогда Генрих Карлович решил стать хирургом, чтобы спасти мать вне зависимости от того, чем и что она будет глотать.
На своём курсе Генрих Карлович Голова был самым прилежным студентом, что позволило ему остаться по окончании обучения на кафедре при профессоре и получить возможность не только для научных изысканий, но и для практического применения полученных навыков. Это пригодилось Генриху Карловичу потому, что чем больше было желание матери перевернуть привычные представлении шпагоглотателей, тем больше была необходимость хирургического вмешательства в его последствия. Генрих Карлович зашивал свою мать бессчётное количество раз, что позволило ему хорошенько набить руку в портняжно-хирургическом деле. Он мог искусно пришить что угодно к чему угодно, и молва о нём разнеслась среди тех, кому помощь такого рода жизненно необходима. Через каких-то десять лет Генрих Карлович заменил своего профессора везде, кроме его постели, чем свёл старика в могилу. Успех у жены профессор прощал любому, а вот успех у пациентов профессор простить не смог и собственноручно отправился на тот свет, окончательно освободив дорогу своему пытливому ученику. А ученику, который уже давно понял, что сможет помочь матери, даже если она начнёт глотать шпаги пупком, хотелось покорения каких-то новых вершин. И самой высокой ему казалась нобелевская. Задумав, подобно своей матери, совершить переворот, Генрих Карлович активно занялся поисками подходящего материала. Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт, поэтому Генрих Карлович сначала случайно нашёл моего брата-близнеца, потом случайно нашёл меня, а затем организовал случайное отрывание моей башки. После цепи этих случайностей до нобелевской премии по медицине было рукой подать. Нужно было лишь пришить мне братову голову, что Голова с успехом осуществил, запечатлев свой беспримерный хирургический подвиг на цифре. Он провернул операцию, равной которой по дерзости ещё не делал никто в мире. И это оценили в нобелевском комитете. Они не знали её истинной предыстории и решили, что Генрих Карлович достоин престижной награды за достижения в области медицины (хотя его достижения в области случайностей были куда более значительны). Но бедный мой голубчик этого пока не знал.
Очередного лауреата должны были объявить в торжественной обстановке как раз в день рождения Генриха Карловича. Он готовился к этому дню несколько лет, а за пять секунд до объявления себя лауреатом скоропостижно скончался от сердечного приступа. Он не выдержал надвигающейся сбычи своей мечты. Это было бы слишком хорошо. Слишком восхитительно. Слишком волнующе. Слишком невозможно. И Генрих Карлович предпочёл будоражащую кровь неизвестность и томление в ожидании мечты её прозаической сбыче. Он был настоящим романтиком, наш голубчик Генрих Карлович. Склоним же голову и помолчим в знак скорби от расставания с прекрасным хирургом, заботливым сыном и просто хорошим человеком, Головой Генрихом Карловичем. Аминь.
День тридцать четвёртый
Просыпаюсь и понимаю, что не помню, как заснул. И не знаю, сколько проспал. Чёрт бы побрал эту больницу, в которой вместо часов на стенках висят чёрные квадраты господина Малевича. Они думают, что в этом заведении также увлекательно, как в казино? Или это часть «чёрной» терапии? От незнания того, сколько времени прошло по моим ощущениям, тоже можно захотеть свалить отсюда в пространство, в котором время чётко обозначено. Знание точного или хотя бы приблизительного времени даёт человеку мнимое, но стойкое ощущение порядка. Он знает (вернее думает, что знает), что произойдёт с ним через пять минут, через полчаса, через год, через десять лет. Вот думает человек, что он проживёт ещё как минимум лет двадцать. И спокойно занимается своими делами. Или знает человек, что его через день расстреляют. И есть у него целых двадцать четыре часа, чтобы всё вспомнить, обо всём подумать, всё осознать, во всём покаяться, помечтать о последнем желании и его исполнении. Всё идёт своим чередом, и хоть знает человек, что его жизнь скоро кончится, у него совершенно точно есть время представить, что бы он делал, если бы ему дали ещё один шанс. А чем больше думаешь, тем больше твоё личное время растягивается. И если думать хорошенько, то, глядишь, из отведённых тебе суток получается уже половинка недели, а то и месячишко, если фантазия твоя хорошо развита. А если ты знаешь, что тебя расстреляют, но не знаешь когда? Через пять минут али через три часа, али послезавтра? Как ты потратишь драгоценное время? Правильно, всё будешь думать о том, сколько тебе осталось. Не о том, о чём подобает думать человеку перед смертью (каждому, естественно, о своём), а о том, когда эта самая смерть к тебе придёт. Разве же это дело? Не дело, а сплошное мучение. Поэтому от незнания времени один только вред и никакой пользы. Но в «моей» больнице об этом не знали или делали вид, что не знают. Но, поскольку на тумбочке стоял поднос с едой (очевидно, с завтраком), я прощаю им это грубое вмешательство в человеческую психику и с удовольствием ем.
За чаем я просматриваю свежие медицинские газеты, в одну из которых, вложен сочинённый мною вчера некролог Головы. И не просто вложен, а с умыслом, потому как он прикрывает свежие некрологи, среди которых я нахожу настоящий некролог Генриха Карловича. Фамилия его, оказывается, совсем не Голова, а Почка, что сути дела, на мой вкус, не меняет. От перемены мест слагаемых, как говорится, результат не меняется, то есть налицо смерть моего голубчика-доктора. А то, что это его некролог в газете пропечатан, я нисколько не сомневаюсь, ибо к нему прилагается фотография усопшего – вылитый Генрих Карлович. Читаю подлинный некролог и думаю, что Почка, будь у него возможность выбора, безусловно предпочёл бы мой вариант. Хотя бы потому, что в нём Почка, пусть и под псевдонимом Голова, был удостоен нобелевской премии. Конечно, получить премию ему не довелось даже в моём некрологе, но это и понятно, вымысел должен быть немножко похож на правду, иначе нечего ему делать в медицинском журнале. А разве по правде Почка, даже будучи Головой, может получить нобелевскую премию? Никогда. И даже узнать о том, что она ему присуждена, Почка тоже не может. Потому как в жизни такого не бывает. Но вот если его умертвить до объявления результатов, то нобелевскую премию Почке вполне можно присудить, ведь это произойдёт после его жизни, а значит, не будет иметь к этой самой жизни никакого отношения. И можно уже не стараться быть правдивым. Можно измышлять, сколько душе угодно, не заботясь о соприкосновении твоего вымысла с действительностью. Как только заканчивается человеческая жизнь, так сразу заканчивается её правда и появляется свобода вымысла, которую, впрочем, человеческий обычай всё же ограничивает. О покойном, говорят люди, или хорошо или ничего. То ли они боятся мертвеца, который перейдя в иной мир, получает иные возможности для расправы. То ли они надеются таким образом смыть с себя то, что им бы хотелось смыть, после своей смерти. То ли они изображают уважение к окончанию земного пути. Шут его знает. Но, в любом случае, кто считает, что получение нобелевской премии характеризует человека с негативной точки зрения, пусть первым бросит в меня камень. И приготовится к ответному броску со стороны Генриха Карловича, который никому не даст себя лишить нобелевской премии или отозваться о ней дурно.
Мои размышления о превратностях вымысла при и после жизни объекта повествования прервала открывающаяся дверь и человек, её открывший. В палату влетает молодой парень, от которого так и разит жизнерадостностью, несмотря на мрачное, соответствующее здешним правилам, одеяние.
– Привет, – говорит парень и присаживается на стул рядом с моей кроватью, – как самочувствие?
– Привет, превосходное, – в тон отвечаю я и протягиваю ему газету некрологом Генриха Карловича вперёд, – я так понимаю, у меня поменялся лечащий врач?
– Почему? – спрашивает, просматривая некрологи коллег, юный доктор с чёрной биркой, на которой белыми буквами выведено «Лишаев Иван». Отчества отчего-то на бирке нет.
– У вас практикуют покойники? – интересуюсь я.
– Это Вы про Почку? – интересуется Лишаев, кладя газету поверх подноса.
– Про него самого, – подтверждаю я.
– Он просто уехал. На время, – делает вид, что объясняет, что случилось с Почкой, Лишаев, – открой рот и скажи «а».
Рот я открываю, но говорю совсем другое:
– Оттуда можно вернуться?
– Из Стокгольма? Конечно, возвращаются. Как насчёт «а»? – всё так же жизнерадостно спросил Лишаев.
– Что значит «Из Стокгольма»? Теперь так называют тот свет? – удивляюсь я.
Вряд ли за месяц в мире произошли такие перемены. Ответ Лишаева подтверждает ход моих мыслей, но мало что объясняет:
– Откуда такие фантазии? Стокгольм – это столица Швеции!
– Это я знаю, но Почка же умер, как он может вернуться из Стокгольма?
– Как умер? Когда? – удивляется Лишаев.
– Ты же только что его некролог прочитал, – говорю я и гадаю, на кого так подействовала чёрная обстановка, что он свихнулся, – на меня или на Лишаева, и делаю выбор в пользу Лишаева. Он дольше, чем я, пребывает среди чёрных стен. По крайней мере, в состоянии сознания.
– А, ты про это, – кивает на газету Лишаев, и лицо его делается ещё жизнерадостнее, чем обычно, – не обращай внимания.
– Это неправда? – уточняю я, поскольку на смерть врача, который буквально на днях пришил мне чёртову тучу органов, мне как-то сложно не обращать внимания.
– Да, это неправда.
Я всегда отличался любознательностью, поэтому ответ из трёх слов меня не удовлетворил:
– И кто так шутит?
Лишаев, как и Верочка, видимо, решил изображать из себя само терпение. А может быть, медперсоналу это предписано профессиональным кодексом, который в моей прошлой жизни ни один врач не соблюдал.
– Эти некрологи Генрих Карлович сам размещает в газете раз в неделю.
И этот человек мне пришивал голову? Вот чёрт!
– Зачем?
– Говорит, что он так борется со страхом смерти.
– Оригинальная методика, – хвалю я своего хирурга, – помогает?
– Генрих Карлович утверждает, что помогает. Если видеть свою смерть регулярно, то к ней привыкаешь, а боятся того, к чему привык, человек не в состоянии. Есть ещё вопросы? – терпеливо спрашивает Лишаев, понявший, что пока я не узнаю всё, что мне нужно, он своё, то есть, моё «а» не получит.
– Он уехал на заседание нобелевского комитета?
– Куда? – сквозь терпение снова удивляется Иван.
– В Стокгольм, – объясняю я.
– Он, конечно, уехал в Швецию, но с чего ты взял, что на заседание нобелевского комитета?
– С того, что он мне голову пришил. И руку. И пальцы. И хвост. По-твоему, за это не могут дать нобелевскую премию?
– За пришитую голову, безусловно, могут. А ты с чем к нам поступил? – спрашивает Лишаев.
– Я знаю без чего я к вам поступил: без головы, без правой руки, без почки и без хвоста, разумеется, – с достоинством отвечаю я, перечисляя всё, что мне известно о моём состоянии на момент поступления в эту странную больницу.
– Ясно, – коротко отвечает Лишаев и протягивает руку к спинке кровати.
Он недолго шарит там и достаёт какие-то бумаги, которые некоторое время внимательно читает. Моего терпения хватает ненадолго.
– Что это? – спрашиваю я.
– История болезни.
– И что там написано?
– Что у тебя обычное сотрясение головного мозга.
– А что ещё? – продолжаю допытываться я.
Не мог же я пролежать в больнице с банальным сотрясением мозга больше месяца.
– Больше ничего, – отвечает Лишаев и складывает чёрные бумажные листки аккуратной стопочкой.
– А голова, почка, рука и хвост? – не верю я Лишаеву.
– С ними всё в порядке, – успокаивает меня Лишаев.
– То есть, Генрих Карлович мне их пришил хорошо?
– То есть, Генрих Карлович тебе их не пришивал.
– Тогда откуда они у меня взялись? – чем дальше, тем я больше скучаю по Генриху Карловичу, разговоры с которым мне кажутся более наполненными смыслом, чем разговоры с Лишаевым.
– Откуда и всё остальное, из материнского лона, – эти слова совершенно не шли к Лишаеву, такую старомодную фразу мог выдать скорее голубчик Почка, чем этот радостный млодец.
– Значит, это моя голова и моя рука и мне их никто и никогда не пришивал? – я показал рукой, которую вот уже тройку дней принимал за новую, и на голову, которую я тоже числил среди новичков.
– Конечно, у тебя было простое сотрясение мозга, зачем же Генриху Карловичу было менять тебе руку и голову?
– А зачем он сказал, что он мне их поменял?
– Возможно, это новая терапевтическая методика. Почка ревностно следит за новейшими научными открытиями, и я не удивлюсь, если выяснится, что он захотел стать автором одного из них.
– Это бред, а не методика, – говорю я.
– Но ты же ему поверил? – спрашивает Лишаев.
– Поверил, – отвечаю я и предпочитаю не размышлять на тему, почему я поверил чёрному голубчику.
– Вот видишь, – улыбается Лишаев, – значит, эта методика работает.
– Методика лечения сотрясения мозга? – по-моему, в этой больнице все врачи держат меня за дурака.
– Да, – не пускается в дополнительные объяснения Лишаев.
И я его понимаю, потому что объяснить, как ложь о том, что ты пришил человеку голову, может помочь этой самой голове справится с сотрясением её содержимого, невозможно. Ну, нет такого объяснения в природе. И не может быть.
– Значит, по-твоему, хвост он мне тоже не пришивал?
– Конечно, нет! – искренне восклицает Лишаев, радуясь тому, что я начинаю нормально, с его точки зрения, соображать.
Я же понимаю, что правды о том, откуда у меня появился хвост, я в этой больнице не узнаю и решаю выяснить, как мне вернутся к той комплектации, которая у меня была по выходу из материнского ложа.
– Тогда как мне от него избавиться?
– Ничего не нужно делать специально, нужно лишь подождать, когда последствия сотрясения пройдут и твой «хвост» отвалится сам собой.
– Даже если он у меня не на голове, а на заднице? – я, конечно, понимаю, что голова и задница связаны между собой, но как эта связь может повлиять на избавления меня от моего неадеквата, я не понимаю.
– Хвост у тебя не «на заднице», и не «на голове», а «в» голове, – убеждает меня Лишаев, – функционирование твоего мозга дало сбой, когда произошло сотрясение. Но как только нормальная работоспособность мозга восстановится, все галлюцинации исчезнут сами собой.
– А хвост? – спрашиваю я.
– Что хвост?
– Он отвалится вместе с галлюцинациями или его придётся ампутировать отдельно?
– Если он тебя так беспокоит, я могу ампутировать его прямо сейчас, – соглашается Лишаев, чтобы меня успокоить.
Он разговаривает со мной, как с умалишённым, а не как с охвостованным, и это мне не нравится. Я мщу ему, показывая мой прекрасный пушистый хвост. От этого зрелища сотрясение мозга настигает самого Лишаева. Я радуюсь, как ребёнок.
– Охренеть! – говорит Лишаев словом отнюдь не терпеливого медперсонала.
– Хорош? – язвительно спрашиваю я, заглядывая себе за спину.
Лишаев деловито копошится возле моей задницы.
– Не то слово! Такого я ещё не видел! – восхищённо говорит Иван.
– И я не видел, – я солидаризируюсь с Лишаевым, прощая ему за восторг по поводу тигриного хвоста, торчащего из человеческого тела, недавнюю манеру говорить со мной как с идиотом.