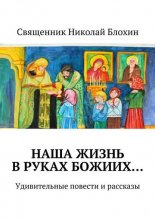Золотая пряжа Функе Корнелия

– Просто делай, что тогда, с единорогами, – шепнула она ему на ухо и толкнула на проезжую часть, в поток несущихся автомобилей.
Вой клаксона, визг тормозов, крик. Вероятно, его собственный.
Джекоб закрыл глаза. Поздно. Хрустнула кость. Рука. На губах остался привкус стекла и металла.
Должок
Тишина обрушилась внезапно, отрезав все звуки, и Джекоб решил, что умер. Но потом он вдруг почувствовал свое тело. И боль в руке.
Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что сидит не на асфальте в луже собственной крови, а на мягком ковре цвета ультрамарин с серебряными вкраплениями, ворсистом и, судя по всему, дорогом.
– Использовать невесту брата в качестве приманки… надеюсь, ты простишь мне эту неуклюжую шутку. Она похожа на вашу мать, хотя ей чего-то недостает… Возможно, таинственности. Но именно этим она и нравится твоему брату, который сыт тайнами по горло.
Джекоб повернулся на голос. Затылок отозвался болью, голову словно пытались расколоть изнутри на части. В нескольких шагах от Джекоба в черном кожаном кресле сидел человек. Такое кресло Джекоб видел в музее, перед которым Клара вытолкнула его на проезжую часть, в зале современного дизайна.
Вставай же, Джекоб. Его мутило – не то от удара о радиатор такси, не то от неподвижного лица Клары, застывшего перед внутренним взором.
На вид незнакомцу было под сорок. Хорош собой, но на какой-то старомодный лад. Такие лица смотрят с портретов кисти Гольбейна или Дюрера. Костюм и рубашка, напротив, самого современного покроя. В мочке уха блеснул крошечный рубин.
– Вижу, ты вспомнил… – Незнакомец тепло улыбнулся.
Норебо Джон Ирлкинг, ну конечно. В тот раз, в Чикаго, голос у него был другой.
– Рубины… – Ирлкинг прикоснулся к мочке уха. – У меня к ним слабость.
– И это твой настоящий облик? – Джекоб выпрямился, придерживаясь за край стола.
– Настоящий? – рассмеялся Ирлкинг. – Громкое слово. Скажем так, он ближе к настоящему, чем тот, что был у меня в Чикаго. Феи делают тайну из своего имени, мы – из облика.
– То есть имя настоящее?
– А что, похоже? Нет, зови меня Игроком. Воин, Кузнец, Писарь… наши имена – не более чем обозначения ремесел.
Джекоб посмотрел за окно.
– Всего в двух шагах от Манхэттена, – угадал его мысли Игрок. – Удивительно, правда? Как легко спрятаться в затерянном уголке города.
Царившее за окном запустение – полуразрушенные здания, наполовину скрытые плющом и дикой растительностью, – являло собой разительный контраст роскошному убранству комнаты. Это был один из уголков, где природа выиграла битву с цивилизацией.
– Вы, смертные, придаете слишком большое значение внешнему. – Игрок встал с кресла и подошел к окну. – Даже животных не так легко обмануть. Пару десятилетий назад мы чуть не обратили на себя ваше внимание, потому что редкая цапля согласится делить остров с нашим народом.
Он затянулся сигаретой, сжав ее тонкими пальцами, и выдохнул дым в сторону Джекоба. Шестипалая рука – признак бессмертных.
Внезапно стены комнаты раздвинулись, пространство распахнулось, и Джекоб обнаружил себя посреди замкового зала – с серебряными стенами и люстрами из эльфового стекла. Единственное, что осталось на месте, – дивной красоты скульптура, окончательно убедившая Джекоба в том, с кем он имеет дело. Скульптура изображала дерево, из складок коры смотрело человеческое лицо с разинутым в безмолвном крике ртом.
– Проклятие, – пояснил Игрок. – Приходилось делать хорошую мину при плохой игре, чтобы его последствия казались более-менее сносными. Но это быстро наскучило… – Он затянулся еще раз. – Как будто таким образом можно забыть, что мы потеряли.
Между тем за окном из рассеивающегося сигаретного дыма проступали очертания нового пейзажа: силуэты отражающихся в воде зданий… тех и не тех. Ни малейшего намека на Эмпайр-стейт-билдинг… Вероятно, так выглядел Нью-Йорк лет сто тому назад.
– Время, – продолжал Игрок. – Еще одна вещь, к которой вы относитесь слишком серьезно. – Он затушил окурок в серебряной пепельнице, и комната снова стала такой, как в момент пробуждения Джекоба, а за окном опять проступил пейзаж с дикой растительностью и руинами. – Собственно, не такая уж плохая идея – похоронить арбалет в тайниках музея. Откуда тебе было знать, что Фрэнсис Тюрпак моя лучшая подруга, даже если и знает меня в другом обличье. Метрополитен обязан нам многим… Но ты, наверное, уже догадался, что находишься здесь по другой причине. За тобой должок… или запамятовал?
Должок? Как же. Забудки – цветы Синей Бороды. До того ли было! Неудивительно, что столь легкомысленно заключенная сделка выветрилась из памяти.
Хотя… разве у Джекоба был выбор? Он безнадежно заблудился в лабиринте Синей Бороды.
– В этом мире бытует трогательная история о карлике, научившем одну бестолковую крестьянку выпрядать из соломы золото, – прервал его размышления Игрок. – Разумеется, в конце концов она его обманула, но карлик требовал то, что принадлежало ему по праву.
- Нынче пеку, завтра пиво варю,
- У королевы первенца отберу.
В свое время сказка о Румпельштильцхене не особенно впечатлила Джекоба. Мать еще объясняла ему, кто такой первенец.
И даже теперь – кто в его возрасте думает о детях? Будут ли они у него вообще?
Заметив на лице Джекоба облегчение, Игрок улыбнулся:
– Похоже, тебя не слишком испугала моя цена. Раз так, позволь уточнить: первый ребенок, которого Лиса положит в твои руки, принадлежит мне. Вы можете повременить с оплатой, но платить так или иначе придется.
Нет.
Что нет, Джекоб?
– Но почему обязательно ребенок? Мы друзья, не более…
Игрок посмотрел на него так, словно Джекоб пытался уверить его, что Земля плоская, как блин.
– Ты говоришь с эльфом, не забывай. Я знаю ваши тайные желания, ведь моя задача их исполнять.
– Назначь другую цену. Что угодно, только не это. – Джекоб с трудом узнал свой голос.
– С какой стати? Это моя цена, и вы ее заплатите. Ребенок Лисы должен быть красив. Надеюсь, долго ждать вы меня не заставите.
Любовь всегда имеет привкус вины, желание – измены. Как понятны становятся наши желания, стоит нам осознать их невыполнимость. И вся эта чепуха, которую Джекоб вбивал себе в голову, – что он любит Лиску как-то не так и что его страсть означает нечто другое – ложь. Он хотел остаться с ней, иметь от нее детей, видеть, как она состарится.
Никогда, Джекоб. Ты продал свое будущее. Ради спасения ее жизни – пусть это послужит тебе слабым утешением.
– Соглашение действительно только по ту сторону зеркала.
Жалкая уловка.
– Где я немедленно превращусь в дерево, это ты хочешь сказать? Как же это я мог упустить из виду такую мелочь! Но знаешь, я тебя разочарую. В ближайшее время мы собираемся вернуться. По крайней мере, некоторые из нас.
Эльф снова встал у окна.
Тебе пора, Джекоб.
Две двери – да что с них толку? Если верить эльфу, они на острове. И есть еще Ист-Ривер, которую придется переплывать со сломанной рукой.
Игрок отвернулся к окну. Стал рассуждать о феях, их мстительности, о человеческой неблагодарности. Похоже, он любил поговорить перед слушателем, иначе зачем бы он так распинался? Сколько их уже там? Взгляд остановился на зеркале рядом со скульптурой, изображающей эльфа с полными ужаса глазами. Это зеркало будет, пожалуй, побольше того, что стоит в отцовском кабинете. Такая же рама из серебряных роз, только на лозах в нескольких местах сидят серебряные сороки.
Игрок все еще смотрел в окно. Всего несколько шагов отделяло Джекоба от зеркала.
Он поднялся. Стекло оказалось теплым, словно Джекоб коснулся шерсти какого-то животного. Но когда он привычным движением закрыл ладонью отражение своего лица, комната в зеркале не изменилась.
Игрок обернулся:
– Даже такие, как ты, способны смастерить бесчисленное множество видов этих зеркал. Неужели ты полагаешь, что мы менее изобретательны?
Эльф направился к столу и пролистал лежавшую на нем пачку бумаг.
– Слышал поговорку: «Фея и эльф неразлучны, как день и ночь»? Наши дети рождались смертными, но всегда выдающимися. Их короновали, объявляли гениями, им воздавали божественные почести. В этом мире мы можем иметь детей от смертных женщин, но, как правило, это жалкие посредственности.
Джекоб все еще стоял перед зеркалом и, как ни старался, не мог отвести глаз от своего отражения. Внезапно у него возникло ощущение, что зеркало его высасывает.
– Оно забирает у тебя лицо, – раздался за спиной голос эльфа. – Помощники, которых мы создаем при помощи зеркал, долговечнее их смертных оригиналов. Ирония природы. Ну-ка, покажитесь!
По комнате прошелестел теплый ветер, и в льющихся из окна солнечных лучах нарисовались два словно стеклянных силуэта. Вся комната отражалась в них: белые стены, стол, оконные рамы. Фигуры стали видимыми, когда лица окрасились в цвет человеческой кожи, а на телах появилась одежда.
Сходство было совершенным, вплоть до кистей рук. Только на этот раз девушка не прятала их под перчатками: на стеклянных пальцах блестели серебряные ногти. Юноша рядом с ней выглядел моложе Уилла, хотя кто знает, сколько лет ему на самом деле.
– Всего несколько недель, – ответил Игрок.
Джекоб задался вопросом, читает ли эльф и прочие его мысли.
– Шестнадцатую ты уже знаешь. Семнадцатый имеет больше лиц, чем она, но думаю, не будет лишним присовокупить к ним и твое.
Джекоб грубо оттолкнул девушку, когда та протянула ему руку. Ее «брату» – если его можно было так назвать – это не понравилось, но эльф предостерегающе посмотрел на него, и фигура Семнадцатого снова стала стеклянной, а потом слилась с зеркалом. Шестнадцатая последовала за ним, однако не раньше, чем улыбнулась Джекобу глазами Клары.
– Должен заметить, больница, где я одолжил у невесты твоего брата лицо, – примечательное место, – продолжал эльф. – Там, как нигде, можно понаблюдать за работой смерти. Еще та мистерия! – Игрок достал из кармана медальон, не больше карманных часов. В нем оказалось два зеркала: темное и прозрачное. – Мне было достаточно оставить их на столе медсестры. Никто из вас не может не поддаться искушению лишний раз взглянуть на свое отражение. Словно чтобы удостовериться, что его лицо все еще при нем. Вас пугает, когда оно начинает меняться.
Тут Игрок снова поменял обличье. Теперь перед Джекобом стоял Норебо Джон Ирлкинг, с которым они встречались в Чикаго.
– Позволь представиться, Оберон – обязанный своим карликовым ростом проклятию Феи. Признаюсь, я надеялся, что ты поймешь мой намек. Зеленые глаза… Ну и имя, конечно. Лицо я позаимствовал у актера, который прекрасно воплотил Оберона на сцене. Мне всегда нравилось играть образами, в каких вы нас представляете. Или самих себя.
Лица сменялись одно за другим. Одни казались Джекобу знакомыми, другие нет. Наконец перед ним предстал человек, которого он помнил больше по фотографиям на столе матери.
Игрок смахнул с лица седеющую прядь Джона Бесшабашного.
– Твоя мать так ничего и не заподозрила. Я очень привязался к ней. Больше, чем мог себе позволить. Хотя, боюсь, принес ей счастья не больше, чем твой отец.
Клара
В первый раз Клара обратила внимание на эту девушку еще в коридоре, где обсуждала с врачом состояние ребенка, госпитализированного с аппендицитом. Лицо посетительницы показалось знакомым, однако за хлопотами Клара тут же о ней забыла.
Уилл опять мучился бессонницей и не хотел говорить, что именно не дает ему уснуть. Вместо этого он придумывал отговорки, для Клары и самого себя. Луна, плотный ужин, книга, которую ему непременно нужно дочитать до конца… Он стыдился самого себя и прятал свои мысли, желания и чувства. В них был другой, невидимый Уилл. Кларе давно следовало взглянуть правде в глаза, но идти по следам невидимок непросто. Как будто в сердце Уилла была тайная комната, куда и сам он имел доступ разве только во сне.
Но дело не только в Уилле. С самой Кларой в последнее время происходило нечто странное.
Как будто кто-то побывал у нее в голове и что-то забрал оттуда. Особенно остро Клара ощущала это утром, когда разглядывала себя в зеркале. Иногда лицо в глубине запотевшего стекла казалось ей чужим, или она видела себя ребенком, или узнавала черты своей матери. Она вдруг стала думать о вещах, о которых не вспоминала целую вечность. Будто кто-то перемешал ее прошлое чайной ложкой и поднял забытое со дна, как кофейную гущу. Ни Уиллу, ни кому-либо другому Клара, конечно же, ни в чем так и не призналась. Иначе интересный бы получился диагноз для будущего врача.
Хотя она все-таки подумывала поговорить об этом с Джекобом. Ее саму пугало, с каким нетерпением она каждый раз ждала встречи с ним. Напрасно Клара убеждала себя, что это не по Джекобу она так скучает, а по его миру и той, зазеркальной жизни. Клара не могла насытиться историями, которые рассказывали они с Лисой, и стыдилась этого. Стоило ли завидовать всему тому, что эти двое там испытали? Разве не хотелось ей самой столько раз послать это зеркало к черту! Но снова и снова Клара выжидала минутку, чтобы проникнуть в запыленную комнату и вглядеться в стекло, за которым таился запретный для нее мир. Неужели так было и с Уиллом? Если да, то виду он, во всяком случае, не подавал.
Клара уединилась в сестринской, чтобы подготовить медицинское заключение на завтра, когда девушка, которую она видела утром в коридоре, возникла в дверях. Клара не слышала, как она вошла.
– Клара Фэбер? – Незнакомка очаровательно улыбнулась. Клара обратила внимания на ее перчатки, – несмотря на жару! – из бледно-желтой кожи. – Я должна кое-что вам передать. От поклонника.
С этими словами незваная гостья достала из сумочки шкатулку и, прежде чем Клара успела ее остановить, выложила на стол. Там, на подкладке из серебряной ткани, лежал мотылек с эмалевыми крыльями. Клара никогда не видела такой красивой броши. Еще не успев понять, что делает, она взяла мотылька на ладонь и с трудом удержалась от того, чтобы тут же не приколоть на лацкан.
– Что за поклонник?
Уилл никогда не дарил ей ничего подобного. Они едва сводили концы с концами, да и квартира обходилась недешево. Мать Уилла и Джекоба оставила после себя кучу долгов.
– Я не могу это принять. – Клара решительно положила мотылька в шкатулку и только потом заметила, что укололась.
– Клара…
Незнакомка словно смаковала ее имя. Откуда она его, собственно, знает? Ах да, беджик… Девушка снова вытащила брошь и, не обращая внимания на протесты Клары, приколола на лацкан халата.
– У вас такое имя… – продолжала она, – как бы и мне хотелось иметь имя… Шестнадцатая… о чем это говорит, кроме того, что до меня было еще пятнадцать…
О чем она? Клара увидела выступившую на пальце каплю крови. Ранка оказалась на удивление глубокой. На Клару вдруг навалилась усталость. Ничего удивительного, столько ночных дежурств за последнее время.
Она подняла глаза. Нависшее над ней лицо казалось точь-в-точь похожим на ее собственное.
– Оно такое же красивое, как имя, – прошептала незнакомка. – Но у меня много лиц.
В дверях она снова стала прежней. Только теперь Клара ее узнала: эта самая женщина была на фотографии, которую Уилл унаследовал от своей матери. Клара попыталась встать, но ударилась коленкой о стол. Ноги обмякли, и она повалилась на кресло. Спать.
– Веретено, шипы розы… – прошипела незнакомка, мгновенно изменившись в лице. – Брошь намного лучше.
Окровавленная колыбель
Женщина билась в истерике. Доннерсмарк не понимал ни слова из того, что она кричала, тыча ему в лицо окровавленной тряпкой. Оба гоильских солдата были ошеломлены человеческой несдержанностью, даже на их каменных лицах читалось некое подобие ужаса.
– Где императрица?
– У себя в будуаре. Ее не осмелились беспокоить.
Это сказал солдат с сердоликовой, как у короля, кожей. С некоторых пор, по приказу Амалии, для охраны дворца отбирали только таких.
– Кто решится ей сказать…
Кто, как не личный адъютант.
Видит Бог, Доннерсмарк предпочел бы заявиться к ней с другим известием. Особенно сейчас, когда после недельного отсутствия Амалия без лишних вопросов снова приняла его на службу.
О Синей Бороде он рассказал ей сам. Но обо всем остальном – страшных ранах, которые нанес ему слуга-олень, и лечении у деткоежки – умолчал. Никто не видел его шрамов, даже купеческая дочка, которую Доннерсмарк по осени собирался взять в жены. Он не хотел ей объяснять, как получилось, что рядом со шрамами остались словно выжженные на коже отпечатки ведьминых пальцев. Его грудь походила на поле битвы, где основательно потопталось несколько армий. Но даже это было не самое страшное. Каждую ночь Доннерсмарк видел один и тот же сон: он превращался в оленя и молил Темного Бога, покровителя солдат и убийц, вернуть ему человеческий облик.
Множество комнат и переходов отделяло спальню Лунного принца от покоев его матери. Ничто не должно тревожить сон королевы. Вот почему в то утро страшное известие не сразу достигло ее ушей.
По слухам, знаменитое говорящее зеркальце, которым владела прабабушка императрицы, и то, перед которым сидела сейчас Амалия, были сделаны из одного стекла. «Кто на свете всех милее?..» Королева услышала бы в ответ на этот вопрос именно то, что желала слышать. Золотые волосы, безупречной формы нос и фиалкового оттенка глаза – только одна женщина могла соперничать красотой с Амалией Аустрийской. Но и та не принадлежала к человеческому племени.
Они были как день и ночь. За время, прошедшее после свадьбы, король все чаще отдавал предпочтение дню, и фигура Темной Феи мелькала в дворцовых переходах немым укором оскорбленной любви. То, что красоту, очаровавшую Кмена, соперница получила от лилий фей, не делало обиду менее горькой.
Горничная, скреплявшая волосы Амалии русалкиными слезками, сердито посмотрела на Доннерсмарка. Слишком рано. Ее госпожа не готова явить миру свое лицо.
– Ваше величество…
Амалия вздрогнула. Не оборачиваясь, поймала его взгляд в зеркале. И месяца не прошло с тех пор, как королева отметила двадцать первый день рождения, и Доннерсмарку она по-прежнему казалась заблудившимся в лесу ребенком. Что ей корона и расшитое золотом платье? Даже лицо купила ей мать, потому что то, с которым Амалия увидела свет, оказалось недостаточно красивым.
– Речь пойдет о вашем сыне.
Амалия почувствовала, как вокруг нее сгущается тьма. Она все еще не сводила глаз со своего отражения. И что-то было в ее взгляде, помимо обычной растерянности. Что-то такое, чего Доннерсмарк объяснить не мог.
– Няньке давно следовало бы принести его сюда. Я не хотела нанимать эту бестолковую деревенскую дуру. – Амалия провела рукой по золотым волосам, словно они были чужие. – Права была мать, когда говорила, что крестьяне глупы, как скот. А у поварят на кухне мозгов не больше, чем у сковородок.
Доннерсмарк избегал смотреть в глаза горничным, как видно привыкшим сносить оскорбления от госпожи. «А как насчет солдат? – мысленно спросил он. – Или фабричных рабочих, бросающих уголь в ненасытные утробы печей?»
Вероятно, Амалия не оценила бы этой иронии. Она только что расправилась с бастующими горняками, послав против них солдат мужа. Без согласия последнего.
Ребенок в лесу. Только с армией за плечами.
– Не думаю, что это вина няньки, – возразил Доннерсмарк. – Сегодня утром колыбель вашего сына оказалась пуста.
Фиалковые глаза расширились. Амалия смахнула с головы руку горничной и еще пристальнее вгляделась в зеркало, словно силилась что-то прочитать на своем лице.
– Что это значит? Где он?
Доннерсмарк опустил голову. Правду и только правду, какой бы горькой она ни была.
– Мои люди его ищут. На колыбели и подушке остались пятна крови.
Одна из горничных всхлипнула. Остальные, разинув рты, уставились на Доннерсмарка. Амалия так и застыла перед туалетным столиком. Нависла тишина, пронзительней нянькиного крика.
– То есть он мертв.
Она первая произнесла это слово.
– Мы еще ничего не знаем. Возможно…
– Он мертв, – оборвала королева Доннерсмарка. – И ты не хуже меня знаешь, кто его убил. Она завидовала мне, потому что не могла родить сама, но не решалась причинить ему зло, пока Кмен не уехал.
Амалия зажала ладонью совершенной формы рот и повернулась. Фиалковые глаза наполнились слезами.
– Приведи ее ко мне, – приказала она, вставая. – В тронный зал.
Горничные посмотрели на Доннерсмарка со смешанным выражением ужаса и сочувствия. Кухарки говорили, что Темная Фея варит змей, чтобы передать своему лицу блеск их кожи. Дворцовые слуги шептались, что человек падает замертво, стоит ей невзначай коснуться его подолом. Кучера божились, что не жилец тот, на кого пала ее тень. А садовники, в чьих угодьях Фея гуляла каждую ночь, прочили скорую смерть наступившему на ее след.
Тем не менее до сих пор все оставались живы.
Зачем же Фее понадобилось убивать ребенка, родившегося только благодаря ее колдовству?
– У вашего супруга много врагов. Может быть…
– Приведи ее, – повторила королева. – Она отняла у меня сына.
Гнев лишил Амалию разума. С ее матерью такого не случалось.
Доннерсмарк молча склонил голову и развернулся. «Приведи» – легко сказать. С тем же успехом королева могла велеть ему достать луну. Конечно, можно было собрать всю дворцовую стражу, но разве не явилось бы это лишним подтверждением бессилия королевской власти перед ее чарами?
Два солдата, которые привели к нему няньку, побледнели, услышав приказ.
Няньку заперли в ее каморке, однако страшная новость уже разнеслась по дворцу. На лицах всех, кого Доннерсмарк встречал в коридорах, отражался не только ужас, но и плохо скрываемое облегчение. Потому что принц Лунного Камня, хоть и имел лицо ангела, был существом странным: не то гоил, не то человек.
Был? Ты уже говоришь о нем в прошедшем времени, Лео Доннерсмарк?
Но он видел колыбель.
С тех пор как Амалия во всеуслышание объявила о своей беременности, Темная Фея жила в павильоне, который велел построить для нее Кмен в замковом саду, якобы по ее просьбе.
Он приставил своих гвардейцев охранять ее. Никто так и не понял от кого: от томимых страстью мужчин, попадавших под ее чары, стоило Фее мельком взглянуть на них из окна кареты; от приспешников ли свергнутой императрицы, исписавших стены городских домов призывами вроде «Смерть гоилам!» или «Долой Фею!»; или от анархистов, выдвигавших свой лозунг: «Смерть всем господам!»
«Чепуха! – гласили листовки, которые горожане подбирали утром на скамейках в парке и железнодорожных платформах. – Каменный король печется не о Фее! Он защищает от нее своих подданных». Никто не сомневался, в конце концов, что при помощи магии любовница Кмена сможет без труда защитить королевство от объединившихся армий Лотарингии и Альбиона.
Приведи ее.
Лишь только в зелени проглянул стеклянный фронтон павильона, в душе Доннерсмарка затеплилась последняя надежда: а вдруг Фея уехала. Она имела обыкновение время от времени покидать замок, иногда на несколько дней. Конюхи шептались, что лошади, везущие ее карету, – заколдованные жабы, а кучер – паук в человеческом обличье.
Надежды Доннерсмарка рухнули: она была дома. Если, конечно, действительно считала это место домом.
Гвардейцы Кмена пропустили Доннерсмарка без лишних слов. Два гоила: яшмовый и лунного камня. В отличие от Амалии Фея не требовала, чтобы ее охрана имела такую же кожу, как Кмен. Но сопровождающим королевского посланника солдатам преградили путь. Доннерсмарк не протестовал: если Фея вознамерится его убить, ни один человек на свете не сможет этому воспрепятствовать. До сих пор он видел ее только издали, одну или в сопровождении короля. На балах, дворцовых приемах, в последний раз – на празднике в честь рождения принца. Фея ничего не преподнесла младенцу: ее подарком была кожа, сохранившая принцу жизнь.
Она предстала перед ним одна, без слуг и горничных. От ее красоты у Доннерсмарка перехватило дыхание, как от внезапной боли. Полная противоположность детской миловидности Амалии. Неудивительно, ведь Фея никогда не была ребенком.
Стеклянная крыша павильона переливалась всеми цветами радуги. Так пожелала Фея, чтобы деревцам, которые она велела насадить между мраморными плитами пола, хватало солнца. Саженцам всего несколько недель, но они уже царапали прозрачный потолок, а покрытые цветами ветви заслоняли стены. И все вокруг нее росло и плодоносило, словно она была сама Жизнь. И ее платье казалось сшитым из листьев.
– Странный узор на вашей груди, – заметила Фея. – Олень уже зашевелился?
Она видела то, что скрыто от остальных. Ее тень на мраморных плитах была черной, как лесная почва близ домика деткоежки.
– Императрица желает вас видеть.
Напрасно Доннерсмарк приказывал себе не смотреть на нее, взгляд Феи приковывал, не давая опустить глаза.
– Зачем?
Почти звериным чутьем посланник почувствовал исходящий от нее гнев.
– Ребенок жив, передай ей. И скажи, что она умрет, как только его не станет. Я нашлю на нее моль, и гусеницы будут окукливаться под ее кожей. Ты понял? Слово в слово, и не торопись… Соображает она так же туго, как скоро гневается. Ступай!
Тени за деревьями зашевелились. За шелковым диваном, на котором, как говорили, Фея никогда не лежала, замелькали фигуры волков и единорогов. Зашипели змеи на коврах, которые Кмен нарочно для нее выписал из Нагпура. Они не предназначались для стен, построенных руками смертных. Но этот гнев означал боль, и ее боль тронула Доннерсмарка сильней, чем красота. Он застыл, не в силах сдвинуться с места, и только не мог взять в толк, что делал король в кукольной спальне Амалии, в то время как она ждала его здесь.
– Ну, что еще?
Теперь ее голос звучал мягче. Под ногами Доннерсмарка плиты пола проросли цветами.
Он развернулся.
– Приходи, когда олень оживет, – бросила она ему вслед. – Я научу тебя укрощать его.
Он почти не видел стражей, распахнувших перед ним двери.
Спотыкаясь и прижимая руку к изуродованной груди, Доннерсмарк вышел на широкий двор. Оба солдата посмотрели на него вопросительно. Доннерсмарк заметил мелькнувшее на их лицах облегчение от того, что он вернулся один.
Бессонница
Четыре утра. Лиса считала удары колокола церкви на рыночной площади. Она спала в комнате Джекоба, как и всегда в его отсутствие. Постель хранила его запах, или ей так только казалось. Вот уже несколько месяцев, как Джекоб уехал из Шванштайна. Последний пьяница вывалился на рыночную площадь прямо под ее окнами. Доносящиеся снизу звуки означали, что Венцель убирает со столов грязные стаканы. В соседней каморке кашлял во сне Ханута. Венцель говорил ей как-то, что старику нездоровится в последнее время, но того, кто скажет об этом Джекобу, Ханута собственноручно утопит в бочке с самым кислым вином. На его месте Джекоб сделал бы то же самое. Два сапога пара – и каждый изо всех сил старается не показывать, как много для него значит другой.
Но когда старик велел ей привести к нему Альму Шпитцвег, Лиска поняла, что дела его действительно плохи. Старый охотник за сокровищами на дух не выносил ведьм, ни темных, ни светлых. Они внушали ему страх, но он скорее отдал бы на отсечение оставшуюся руку, чем признался в этом. Однако что ему оставалось после того, как доктор из Виенны оказался бессилен, окончательно утвердив старика во мнении о бесполезности горожан?
Старая ведьма питала к Хануте ответную неприязнь и, вдобавок ко всему, до сих пор пеняла за то, что он обучил Джекоба своему разбойничьему ремеслу.
В эту ночь она явилась снова. Лиска почувствовала запах тимьяна, медуницы и ведьминой мяты, а кашель Хануты понемногу начал стихать. Альма бросала в зелье несколько шерстинок своей кошки, но об этом Альберту Хануте лучше было не знать. Снаружи залаяла собака, и Лиске почудился писклявый голосок дупляка. Она запустила руку под подушку, чтобы нащупать шкуру. Со дня возвращения Лиска надевала ее всего два раза, и каждый отнял у нее несколько лет жизни. Она все еще надеялась, листала магические книги в библиотеках, где Джекоб наводил справки о потерянных сокровищах. Но в книгах говорилось, что оборотни умирают молодыми, если только вовремя не сжигают шкуру. И Лиска стала приучать себя к человеческому облику.
Совсем недавно она гуляла в компании Людовика Ренсмана и Грегора Фентона, вот уже в который раз просившего ее позировать для рекламной фотографии. Эти снимки, так восхищавшие горожан, Грегор выставлял в витрине своего ателье. Ни один из спутников Лисы ничего не знал о ее шкуре. В Шванштайне эта тайна была известна только Венцелю и Хануте.
Когда Людовик попытался поцеловать Лису, она оттолкнула его, пробормотав извинения. Иначе как было объяснить, что за воспоминания будят в ней его робкие поцелуи, – о темной карете, красной комнате и молоке страха, ее собственного страха… С некоторых пор любовь в ее сознании оказалась неразрывно связанной со смертью и страхом – последний подарок Синей Бороды.
И ни малейшего шанса уснуть.
Лиса откинула одеяло, под которым так часто грелась рядом с Джекобом, и схватилась за платье. Оно насквозь пропиталось запахом другого мира, и даже Кларе не пришло в голову его постирать.
Из комнаты Хануты не доносилось никаких звуков, и снаружи все было тихо, если не считать возни двух дупляков, затеявших драку из-за хлебной корки. Лиса высунулась в окно прогнать их, пока не разбудили больного, и тут на пороге по явилась Альма. Полумрак добавил ей морщин. Как и все ведьмы, Альма умела принимать облик молодой девушки, однако не любила скрывать свой возраст. «Мне нравится выглядеть на столько лет, сколько мне есть», – повторяла она, когда кто-нибудь имел глупость спросить ее о причине.
Альма улыбнулась Лиске усталой улыбкой, хотя ведьме-то было не привыкать к бессонным ночам. Она лечила скотину и детей от болезней тела и помрачения ума. Звали ее и когда подозревали порчу. Женщины особенно доверяли Альме, больше, чем доктору из города. Кроме того, на сотню миль вокруг она была единственной знахаркой, если не считать деткоежек из Черного леса, век за веком дремавших в своих болотах, подобно жабам.
– Как он?
– Чем мне тебя утешить? Он слишком поздно расстался с бутылкой, чтобы дожить до глубокой старости. Сбить кашель – вот все, что я могу. Хочет большего – пусть обращается к деткоежке. Но он не при смерти, что бы он там ни думал. Ох уж эти мужчины! Стоит пару ночей помучиться кашлем – как в дверях мерещится призрак с косой. С тобой-то что, почему не спишь?
– Ничего.
– Поначалу Джекоб неделями не спал после перехода. Это твой первый раз? – Альма поправила седые волосы, густые, как у молодой женщины. – Да, я знаю про зеркало, только не говори Джекобу, он боится слухов. Он у брата?
Лиса сама не понимала, чему удивляется: Альма жила на этом свете, когда еще на месте шванштайнских руин стоял замок.
– Он собирался вернуться через несколько дней…
– Что для Джекоба совсем недолго, – закончила за нее ведьма.
Они обменялись улыбками, которые, конечно же, не понравились бы Джекобу.
– Если он задержится, нам придется разыскать его ради Хануты. И пусть старый пропойца скормит меня своей кляче, но я скажу: с Джекобом ему полегчает. Я не знаю больше никого, к кому бы он так прикипел сердцем. Разве к актрисе, чей портрет выжег у него на груди бурым камнем один ханыга. Но старый дурень так стесняется его, что боится лишний раз расстегнуть рубашку.
Тут Ханута снова закашлялся, и Альма вздохнула.
– Ну почему я такая жалостливая! Еще недавно чуму паучью насылала на него из-за Джекоба, а теперь вот ночей не сплю… Деткоежки убивают в себе жалость, поедая детские сердца, наверняка есть и более аппетитный способ. Поможешь приготовить отвар? Даже если Ханута выплюнет его мне в лицо, потому что там не будет водки.
Лиса понимала, что никакой помощи Альме не требуется. Просто ведьма решила отвлечь ее, раз уж навязчивые мысли все равно не дают уснуть. В пивном зале, куда они спустились, никого не было. Даже Венцель уже спал. Он редко ложился раньше рассвета: согласно распоряжению Хануты, харчевня «У людоеда» закрывалась с уходом последнего посетителя. На кухне пахло супом, который помощник Хануты сварил на завтра. «Плохой солдат, зато отличный повар», – так говорил о себе Тобиас Венцель. Пока Лиса разогревала суп, Альма готовила целебное зелье.
– Я давно знаю про зеркало, – говорила она. – Гораздо дольше, чем Джекоб. Не его первого видела я выходящим из башни.
Это откровение так потрясло Лису, что она забыла про суп. Она никогда не спрашивала Джекоба о зеркале. Сам он тоже не поднимал эту тему, вероятно потому, что она слишком долго оставалась его личной тайной.
– Я уже не говорю об отце Джекоба, – продолжала Альма. – Он долго жил в Шванштайне, но я не любила его, поэтому не вспоминаю о нем при Джекобе. Нет. Первый явился сюда за полстолетия до Джона. В Виенне правил тогда не то Людвиг, не то Максимилиан, тот самый, что скормил свою младшую дочь драконам. А на месте руин стоял Охотничий замок, прекраснее не было во всей Аустрии. Тогда еще шванштайнцы прогнали великана, который украл пекаря. Должно быть, решил подарить игрушку своим детям. Я слышала, именно с этой целью великаны обычно и похищают людей.
На ситечке, через которое ведьма процеживала свой чай, остались висеть кошачьи волоски.
– Эрих Земмельвайс[1] – я никогда не забуду этого имени, потому что оно напоминает мне о похищенном пекаре. Позже я узнала, что это девичья фамилия матери Джекоба. То есть это был один из его пращуров, насколько я понимаю. И вот он явился сюда, бледный, как шампиньон, и пахнущий, как алхимики с улицы Небесных Врат, что превращают свои сердца в золото. Этот Земмельвайс сделал хорошую карьеру в Виенне, вроде даже служил наставником императорского сына. – Альма повернулась к Лисе. – Ты, наверное, хочешь спросить меня, зачем я тебе об этом рассказываю посреди ночи? Так вот, в один прекрасный день Эрих Земмельвайс возвратился сюда из Виенны с невестой и объявил во всеуслышание, что отплывает в Новую Землю. И люди ему поверили, как верят сейчас альбийским историям Джекоба. Но через год я видела их обоих выходящими из башни, а потом Земмельвайс позвал меня к себе, потому что его супруга потеряла сон. Джекоб хорошо приспособился к переходам, но поначалу и он часто болел, так что будь осторожна.
– И что потом сталось с женой Земмельвайса?
Ведьма перелила отвар в кубок, украденный, по словам Хануты, у короля Альбиона.
– Кто-то похитил у нее первенца. Я всегда подозревала гнома, живущего в руинах. Но она родила еще двоих детей.
Невеста из Виенны. Заспанным мозгам Лисицы понадобилось время, чтобы понять, что это значит.
– Ты должна повторить эту историю при Джекобе.
– Нет. – Альма покачала головой. – Можешь сказать ему, что мне известно про зеркало, но остальное пусть выведывает сам. Отец – единственный, кто ему интересен. Хотя, может статься, его тяга к этому миру больше связана с матерью.
Прочь
Толпа штурмовала стены, а стражники Амалии даже не пытались сдержать ее.
Потом полетели камни. То, что она могла восстановить разбитое стекло одним мановением руки, лишь распаляло голодранцев. Но Фея хотела показать, как смешон их гнев. Если бы от их криков можно было отмахнуться так же легко…
И ни слова от Кмена.
Молчание лишь подтверждало, что он поверил Амалии. Найти другое объяснение не составляло труда: письма часто перехватывали повстанцы, в конце концов, его ответ мог просто затеряться на долгом пути из Пруссии в Виенну. Но Фея предпочитала смотреть правде в глаза. Солдаты Кмена все еще бродили вокруг ее павильона, но перестали нести караул у дверей. Через забор летели камни, ругательства, но стражники и пальцем не пошевелили, чтобы прогнать подстрекаемую Амалией чернь. Никто не смел заступить ей путь, тем не менее отныне Фея была пленницей Амалии.
«Чертовка, болотная жаба!» – все это она слышала давно. Но теперь добавилось еще одно: детоубийца.
Неужели Кмен поверил, что она извела его сына? Каких сил стоило ей поддерживать в нем жизнь! Она ослабела. И наградой за все – молчание. И боль.
Сестры предупреждали. Она превратится в собственную тень, говорили они. Но она заплатила эту цену за любовь Кмена, даже если стыдилась признаться себе в этом.
Все кончено. Теперь мотыльки – бесплотные тени обманутой любви – ее единственные помощники. Или нет, есть еще один. Стекло хрустнуло под каблуком сапога. Хромой солдат, служивший еще матери Амалии. Такой же отверженный, даже если он сам еще не успел это понять.
– Восстание на севере разгорается. Трудно сказать, когда вернется Кмен.