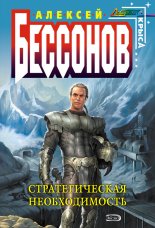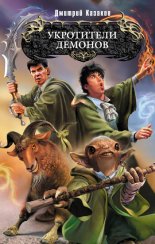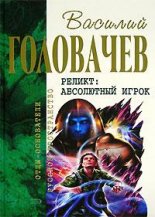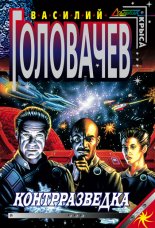Колокол по Хэму Симмонс Дэн
Глава 1
В конце концов он сделал это 2 июля 1961 года в штате Айдахо, в своем новом доме с видом на высокие горные вершины, на реку, протекавшую в долине, и на кладбище, где были похоронены его друзья. Впрочем, подозреваю, этот дом ничего для него не значил.
Когда эта весть достигла моих ушей, я находился на Кубе.
Я вижу в этом некую иронию, поскольку не возвращался на Кубу в течение девятнадцати лет, миновавших с тех пор, когда я расстался с Хемингуэем. Еще более странным мне кажется тот факт, что 2 июля 1961 года мне исполнилось сорок пять лет. Весь этот день я ходил за низкорослым грязным мужчиной по грязным барам, а потом провел за рулем всю ночь, продолжая следить за ним – он проехал триста пятьдесят километров по необитаемым джунглям, мимо бронированного локомотива в Санта-Кларе, которым отмечен поворот на Ремедиос. Прежде чем покончить дела с грязным коротышкой, я провел в тростниковых полях и пальмовых зарослях еще день и ночь и впервые услышал радио только в отеле «Перла» в Санта-Кларе, где остановился промочить горло. Из динамика неслась печальная, едва ли не похоронная музыка, но я не обратил на нее внимания и ни с кем не разговаривал. О смерти Хемингуэя я узнал только вечером, по возвращении в Гавану, когда выписывался из гостиницы в здании, где находилось посольство США – до того, как несколько месяцев назад, в январе, Кастро вышвырнул из страны американцев.
– Вы слышали, сеньор? – произнес семидесятилетний носильщик, ставя мои сумки на тротуар.
– О чем? – спросил я. Старик знал обо мне только то, что я – делец из Колумбии, и если у него было для меня личное сообщение, это не сулило ничего хорошего.
– Писатель умер, – сказал старик. Его впалые щеки, покрытые седой щетиной, судорожно дрогнули.
– Какой писатель? – спросил я, глядя на часы. Мне нужно было успеть на самолет, отправлявшийся в восемь вечера.
– Сеньор Папа, – ответил носильщик.
Я замер, держа запястье у лица. Несколько мгновений мне было трудно сосредоточить взгляд на циферблате.
– Хемингуэй? – спросил я.
– Да, – сказал старик, продолжая кивать и после того, как произнес последнее слово.
– Как это произошло? – спросил я.
– Выстрел в голову, – объяснил старик. – Он сделал это собственной рукой.
«Еще бы», – подумал я и спросил:
– Когда?
– Два дня назад, – ответил старик и тяжело вздохнул.
Я почувствовал запах рома. – В Соединенных Штатах, – добавил он таким тоном, будто это все объясняло.
– Sic transit hijo de puta, – пробормотал я себе под нос.
В пристойном переводе это означало примерно следующее:
«Так уходит сын шлюхи».
Голова старика на морщинистой шее резко дернулась назад, словно ему закатили оплеуху. Его робкие слезящиеся глаза внезапно полыхнули гневом, граничащим с ненавистью.
Он поставил мой багаж на пол вестибюля, словно освобождая руки для драки. Я сообразил, что он, должно быть, хорошо знал Хемингуэя.
Я поднял правую руку, выставив ладонь вперед.
– Все в порядке, – сказал я. – Это слова самого писателя. Хемингуэй произнес их, когда во время Великой революции с острова прогнали Батисту.
Носильщик кивнул, но его глаза продолжали сердито сверкать. Я дал ему два песо и зашагал прочь, оставив вещи у двери.
Первым моим побуждением было разыскать автомобиль, на котором я ездил и который бросил на улице неподалеку от Старого города, и отправиться к финке. Но тут же понял, что это не слишком удачная мысль. Я должен был добраться до аэропорта и как можно быстрее покинуть страну, а не шляться по окрестностям, словно какой-нибудь турист. Вдобавок финку конфисковало революционное правительство, и теперь ее охраняли солдаты.
«Что они там охраняют?» – подумал я. Тысячи книг, которые он не смог вывезти из страны? Дюжины его кошек? Его винтовки, ружья и охотничьи трофеи? Его яхту? Кстати, где сейчас находится «Пилар»? Все еще на приколе у Кохимара или служит государству?
Как бы то ни было, я точно знал, что весь этот год поместье Хемингуэя служило лагерем для сирот и бывших попрошаек, которых теперь обучали военному делу. Правда, в Гаване ходили слухи, что этих оборванных вояк не пускали в дом – они жили в палатках рядом с теннисными кортами, но их команданте спал во флигеле для гостей, наверняка на той самой кровати, которая была моей, когда мы руководили оттуда «Хитрым делом». Под подкладкой моего костюма хранился негатив, на котором была ясно запечатлена противовоздушная батарея, установленная Фиделем в патио дома Стейнхарта на холме по соседству с фермой писателя, – шестнадцать советских стомиллиметровых зенитных орудий для обороны Гаваны с позиций на высотах. К ним были приставлены восемьдесят семь кубинских артиллеристов и шесть русских советников.
Нет, путь в финку мне заказан. По крайней мере, сегодняшним жарким летним вечером.
Я прошагал одиннадцать кварталов по улице Обиспо до «Флоридиты». Уже теперь, всего год спустя после революции, улицы казались вымершими, по сравнению с плотными потоками машин и пешеходов, которые я помню по началу 40-х.
Из бара вышли четыре советских офицера. Они были изрядно пьяны и орали песни. Кубинцы, оказавшиеся в эту минуту на улице Обиспо – юноши в белых рубашках и миловидные девушки в коротких юбках, – лишь отводили взгляд, когда русские стали мочиться при людях. Даже проститутки не приближались к ним.
Я знал, что «Флоридита» также отошла в собственность государства, но сегодня вечером бар работал. Я слышал, что в 50-х там установили кондиционеры, но либо мой информатор был введен в заблуждение, либо после революции охлаждение воздуха стало непозволительной роскошью, потому что все жалюзи были подняты, а двери открыты нараспашку – точь-в-точь, как в те времена, когда мы выпивали здесь с Хемингуэем.
Разумеется, я не стал входить туда. Я глубже надвинул свою «федору» и, проходя мимо бара, смотрел в другую сторону, лишь однажды заглянув внутрь, когда мое лицо оказалось в тени.
Любимый табурет Хемингуэя у дальнего левого края стойки рядом со стеной был свободен. Ничего странного. Нынешний хозяин бара – государство – распорядился, чтобы на нем никто не сидел. Над пустым табуретом, превращенным в мемориал, красовался бюст писателя – темный, бесформенный и аляповатый. Я слышал, что поклонники преподнесли его Хемингуэю, после того как он получил Нобелевскую премию за свою пошлую рыбацкую повесть. Бармен – не Константе Рибаилахия, мой знакомый «кантинеро», а более молодой мужчина средних лет – надраивал стойку напротив табурета, как будто в любую минуту ожидал возвращения писателя из морского похода.
Дойдя до узкой улочки О'Рили, я повернул назад к отелю.
– О господи, – прошептал я, смахивая пот из-под шляпной ленты. Того и гляди кубинцы сделают Хемингуэя кем-то вроде коммунистического святого. Я и раньше встречал такое в католических странах после успешных марксистских переворотов. Верующих изгоняли из храмов, но им по-прежнему были нужны эти чертовы «santos». Социалистические режимы повсеместно старались угодить им, возводя бюсты Маркса, расписывая стены гигантскими изображениями Фиделя и развешивая плакаты с портретами Че Гевары. Я улыбнулся, представив Хемингуэя в роли главного святого Гаваны, и торопливо пересек улицу, чтобы не попасть под колеса колонны русских военных машин.
– La tenia cogida la baja, – прошептал я, извлекая из памяти фразу на полузабытом гаванском сленге. Этот город, более чем все остальные, должен «знать свои слабые места», уметь угадывать подводные камни.
Тем вечером я вылетел из Гаваны, намного больше занятый размышлениями о возможных последствиях моего визита в замаскированный лагерь к югу от Ремедиоса, чем об обстоятельствах смерти Хемингуэя. Однако в последующие недели, месяцы и годы именно эти обстоятельства, именно эта смерть стали для меня навязчивой идеей.
В первых сообщениях «Америкэн Пресс» говорилось, что Хемингуэй чистил одну из своих винтовок, и та случайно выстрелила. Я сразу понял, что это чепуха. Хемингуэй ухаживал за своим оружием с юности и никогда не допустил бы такой оплошности. Чуть позже в выпусках новостей было подтверждено, что он вышиб себе мозги. Но каким образом? Я помнил, что единственный бой на кулаках между мной и писателем завязался из-за того, что он пытался продемонстрировать мне, как совершаются самоубийства. Он поставил приклад своего «манлихера» на циновку в гостиной, приложил дуло к губам, сказал: «В рот, Джо; небо – самое мягкое место черепа», – и нажал спусковой крючок большим пальцем ноги. Курок сухо щелкнул, Хемингуэй поднял лицо и улыбнулся, словно ожидая от меня одобрения.
«Это было очень глупо», – отозвался я.
Хемингуэй швырнул «манлихер» в кресло, расписанное цветами, покачался с пятки на носок, пошевелил пальцами и спросил:
«Что ты сказал, Джо?»
«Это было очень глупо, – повторил я. – Но даже будь все иначе, только „mariconi“ суют стволы себе в рот».
В самом мягком переводе слово «mariconi» означает «гомик», «голубой». Мы вышли из дома к бассейну и затеяли там драку, забыв о правилах – просто накинулись друг на друга с кулаками.
В тот июльский день 1961 года, в Айдахо, Хемингуэю не было нужды засовывать ствол себе в рот. Вскоре после сообщения о гибели его последней жены выяснилось, что он убил себя из винтовки – двуствольной винтовки двенадцатого калибра, хотя более поздние сообщения расходились на этот счет. Впоследствии брат Хемингуэя Лестер написал, будто бы тот застрелился из двуствольного «ричардсона» двенадцатого калибра. Первый биограф Хемингуэя утверждал, будто бы он выбрал двуствольный «босс» с глушителем, свою любимую винтовку для стрельбы по голубям. Я думаю, это был «босс».
«Ричардсон» с полированными стволами – отличное оружие для появлений на публике, но для того, чтобы снести себе верхушку черепа, он слишком аляповат. Я вспомнил, как однажды на «Пилар» Хемингуэй читал статью из «Нью-Йорк Тайме» о двух пистолетах-близнецах генерала Джорджа Пэттона с перламутровыми накладками на рукоятках. Хемингуэй расхохотался и сказал: «Пэттон будет взбешен. Он всегда поправляет этих слабоумных газетчиков. Накладки его пистолетов сделаны из слоновой кости. Он говорит, что носить револьверы с перламутровой рукояткой может только женоподобный вертопрах, и я с ним согласен». Для меня «ричардсон» с серебристыми стволами представляется чем-то в том же духе, когда речь идет о столь серьезном деле, как самоубийство.
Однако, по мере того как проходили недели, месяцы и годы, я начинал сознавать, что самым главным обстоятельством смерти Хемингуэя является отнюдь не то, какое оружие он выбрал.
За несколько месяцев до гибели писатель утвердился в мысли о том, что ФБР подслушивает его телефон, следит за ним и, сговорившись со службой бюджетных поступлений, фабрикует против него обвинение в неуплате налогов, которое грозило ему разорением. Именно этот навязчивый страх перед гонениями со стороны ФБР убедил четвертую жену Хемингуэя в том, что он превратился в параноика, одержимого манией преследования. Именно тогда жена и друзья поместили его в клинику «Мейо» для лечения электрошоком.
Сеансы разрушили память Хемингуэя, отняли у него сексуальное влечение, погубили его писательский талант, но не излечили от паранойи. Вечером накануне самоубийства жена и друзья повезли его ужинать в ресторан «Христиания» в Кетчуме. Хемингуэй потребовал, чтобы его усадили спиной к стене. Двое мужчин за соседним столиком показались ему подозрительными. Когда жена Хемингуэя и его друг по имени Джордж Браун подозвали официантку и спросили, кто эти люди, девушка ответила, что это продавцы из универмага «Твин Фоллз». «Нет, – заявил Хемингуэй, – они из ФБР».
Еще один его друг, А. И. Хотчер, написал о практически аналогичном происшествии в том же ресторане. За несколько месяцев до этого случая, в ноябре 1960 года, Хемингуэй рассказал ему о том, что за ним следит ФБР, что его телефон прослушивается, а в доме и в автомобиле установлены «жучки».
Хотчер и жена Хемингуэя Мэри повезли его в ту же самую «Христианию». На середине занимательного рассказа о тех временах, когда в Кетчуме бушевала «золотая лихорадка», писатель вдруг умолк на полуслове и заявил о своем желании уйти. На тарелках еще оставалось много еды, и когда Мэри спросила, что его беспокоит, Хемингуэй ответил: «Двое фэбээровцев у бара».
Хотчер подошел к своему приятелю – его звали Чак Эткинс, он ужинал вместе с женой за столиком неподалеку – и спросил, не знает ли он этих людей. «Еще бы, – ответил Эткинс, уроженец Кетчума. – Это продавцы. Бывают здесь раз в месяц уже пять лет. Только не говори мне, что Эрнест встревожился из-за них».
Теперь мне известно, что эти двое действительно наезжали в Кетчум раз в месяц на протяжении пяти лет и торговали вразнос энциклопедиями. Они и впрямь были сотрудниками ФБР, специальными агентами из отделения в Биллингсе, как и двое других мужчин, сидевших в «Христианин» субботним вечером 1 июля 1961 года. Они следили за Хемингуэем. Они подслушивали его телефон и установили «жучки», правда, только в доме – в автомобиле их не было. Минувшей зимой, а потом и весной еще двое агентов ФБР следили за Хемингуэем, когда тот летал на частном самолете в Рочестер, штат Миннесота, где его лечили электрошоком. Во время первого путешествия, в ноябре 1960 года, через две недели после «приступа паранойи» в ресторане, самолет с агентами приземлился спустя минуты после того, как на поле сел «Команч» с Хемингуэем и его врачом. Но там уже ждали четверо сотрудников рочестерского отделения, и они сопровождали писателя в двух неприметных «Шевроле» – один из них ехал позади, а другой впереди машины, которая везла Хемингуэя и доктора Савьерса.
Согласно рапорту – одному из тысяч «незарегистрированных» донесений, которые ложились в личные досье Эдгара Гувера под грифом «О/К» (официально/конфиденциальные), якобы «пропавшие» месяцы спустя после смерти директора Бюро в мае 1972 года, во время этой первой поездки наблюдавшие за Хемингуэем агенты проникли вслед за ним в госпиталь Св. Марии, куда его поместили под именем Джорджа Савьерса, однако, когда писателя перевели в клинику «Мейо», сотрудники ФБР остались за ее воротами и вскоре покинули свой пост. Судя по дальнейшим донесениям, ФБР допрашивало доктора Ховарда П. Рома, старшего консультанта психиатрического отделения, который руководил «психотерапевтической программой» лечения Хемингуэя. По свидетельству этих же документов, сотрудники ФБР обсуждали с Ромом целесообразность электрошоковых мероприятий в случае Хемингуэя еще до того, как их предложили писателю и его жене.
Как я уже упоминал, та часть досье под грифом «О/К», которая находилась в личном распоряжении Гувера – все двадцать три каталожных шкафа, – была «утрачена» после смерти директора 2 мая 1972 года, наступившей в возрасте семидесяти семи лет. Тем утром, спустя менее часа после известия о его кончине, генеральный прокурор США Ричард Клейндьенст, переговорив с президентом Никсоном, вызвал заместителя директора ФБР Джона Мора и приказал опечатать кабинет Гувера и обеспечить неприкосновенность всех документов.
Вскоре после полудня Мор направил генеральному прокурору следующее сообщение:
«В согласии с вашими инструкциями, личный кабинет мистера Гувера был опечатан сегодня в 11.40. Для этого нам пришлось сменить замок в двери. Насколько я могу судить, содержимое кабинета сохранено в том же состоянии, как если бы директор прибыл туда сегодня утром. Единственный ключ находится у меня».
Через час Клейндьенст доложил Никсону, что «документам ничто не угрожает», имея в виду тайные досье, наличие которых в кабинете Гувера не вызывало сомнений ни у одного человека из официальных кругов Вашингтона.
Однако Джон Мор умолчал о том, что Гувер не держал эти досье в своем кабинете. Все самые секретные документы ФБР хранились у секретаря директора, пятидесятипятилетней Хелен Ганди. К тому времени, когда начали опечатывать кабинет Гувера, мисс Ганди разобрала бумаги, рассортировала, отобрала ненужные и уничтожила многие из них, а остальные уложила в картонные коробки и спрятала их в подвале дома Гувера.
Через полтора месяца секретные досье были перевезены в новое место и навсегда утрачены для ФБР и официального Вашингтона.
Но я забегаю вперед. Сейчас для нас гораздо важнее события, происшедшие утром 2 июля 1961 года, в день моего сорокапятилетия и последний день земного существования Эрнеста Хемингуэя. Эти события заставили меня поклясться сделать две вещи, прежде чем я умру. Первая – отыскать и предать гласности секретные материалы ФБР о Хемингуэе – заняла более десятка лет и поставила под угрозу мою жизнь и свободу. Однако я с самого начала понимал, что куда труднее будет выполнить второе обещание, которое я дал себе в июле 1961 года. В своей жизни я составил тысячи рапортов, но этот опыт не помог мне написать данную повесть в той манере, которую я выбрал. Хемингуэй-литератор мог бы оказать мне помощь – его немало позабавило бы то, что в конечном итоге я был вынужден попытаться изложить эту историю, пользуясь хитроумными трюками из его репертуара. «Беллетристика – это попытка представить вымысел таким образом, что он звучит правдивее самой правды». «Нет, – возразил я тогда. – Правда есть правда. А художественная литература – это нагромождение лжи, маскирующейся под истину».
Что ж, посмотрим.
События утра 2 июля 1961 года в Кетчуме, штат Айдахо…
Только Эрнест Хемингуэй знает правду об этих событиях, но их результат достаточно очевиден.
Согласно показаниям четвертой жены писателя и его многочисленных друзей, за несколько месяцев до и после второй серии сеансов электрошока в мае и июне Хемингуэй не раз безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством.
Однажды, возвращаясь в клинику «Мейо», он хотел войти в круг вращающегося пропеллера самолета, который разогревал моторы, дожидаясь его на аэродроме. В другой раз один из друзей Хемингуэя не без труда отнял у него заряженный пистолет. Это случилось в доме писателя.
Невзирая на это, Мэри Хемингуэй запирала его винтовки и пистолеты в подвальной оружейной комнате, но оставляла ключи на виду, на кухонном подоконнике, поскольку, мол, «никто не имеет права ограничивать доступ человека к его имуществу». Я размышлял над этим много лет. Жена и друзья сочли себя вправе подвергнуть Хемингуэя электрошоковой терапии, разрушившей его мозг и личность, и вместе с тем Мэри не пожелала держать оружие взаперти от Хемингуэя, когда его депрессия обострялась до такой степени, что он был готов наложить на себя руки.
Утром в понедельник 2 июля 1961 года Хемингуэй по своему обыкновению проснулся рано. Утро было прекрасное, солнечное и безоблачное. Кроме него, в доме находилась только Мэри, она спала в отдельной комнате. Она не проснулась, когда Хемингуэй на цыпочках прошел по застланной ковром лестнице, взял ключи с подоконника, спустился в оружейную и выбрал – по крайней мере, я так думаю – свой верный «босс» двенадцатого калибра. Потом он поднялся обратно, пересек гостиную, вошел в прихожую с плиточным полом, зарядил оба ствола, упер приклад в пол, приложил стволы ко лбу – я не думаю, что он сунул их в рот – и спустил оба курка.
Я привожу эти подробности, поскольку считаю очень важным то обстоятельство, что он не захотел попросту зарядить винтовку в оружейной комнате и выстрелить в себя там же, в подвале, где звук могли приглушить двери, ковры на полах и шлакобетонные стены. Он принес оружие в прихожую, на площадку лестницы, туда, где Мэри никак не могла бы добраться до телефона или выйти из дома, не переступив через труп и лужу крови, осколки черепа и брызги мозга, породившего все эти рассказы и повести, весь тот вымысел, который, как некогда пытался убедить меня Хемингуэй, был правдивее самой правды.
За несколько месяцев до этого Хемингуэя попросили написать пару простых предложений для книги в честь инаугурации президента Кеннеди. После нескольких часов бесплодных стараний Хемингуэй пал духом и расплакался в присутствии своего врача; великий писатель не мог завершить даже самую примитивную фразу.
Однако он еще был коммуникабелен, и, подозреваю, место и способ самоубийства оказались его последним посланием.
Разумеется, оно было адресовано Мэри, а вместе с ней и Эдгару Гуверу, ОСС – теперь оно называется ЦРУ – и всем тем, кто принимал участие в событиях конца апреля – середины сентября 1942 года, когда Хемингуэй играл в шпионов и имел дело с нацистскими агентами и «топтунами» из ФБР, британскими разведчиками, кубинскими политиками и полицейскими, испанскими священниками и аристократами, десятилетними соглядатаями и немецкими подлодками. Я не льщу себя надеждой, что Хемингуэй вспоминал обо мне в то утро, но если его послание было именно тем, чем оно мне кажется – последним яростным стремлением объявить пат в затянувшейся на десятилетия партии, вместо того чтобы получить позорный мат от терпеливого, но безжалостного врага, – то, пожалуй, и я был вплетен в замысловатую ткань мыслей, посетивших его в то утро, – неприметная фигура в вычурном узоре.
Я надеюсь, что в утро моего сорокапятилетия, в последние мгновения своей жизни, Хемингуэй думал – если, конечно, депрессия и мучительные страдания не отняли у него роскоши связного мышления – не только о своем последнем решительном жесте отчаяния двенадцатого калибра, но также о всех победах, которые он одержал в своей долгой войне с невидимыми противниками.
Мне хотелось бы знать, думал ли он о «Хитром деле».
Глава 2
В конце апреля 1942 года господин Гувер вызвал меня в Вашингтон. Телеграмма разыскала меня в Мехико-Сити.
В ней содержался приказ «явиться к директору со всей возможной быстротой, используя для этого любые средства». Это несколько облегчало мою задачу, поскольку все в ФБР знали, каким мелочным и прижимистым порой бывает Гувер. Как правило, вызов в Вашингтон, даже из Мехико или Боготы, сулил тебе путешествие верхом, на автомобиле, на лодке и поезде и подразумевал крайнюю бережливость.
Утром того дня, когда у меня была назначена встреча с директором, я после пересадок в Техасе, Миссури и Огайо очутился в международном аэропорту Вашингтона. Я не без любопытства выглянул в иллюминатор серебристого «ДС-3».
Было прекрасное утро, в ярком апрельском солнце отчетливо виднелись купол Капитолия и памятник Вашингтону, но меня интересовал сам аэропорт. До сих пор, прилетая в столицу, я приземлялся на старом аэродроме «Гувер Филд» по ту сторону Потомака, рядом с арлингтонским Национальным кладбищем. Я не был в городе с минувшего лета, но слышал, что еще до трагедии Пирл-Харбора армия, даже не получив разрешения президента, начала строить огромное пятиугольное здание своей новой штаб-квартиры на месте прежнего аэропорта.
Перед посадкой самолет описал круг, и я заметил, что новый Национальный аэропорт расположен удобнее прежнего, ближе к деловой части города. Было видно, что его сооружение еще не окончено; новенький терминал до сих пор был окружен строительной техникой и облеплен рабочими, словно муравьями. Также я заметил возводимое здание новой штаб-квартиры армии. Уже тогда пресса начала величать его «Пентагоном», и с моего наблюдательного пункта на высоте километра подобное название представлялось вполне уместным, поскольку, хотя это чудище было завершено только наполовину, его фундамент и растущие стены располагались отчетливым пятиугольником. Одни только парковочные площадки целиком занимали территорию бывшего аэродрома «Гувер Филд» и примыкавшего к нему увеселительного парка, и я видел колонны военных грузовиков, тянувшихся к завершенной части здания, вероятно, чтобы доставить туда столы, пишущие машинки и прочие бюрократические атрибуты обновленной, раздувшейся армии.
Звук двигателей изменился, самолет пошел на снижение, и я откинулся на спинку кресла. Мне нравился старый «Гувер Филд», хотя он представлял собой всего лишь травяную полоску между парком с одной стороны и болотами с другой.
Шоссе графства, Милитари-роуд, тянулось поперек посадочной полосы – не параллельно, а под прямым углом, – и несколько лет назад я читал, что в свое время управляющего аэропорта арестовали и отдали под суд за попытку установить светофор, чтобы прекращать движение на шоссе во время приземления большегрузных самолетов. Дорожная полиция графства ликвидировала незаконный светофор. Меня это не беспокоило; каждый раз, когда я прилетал в Вашингтон, пилотам хватало умения втиснуть самолет между легковыми и грузовыми автомобилями, пересекавшими его путь. Я припомнил, что в бывшем аэропорту не имелось диспетчерской башни как таковой, и конус-ветряк был прикреплен к высшей точке «русских горок» в соседнем парке.
Самолет приземлился и зарулил на стоянку; я вышел из салона третьим и торопливо спустился по трапу на теплый гудрон, поправляя на поясе пистолет. С собой у меня была сумка со сменой белья, чистой рубашкой и моим вторым темным костюмом, но я не знал, хватит ли мне времени снять номер в отеле, принять душ, побриться и переодеться перед встречей с Гувером. Эта мысль обеспокоила меня. Директор требовал, чтобы сотрудники являлись к нему в своем лучшем выходном костюме, даже если речь шла о специальных агентах, которые провели день и ночь, пересаживаясь из самолета в самолет, пересекая из конца в конец Мексику и Штаты.
Шагая по новому аэровокзалу, в котором все еще пахло краской и штукатуркой, я задержался у газетного киоска.
Один из заголовков «Вашингтон Дейли Ньюс» гласил: «Количество жертв венерических заболеваний таково, что ими можно переполнить стадион». Я попытался вспомнить, сколько зрителей вмещает старый стадион «Гриффитс». По меньшей мере, тридцать тысяч. Оглядев толпу юнцов в новеньких, с иголочки мундирах сухопутных войск, военного флота, военной полиции, берегового патруля и морской пехоты, каждый из которых целовался на прощание по меньшей мере с одной девушкой, я удивился тому, что эпидемия венерических болезней приняла с начала войны столь скромный размах.
Я пересек аэровокзал, направляясь к телефонным будкам у выходных дверей. Единственный шанс принять душ и переодеться заключался в том, чтобы разыскать моего друга Тома Диллона, с которым я учился в Квантико и проходил подготовку в Лагере «X», до того как его перевели в Вашингтон, а меня – в ОРС. Том до сих пор оставался холостяком – по крайней мере, когда я в последний раз говорил с ним десять месяцев назад, – а его квартира находилась неподалеку от Департамента Юстиции. Я сунул в щель десятицентовик и попросил оператора соединить меня с домашним телефоном Тома, надеясь, что сегодня у него выходной, и зная, что, как всякий полевой агент, он почти не бывает у себя в конторе даже по рабочим дням. Я услышал длинные гудки и, упав духом, уже начал нащупывать очередную монетку, когда поверх моего плеча протянулась волосатая рука и, выхватив у меня трубку, повесила ее на рычаг.
Я рывком развернулся, готовясь дать отпор солдату или моряку, имевшему глупость так подшутить надо мной, и увидел в нескольких дюймах от своего лица ухмыляющуюся физиономию Диллона.
– Я слышал, как ты назвал мой номер, – сказал Том. – Но меня нет дома.
– Тебя никогда там не бывает, – с улыбкой ответил я. Мы пожали друг другу руки. – Что ты здесь делаешь, Том? – Я понял, что он здесь не случайно.
– Меня прислал господин Лэдд. Он сказал, что у тебя встреча в Департаменте в половине двенадцатого, и велел тебя подвезти. Если хочешь привести себя в порядок, можем заехать ко мне.
– Отлично, – сказал я. Д. М. Лэдд – мои друзья в Бюро называли его «Мики» – был одним из заместителей директора и в настоящее время руководил подразделением внутренней разведки, в котором работал Том. Диллон не упомянул, что мне предстоит встретиться с директором, возможно, он даже не знал об этом, но и мне не следовало распространяться.
– Твой самолет прилетел раньше срока, – сказал Том, как бы извиняясь за то, что не встретил меня у входа.
– Пилотам не пришлось ждать, пока на шоссе образуется просвет, – ответил я. – Давай выбираться отсюда.
Том взял мою сумку и повел меня сквозь толпу к своему «Форду-Купе», припаркованному у обочины напротив центральных дверей. Крыша автомобиля была опущена; Том швырнул сумку на заднее сиденье и, спеша занять место за рулем, обежал машину с мальчишеской энергией, которая мне запомнилась еще по Квантико. Я откинулся на мягкую спинку кресла, машина выехала с территории аэропорта и помчалась к городу. Воздух был теплый и влажный, хотя и не такой жаркий и душный, к какому я привык за годы пребывания в Мексике и Колумбии. Уже миновало время года, когда в Вашингтоне можно видеть его знаменитые японские вишни в полной красе, однако широкие улицы все еще заполнял аромат их оставшихся цветов, смешиваясь с густым запахом магнолий, придававших городу столь знакомый южный колорит.
Я сказал «знакомый», но на самом деле этот город был совсем не похож на тот Вашингтон, в котором я провел несколько месяцев 38-го и 39-го и который ненадолго посетил прошлым летом. Тогда это был сонный южный городок, его просторные улицы не бывали запружены транспортом, а ритм жизни казался более спокойным и расслабленным, чем в большинстве латиноамериканских деревень, в которых я обретался с той поры. Теперь все изменилось.
Повсюду стояли «времянки», о которых я уже слышал, – мрачные серые здания из шиферного листа, каждое длиной в четверть квартала, с пятью пристройками вдоль фасада. Их возводили за неделю для прибывающих в город рабочих оборонной промышленности и чиновников, которым предстояло жить здесь на протяжении войны. «Времянки» протянулись по обе стороны Зеркального пруда напротив памятника Линкольну, загораживая водоем, – унылые строения, соединенные шаткими на вид мостиками, висящими над поверхностью пруда. Такие же «времянки» теснились вдоль Конститьюшнавеню, закрывая собой красивый парк, в котором я нередко наскоро перехватывал завтрак, и воинственно окружали памятник Вашингтону, словно серые пожиратели падали, собравшиеся на пир.
Улицы оставались такими же широкими, как я помнил, но теперь их заполонили легковые автомобили, грузовики и колонны оливково-зеленых армейских машин – в их кузовах я видел столы и кресла, пишущие машинки и каталожные шкафы, которые представлял себе, глядя в иллюминатор самолета. Америка готовилась к войне. На тротуарах было не протолкнуться, и, хотя я видел вокруг много военных мундиров, большинство прохожих носили гражданское – серые и черные костюмы, женские юбки были короче, чем мне помнилось, а открытыми плечами теперь щеголяли люди обоих полов. Все они казались молодыми и здоровыми и шагали с таким видом, будто спешили на важную встречу. У многих в руках были чемоданчики-кейсы; их носили даже женщины.
В густом потоке автомобилей по-прежнему попадались трамваи, но я заметил, что они выглядят более старыми, чем прежде; спустя минуту я сообразил, что они действительно одряхлели – должно быть, городским властям пришлось вернуть со свалок старые вагоны, чтобы удовлетворить потребности возросшего населения. Мимо меня проскрипела затейливая деревянная реликвия прошлого века со стеклами в крыше, на ее подножках висели люди, цеплявшиеся за бронзовые поручни и кожаные петли. В основном это были чернокожие.
– Ага, – сказал Том Диллон, проследив за моим взглядом. – В городе еще больше ниггеров, чем до войны.
Я кивнул. Посмотрев на нас, пассажиры трамвая могли решить, что мы – братья, а то и близнецы. Диллону исполнился тридцать один год, мне – двадцать девять, но его кожа была более гладкой и светлой, а у носа еще сохранились веснушки. Вдобавок его нос, в отличие от моего, ни разу не был сломан. В согласии с требованиями господина Гувера, мы оба носили темные костюмы и белые рубашки – разумеется, в настоящий момент рубашка Тома была свежее моей – и почти одинаковые фетровые шляпы с полями, загнутыми спереди книзу, а сзади – вверх. У обоих были уставные стрижки на пять сантиметров выше воротника, и если бы ветер сорвал с нас головные уборы, окружающие заметили бы, как тщательно мы укладывали волосы на макушках, избегая «остроконечных» причесок, столь нелюбимых директором. В правых передних карманах брюк мы оба держали обязательные в ФБР белые платочки, которыми можно вытереть ладони перед рукопожатием, если перед этим ты перенервничал или занимался физическим трудом. Господин Гувер терпеть не мог «влажных ладоней» и не хотел, чтобы это прозвище прилипало к его специальным агентам. Я и Том носили одинаковые полицейские пистолеты в черных кобурах, подвешенных к поясу и сдвинутых вправо, чтобы они поменьше оттопыривали наши пиджаки. Если Том еще не получил повышение, нам обоим платили 65 долларов в неделю – солидная сумма для 1942 года, но не слишком привлекательная для выпускников колледжей и юридических школ, отвечавших минимальным требованиям ФБР для приема на работу. Мы оба родились в Техасе в католических семьях, учились в захолустных южных колледжах и на юридических курсах.
Но на этом сходство заканчивалось. Том Диллон до сих пор произносил слова с протяжным техасским выговором. Моя семья переехала в Калифорнию, когда мне было три года, в шесть лет я вместе с родными оказался во Флориде, и, если не ошибаюсь, в моей речи не было сколько-нибудь заметного акцента. Том учился в колледже на родительские деньги. Я кое-как перебивался на стипендию футбольной команды и подрабатывал в неурочное время. Прежде чем поступить в ФБР, Том закончил юридическую школу и полностью соответствовал требованиям Гувера; я же, в виде исключения, был принят в Бюро в начале второго года учебы, в тот самый момент, когда собирался бросить курсы из-за отсутствия средств и перспектив. Причина такого исключения была проста – я бегло говорил по-испански, а Гуверу требовались испаноязычные агенты для работы в СРС, которую он тогда создавал, – агенты контрразведки, способные смешаться с латиноамериканской толпой, общаться с местными информаторами и сказать «здравствуйте» так, чтобы не получилось «травяная задница» <Испанское «грасиас» созвучно английскому «grassy ass».>.
Я оказался годен. Мой отец был мексиканец, мать – ирландка. Что обусловило еще одно различие между мной и Томом Диллоном.
Когда Диллон сказал, что в городе еще больше ниггеров, чем до войны, я с трудом подавил желание повернуться, схватить его обеими руками за затылок и ударить лицом о руль.
Меня ничуть не задела его оскорбительная реплика в адрес негров – я никогда не сотрудничал с чернокожими, не был близко знаком ни с одним из них и, подобно большинству, не скрывал своего пренебрежительного отношения к «низшему сословию» американских граждан, – но, когда Том произнес слово «ниггер», мне послышалось «цветной», «латинос» или «мокрая спина» <Нелегальный иммигрант из Мексики (переплывший или перешедший вброд реку Рио-Гранде).>.
Мой отец был мексиканцем. У меня достаточно светлая кожа, и я в достаточной мере унаследовал от матери-ирландки строение черепа и лица, чтобы сойти за типичного американского англо-протестанта, но с детства приучился стыдиться отцовского происхождения и дрался с любым и каждым, кто называл меня «мексиканцем». И поскольку мой отец умер, когда мне было шесть лет, а мать – менее года спустя, я еще более стыдился своего стыда – я не успел сказать отцу, что прощаю его за то, что он не был стопроцентным белым американцем, не успел вымолить у матери прощения за свою ненависть к ней из-за того, что она вышла замуж за мексиканца.
Это было странное чувство. С возрастом я все больше жалел о том, что не успел по-настоящему сблизиться с отцом.
Когда он ушел на Великую войну, мне еще не исполнилось пяти лет, а в шесть я узнал, что он умер за океаном – от простуды, три месяца спустя после окончания боевых действий.
Но разве я мог по-настоящему тосковать по человеку, которого почти не знал?
Между Томом Диллоном и Джо Лукасом, то есть мной, имелись и иные различия. Обязанности Тома в Отделе внутренней разведки ограничивались тем, чем занималось подавляющее большинство агентов ФБР – «расследованием». Господин Гувер многократно повторял ретивым сенаторам и конгрессменам, что Бюро ни в коем случае нельзя считать полицейским органом, что это – следственное агентство. Большую часть своего времени Том допрашивал, составлял отчеты, перепроверял данные при помощи других данных и иногда следил за людьми. Он обладал некоторым опытом «грязных» дел, а именно – установкой микрофонов и иных противозаконных средств наблюдения, но, в основном, этой деятельностью занимались специалисты. Я был одним из них.
Вдобавок Том Диллон никого не убивал.
– Итак, – заговорил Том, когда мы ехали мимо Белого дома. – Ты все еще в ОРС?
– Угу, – ответил я. Я заметил, что у входа в Белый дом со стороны Пенсильвания-авеню установлено нечто вроде пропускного пункта. Ворота по-прежнему были открыты, но создавалось впечатление, будто бы полисмен у входа готов проверить твои документы, если ты попытаешься проникнуть внутрь. Прошлым летом, когда я приезжал в город, кто угодно мог беспрепятственно пройти по территории Белого дома, разве что морской пехотинец спросил бы, что тебя привело сюда, если ты собирался войти в само здание. Когда я впервые попал в Вашингтон в середине 30-х, ворот вообще не было и на многих участках территории отсутствовала ограда. Я вспомнил, как тем летом играл на Южной поляне в бейсбол.
– Все еще в Мексике? – допытывался Том.
– Хм-мм… – пробормотал я. Мы остановились на красный свет. Мимо спешили рабочие Белого дома, у многих в руках были бурые пакеты с обедом. – Скажи мне, Том, – произнес я. – Что происходило во внутренней разведке после Пирл-Харбора? – Если бы Тома кто-нибудь спросил, он ответил бы, что «мы» поверяли друг другу тайны и говорили буквально обо всем. Правда заключалась в том, что Диллон поверял мне тайны. – Удалось ли поймать немецких или японских шпионов?
Том фыркнул. Загорелся зеленый свет, и он включил передачу.
– Черт возьми, Джо, мы с таким усердием гонялись за своими людьми, что ни на нацистов, ни на японцев не оставалось времени.
– За какими людьми? – спросил я, зная за Томом привычку опускать в разговоре имена. Когда-нибудь она может стоить ему работы. – За кем Бюро гоняется с тех пор, как началась война?
Том сунул в рот палочку резинки и начал с чавканьем жевать.
– За вице-президентом, – осторожно произнес он.
Я рассмеялся. Вице-президент Генри Эдгар Уоллес был идеалистом и честнейшим человеком. Также его считали недоумком, игрушкой в руках коммунистов.
Мой смех покоробил Тома.
– Я серьезно, Джо. Мы следим за ним с весны. «Жучки», магнитофоны и все такое прочее… Стоит ему сходить по малой нужде – и Гувер получает лабораторный анализ.
– Угу, – сказал я. – Уоллес – это нешуточная угроза…
Том не заметил моей иронии.
– Совершенно верно, – заявил он. – У нас есть доказательства того, что коммунисты намерены использовать его как активного агента.
Я пожал плечами:
– Если помнишь, русские пока еще наши союзники.
Том посмотрел на меня. Он был так потрясен, что прекратил жевать.
– Господи, Джо, не шути такими вещами. Мистер Гувер нипочем…
– Знаю, знаю, – перебил я. Японцы напали на Пирл-Харбор, а Адольф Гитлер был самым опасным человеком в мире, но Гувер славился своим стремлением в первую очередь покончить с коммунистической угрозой. – Кто еще занимает вас в настоящее время? – спросил я.
– Самнер Уэллес, – ответил Том, щурясь на ярком солнце. Мы вновь остановились у светофора. Перед нами с грохотом и звоном прокатил трамвай. Мы находились в нескольких кварталах от дома Диллона, и дорожное движение здесь было очень плотным.
– Самнер Уэллес? – переспросил я, сдвинув шляпу на затылок. Уэллес, заместитель госсекретаря, а также личный друг и советник президента, был знатоком политики латиноамериканских стран, и на нем держалась вся разведывательная деятельность в этом регионе. Не менее десятка раз его имя упоминалось в колумбийском посольстве в связи с критическими ситуациями, которые затрагивали меня лично. Ходили слухи, будто бы его сняли с поста в посольстве Штатов в Колумбии задолго до моего прибытия туда, но причин не знал никто.
– Стало быть, Уэллес – красный? – спросил я.
Том покачал головой.
– Нет. «Голубой».
– Что ты имеешь в виду?
Том повернулся ко мне, и на его лице появилась знакомая ухмылка.
– Ты слышал, что я сказал, Джо. Он – «голубой». Педик.
Гомик.
Я молча ждал.
– Это началось два года назад, в сентябре сорокового, в специальном поезде президента, возвращавшегося из Алабамы с похорон спикера Бэнкхеда. – Том повернулся с таким видом, как будто ждал, что я забросаю его расспросами. Я молчал.
Зажегся зеленый свет. Мы продвинулись вперед на несколько ярдов и остановились за колонной грузовиков и легковых машин. Чтобы перекричать гудки и рев моторов. Тому пришлось повысить голос.
– Если не ошибаюсь, Уэллес крепко выпил и позвонил, требуя прислать к нему носильщика… явились сразу несколько… и он разделся перед ними и предложил… ну, ты знаешь эти гомосексуальные штучки. – Том зарделся. Он был крутым парнем, настоящим солдатом, но в душе оставался ревностным католиком.
– Это подтвердилось? – спросил я, размышляя над тем, как отразится на СРС отставка Уэллеса.
– Да, черт возьми! – ответил Том. – Гувер приставил к Уэллесу Эда Тамма, и с тех пор Бюро уже полтора года следит за ним. Старый педераст напивается и катается по паркам, охотясь за мальчиками. Мы располагаем данными внешнего наблюдения, свидетельствами очевидцев, записями телефонных переговоров…
Я потянул шляпу вперед, чтобы прикрыть глаза. По словам людей в посольстве, которым я доверял больше остальных, Самнер Уэллес был самым мозговитым человеком в Госдепе.
– Гувер сообщил об этом президенту? – спросил я.
– Год назад, в минувшем январе, – сказал Том и выплюнул жвачку на мостовую. Машины тронулись с места, и мы свернули направо, на Висконсин-авеню. – Как утверждает Дик Феррис, который занимался этим делом вместе с Таммом, Гувер не предложил никаких рекомендаций… впрочем, у него их и не просили… и президент в сущности никак не отреагировал. Дик говорит, что впоследствии Генеральный прокурор Биддл еще раз пытался привлечь его внимание к данному вопросу, но Рузвельт лишь сказал: «Давайте не будем об этом в служебное время».
– Гомосексуальное домогательство – тяжкое преступление, – заметил я, кивнув.
– Еще бы. Дик говорит, что, по словам Тамма, Гувер особенно подчеркнул это в беседе с президентом и объяснил, что наклонности Уэллеса делают его уязвимым для шантажа.
Президент замял это дело, но ненадолго…
– Почему? – спросил я. Мне на глаза попался квартал, в котором я жил четыре года назад. Дом Диллона находился всего в трех кварталах к западу.
– Теперь Уэллесом занимается Буллит, – ответил Том, поворачивая руль обеими руками.
Уильям Кристиан Буллит. Человек, которому газетчики дали прозвище «Яго». Я не читал Шекспира, но эта аллюзия была мне понятна. У Гувера имелось досье на него, и, выполняя одно из своих заданий в Вашингтоне, я был вынужден ознакомиться с ним. Уильям Кристиан Буллит, близкий друг Рузвельта, был послом, заводившим врагов в каждой стране, куда его назначали, и ловким пройдохой, готовым втереться в печенки к любому нужному ему человеку. Как утверждало досье, он соблазнил наивную мисс Лехенд, секретаршу Рузвельта, боготворившую своего шефа, только чтобы облегчить себе доступ к президенту.
Если Буллит взялся за Самнера Уэллеса, когда-нибудь он доконает его, рассказывая о нем политическим противникам Рузвельта, нашептывая грязные истории журналистам, высказывая свои опасения госсекретарю Корделу Халлу. Буллит погубит Уэллеса не мытьем так катаньем, повергнув при этом в прах латиноамериканское отделение Госдепа, расстроив политику добрососедства, действующую в Южной Америке, и ослабив свою страну в военное время. В результате человек, которого в подпитии охватывает гомосексуальная страсть, будет изгнан с государственной службы, а Уильям Кристиан Буллит наберет очки в непрекращающейся борьбе за власть.
Ох уж этот Вашингтон!
– За кем еще охотится Бюро? – устало спросил я.
Как ни удивительно, напротив дома, в котором жил Диллон, нашлось место для парковки. Том втиснул машину в узкий промежуток и оставил двигатель работать, но затянул стояночный тормоз. Он потер переносицу.
– Нипочем не догадаешься, Джо. Я сам участвую в этом деле. Сегодня вечером мне предстоит работать. Я оставлю тебе ключи… может быть, мы увидимся завтра.
«Скорее всего, завтра меня здесь уже не будет», – подумал я и сказал:
– Отлично.
– Давай, попробуй догадаться. – Диллону явно хотелось затянуть игру.
– За Элеонорой Рузвельт, – сказал я, вздохнув.
Том моргнул.
– Будь я проклят. Ты слышал о расследовании?
– Шутишь? – отозвался я. У Гувера были досье О/К на всех влиятельных людей Вашингтона – вернее, Штатов, – и все знали, что он ненавидит Элеонору, но директор нипочем не осмелился бы преследовать члена семьи нынешнего президента. Он слишком дорожил своей должностью.
Том понял, что я ничего не знаю. Он уверенным жестом сдвинул шляпу на затылок, положил руку на руль и повернулся ко мне лицом.
– Никаких шуток, Джо. Разумеется, мы не следим за миссис Рузвельт лично, однако…
– Кажется, ты меня разыгрываешь.
– Ничуть не бывало, – сказал он, подаваясь ко мне, и я почувствовал запах мяты. – Три последних года старушка сходит с ума по некоему Джо Лашу…
Это имя было знакомо мне, я читал досье на Лаша в связи с деятельностью Конгресса американской молодежи, за которым следил в 1939 году. Я даже лично беседовал с Лашем под видом студента, интересующегося его организацией. Тогда Лаш был секретарем Конгресса – вечный студент, старше меня на десятилетия, но много моложе в душе, мальчишка в мужском теле, разменявший четвертый десяток, но оставшийся наивным зеленым юнцом. Конгресс молодежи объединял любителей словопрений левацкого толка – именно такие организации коммунисты обожают поддерживать материально и наводнять своими агентами – и пользовался особым расположением миссис Рузвельт.
– Они любовники… – продолжал Том.
– Чепуха, – перебил я. – Ей шестьдесят лет.
– Пятьдесят восемь, – поправил Том. – А Лашу тридцать три. У миссис Рузвельт собственная квартира в Нью-Йорке, и она отказалась от спец-охраны.
– Ну и что? – спросил я. – Это доказывает только то, что у нашей престарелой девушки все в порядке с мозгами. Кому захочется, чтобы типы из Казначейства дышали тебе в затылок двадцать четыре часа в сутки <Охраной членов семьи президента США занимается Федеральное Казначейство.>?
Том покачал головой.
– Господин Гувер понимает, что это кое-что значит.
У меня разболелась голова. На мгновение меня вновь одолело желание схватить Тома за галстук и бить мордой о руль до тех пор, пока его задорный веснушчатый нос не превратится в бесформенную окровавленную массу.
– Том, – негромко заговорил я. – Неужели ты хочешь сказать, что мы шпионим за миссис Рузвельт? Вскрываем ее почту?
Диллон опять покачал головой.
– Разумеется, нет, Джо. Но мы фотографируем корреспонденцию Лаша, подслушиваем его телефон и напичкали микрофонами его квартиру. Увидел бы ты письма, которые этот коммунистический прихвостень строчит для Первой Леди, Защитницы ниггеров… занятное чтиво, доложу я тебе.
– Еще бы. – Мысль о том, что и эта милая приветливая пожилая женщина пишет страстные послания мальчишке, повергла меня в уныние.
– Именно этим я займусь сегодня вечером, – продолжал Том, вновь водружая шляпу на место. – Пару недель назад Лашу отправили призывную повестку, и мы передаем его дело КРС.
– Разумно, – ответил я. Армейская контрразведывательная служба, отдел военной разведки, возглавляемый генералом Джоном Бисселем, можно было назвать кучей перепившихся обезьян, да и это прозвучало бы слишком мягко. Кто-нибудь мог бы назвать их бандой оголтелых реакционеров, но только не я. По крайней мере, не сейчас. Я знал наверняка одно – КРС не колеблясь пустила бы ищеек за миссис Рузвельт и обжучила ее квартиру и телефон. Знал я и то, что президент, при всей своей снисходительности к заблудшим овцам, вроде Самнера Уэллеса, сослал бы Бисселя на Тихий океан, как только стало бы известно, что армия следит за его женой.
Том сунул мне ключи.
– Холодное пиво в ящике со льдом, – сказал он. – Прошу прощения, но съестного в доме ни крошки. Мы сможем пообедать вместе завтра, когда я освобожусь.
– Надеюсь, – отозвался я, стискивая ключи в кулаке. – Спасибо тебе, Том. Если мне придется уйти до того, как ты вернешься завтра…
– Положи ключи под коврик, как всегда, – сказал Том.
Он наклонился, протянул ладонь поверх нагретого металла дверцы и пожал мне руку. – Мы еще увидимся, дружище.
Посмотрев вслед «Форду» Тома, влившемуся в поток машин, я торопливо побежал вверх по ступеням. Том Диллон был настоящим агентом ФБР, готовым прийти на помощь, но в общем-то ленивым, согласным жрать дерьмо мистера Гувера и его людей, если мистер Гувер велит жрать дерьмо, безупречно выполняющим приказы, но не склонным напрягать собственные мозги, поборником демократии, ненавидящим ниггеров, шлюх, гомиков и жидов. Вне всяких сомнений, Том усердно тренировался в стрельбе из пистолета в тире подвала Департамента Юстиции на дистанции, установленной для агентов Бюро, и отлично умел обращаться с автоматами, пулеметами и винтовками, а также обладал отменными навыками рукопашного боя. На бумаге он был опытным умелым убийцей. Он сумел бы выжить в трехдневной полевой операции ОРС.
Я поднялся по лестнице. Меня ждала ванная комната с душем, и я выбросил Тома из головы.
Глава 3
Главный вход в здание Департамента юстиции располагался на пересечении Девятой улицы и Пенсильвания-авеню.
По обе стороны перекрестка возвышались классические портики с четырьмя колоннами, которые начинались над окнами второго этажа и протягивались до самой крыши четырьмя этажами выше. Со стороны Пенсильвания-авеню, на пятом этаже слева от колонн, находился единственный в здании балкон – личный балкон господина Гувера. К 1942 году он успел увидеть с этого балкона восемь инаугурационных процессий сменявших друг друга президентов США и нескольких из них, возвращавшихся в гробу.
Разумеется, я знал это здание, но у меня никогда не было там своего стола. Всякий раз, приезжая в округ Колумбия, я получал назначение в районные отделения Бюро либо действовал под прикрытием. Как образцовый агент, я приехал на десять минут раньше назначенного срока, приняв душ, побрившись, напомадив волосы, в чистой рубашке и костюме, в сверкающих башмаках, аккуратно держа шляпу в сухих пальцах.
Здание было огромное, и я знал здесь кое-кого, а они, в свою очередь, – меня, однако никто из этих людей не попался мне по пути, когда я вышел из лифта на пятом этаже и направился в святая святых директора.
Кабинет Гувера находился не в центре здания, скорее – прятался поодаль. Чтобы добраться до него, приходилось идти по длинному коридору, миновать просторный конференц-зал с пепельницами, выстроившимися вдоль полированного стола, и пересечь приемную, в которой затаилась миссис Гэнди, словно знаменитый дракон, охраняющий девственницу из легенды. В 1942 году миссис Гэнди и сама уже была легендой – незаменимый сотрудник господина Гувера, отчасти страж, отчасти нянька, единственное человеческое существо, которому дозволялось просматривать, подшивать, систематизировать и читать личные досье директора. В 1942-м, когда я вошел в приемную, ей было сорок пять лет, но уже тогда в разговорах с друзьями мужского пола и с близкими сотрудниками Гувер называл ее «старой наседкой». В ней и впрямь было что-то от заботливой клуши.
– Специальный агент Лукас? – осведомилась она, когда я встал перед ней навытяжку со шляпой в руках. – Вы явились на пять минут раньше указанного времени.
Я кивнул.