Рекенштейны Крыжановская-Рочестер Вера
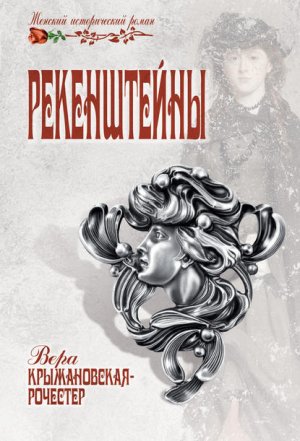
Сильвия села возле своей подруги и внимательно следила за каждым движением кисти. Фолькмар сидел по другую сторону, между тем как граф рассматривал вещи, которые баронесса жертвовала на дело благотворительности. Кончив осмотр, он подошел к мольберту, но при первом взгляде на картину сказал:
— Фи! Какую антипатичную тему вы выбрали, мадемуазель Берг. Эта великая грешница вовсе не поэтична, а евреи с камнями в руках — настоящие каннибалы. Вот картина, которую я, конечно, не люблю.
— Тем лучше, — перебила его Сильвия, — так как я хочу просить тебя купить ее для меня.
— Отчего этот сюжет не нравится вам, граф? — спросили Лилия, устремляя на него свой взгляд. — Разве вы находите обычай древних евреев относительно неверных жен слишком жестоким?
— Конечно, — вмешался Фолькмар, — жестоко убивать женщину, отдавшуюся сильнейшему из всех чувств; я беру сторону слабого пола.
— Извини, я не разделяю твоей либеральности, Евгений. Женщина, впавшая в прелюбодеяние, заслуживает смерти: своим поведением она подрывает счастье семьи и самые основы общественного блага.
Лилия между тем, окончив рисунок, встала и, убирая краски, сказала с лукавой улыбкой:
— Я согласна с месье Рекенштейном. Нарушение супружеской верности такое гнусное преступление, что заслуживает смерти. Только этот закон должен простираться на мужчин так же точно, как и на женщин. Неверный муж, пренебрегающий данной клятвой, точно так же виновен и заслуживает той же казни. Его жена должна бросить в него первый камень, а за ней и все обманутые жены обязаны добить его. Если бы обнаружилось, что он скрывал, что женат, это увеличило бы наказание. Например, до убиения его бы следовало подвергнуть поношению и упрекам всех обманутых женщин.
Танкред сильно покраснел и так быстро отвернулся, что уронил маленькую этажерку с фарфором.
— Ах, как я неловок! — сказал он нагибаясь, чтобы поднять осколки.
В эту минуту вошла Элеонора и сказала, смеясь:
— Какое разорение вы тут делаете, кузен! Хотите, кажется, разбить все хорошие выигрыши лотереи.
— Это он от испуга при мысли быть побитым каменьями, если рискнет жениться, — пояснил Фолькмар и рассказал баронессе, в чем дело.
— Это правда, у меня дрожь пробежала по телу, когда я представил себе, каким полем избиения стал бы Берлин, если бы этот жестокий закон был приведен в исполнение, — сказал Танкред с возвратившимся к нему веселым настроением. — Но пылающий взгляд мадемуазель Берг заставляет меня предполагать, что у нее затаенная злоба исключительно против неверных мужей, и она без смущения бросила бы в них такой огромный камень, что убила бы их всех сразу, — добавил он, глядя лукаво на кольцо, которое носила Лилия.
Заметив, что она в свою очередь покраснела, граф самодовольно улыбнулся и, подав руку баронессе, повел ее к столу.
После обеда общество снова соединилось, и, в ожидании гостей, завязался разговор о предполагаемых картинах.
— Они могут быть великолепны! У нас такой большой выбор красивых женщин и красивых мужчин, — сказала с живостью баронесса, — и я пригласила молодого художника, месье Линдберга, чтобы помочь нам артистично поставить картины. Надо только выбрать интересные сюжеты.
— Это будет не трудно, — заметил Фолькмар. — Например, пир Клеопатры и Антония. Ваш тип красоты как бы создан для этой роли; и костюм египтянки, полагаю, должен удивительно подойти вам. А Танкред будет отличным Антонием.
— Благодарю, я не имею ни малейшего желания сбрить для этого бороду.
— Боже мой! Танкред, ведь она опять отрастет. И потом, вероятно, были римляне, которые носили бороду; я даже видел на картине Антония с бородой.
— Ну хорошо, для нас роли готовы; я предлагаю выбрать для Фолькмара какую-нибудь типичную роль. Например, китайское погребение. Ты, Евгений, идешь впереди процессии, а родственники и друзья покойного, которого ты отправил на тот свет, собираются побить тебя каменьями, оплевать тебя, выказать тебе всякими путями свое негодование. Эта картина была бы очень декоративна и назидательна вместе с тем.
— Видите, какой злой язык! Я придумываю ему прекрасную роль, а он желал бы публично оскандалить меня. Представь лучше сам неверного мужа, которого все обманутые женщины побивают каменьями.
— Успокойся, дружище, — сказал Танкред, смеясь и похлопывая его по плечу. — Чтобы тебя утешить, мы представим еще Лорелею и тебя перед нею у подошвы скалы.
Появление гостя прервало болтовню. Все приглашенные собрались мало-помалу, и возобновился бесконечный спор, так как нелегко было удовлетворить каждого и каждому дать роль, подходящую к его наружности.
Когда общество собралось в зале, поднялись самые жаркие споры. Дело шло о картине для финала. Желательно было выбрать что-нибудь замечательно красивое и с большим количеством действующих лиц. Все, что предлагалось, встречало какое-нибудь возражение. Танкред посоветовал обратиться к Лилии, хранившей упорное молчание.
— У мадемуазель Берг такой артистический вкус, такие пикантные идеи! И я держу пари, что она найдет какой-нибудь сюжет, который понравится всем.
Лилия подняла голову и, встретив его насмешливый, вызывающий взгляд, улыбнулась.
— У меня есть одна идея и сюжет, отвечающий требуемым условиям, только я думаю, вы не захотите его.
— Отчего? Если роль, которую вы мне назначите, хороша и декоративна, я обещаю ее принять, клянусь даже в этом. Вот все свидетели.
— В таком случае я предлагаю изобразить графа де Глейхена перед троном императора, представляющего ему своих жен. Пышность средневековых костюмов даст великолепные декорации, и, сверх того, картина имеет то достоинство, что заключает в себе четыре главные роли: император, граф и две его жены, различные по типу и костюмам.
Взрыв гомерического смеха разразился в зале, затем поднялся крик и восклицания:
— Да, да, мы изобразим эту картину. И вы, граф, будете представлять графа Глейхена. Вы должны принять эту роль, вы клялись в этом, — твердили наперебой мужчины и женщины.
Густая краска покрыла лицо Танкреда. Он почти с испугом глядел на Лилию. Но она не имела времени сказать что-нибудь, потому что одна из дам, жена члена французского посольства, попросила объяснения:
— Я не понимаю сюжета. Что это за граф, у которого две жены?
— Говорят, что был такой, — отвечала Элеонора, продолжая смеяться, — и я расскажу вам в нескольких словах легенду. Если не ошибаюсь, это было во второй или в третий крестовый поход. Молодой граф де Глейхен отправился в Палестину, оставив в своем замке молодую жену, которая его обожала. Поход не был благоприятен для графа: он был взят сарацинами и сделался невольником в доме одного родственника калифа. Как-то случайно он не попал в список пленных, подлежащих выкупу, и умер бы жалким образом в неволе, если бы дочь паши не влюбилась в него безумно, увидев его в саду, где его заставляли работать. Каким образом граф и сарацинка познакомились и полюбили друг друга, легенда не рассказывает; только в конце концов молодая девушка устроила ему возможность бежать, и сама бежала с ним, унося драгоценные украшения, представляющие огромное состояние. Возвратись в Европу, граф был в затруднительном положении. Влечение сердца и благодарность внушали ему желание дать почтенное положение женщине, пожертвовавшей для него всем, а его первое супружество не давало ему на то никакой возможности. Молодая графиня почувствовала такую благодарность к той, которая спасла ее обожаемого мужа, что хотела пойти в монастырь и уступить ей свое место. Турчанка не пожелала принять такой жертвы.
Чтобы положить конец этой битве великодушия, они отправились в Рим просить решения папы. Святой отец, тронутый самоотвержением этих двух женщин, дал — в виде исключения — графу Глейхену право иметь двух законных жен и женил его на сарацинке, после того как она приняла крещение. Возвратясь из Рима, Глейхен представил своих двух графинь императору. Затем вернулся к себе, где против обыкновения — повествует легенда — прожил очень счастливо, так как две его жены не ревновали друг к другу и никогда не ссорились.
— Вот оригинальная легенда! — молвила молодая француженка, смеясь. — Но кто будет изображать двух графин де Глейхен?
— Кто желает, mesdames? — спросил один офицер, товарищ Танкреда.
Так как никто не отвечал, молодой человек заметил, улыбаясь:
— Дамы молчат потому, что такой дележ противен духу нынешнего времени. И я предлагаю разыграть Рекенштейна в лотерею. Мы напишем имена присутствующих здесь красивых дам. Глейхен выдернет кого судьба ему назначит.
Новый взрыв хохота встретил это предложение. И несмотря на злобу, кипевшую в сердце Танкреда, внешне он должен был разделять общую веселость.
Князь Гоген, придумавший такую комбинацию, тотчас приступил к ее исполнению; две молодые девушки взялись помочь ему; одна из них нарезала бумажки, другая свертывала их.
В несколько минут все было готово. Билеты положили в фуражку князя, встряхнули их хорошенько, затем веселая, шумная толпа окружила Танкреда.
— Вынимай обеими руками сразу, Рекенштейн, чтобы не было предпочтения той или другой даме, цвета которых ты будешь носить, — молвил, смеясь, князь.
Граф опустил обе руки в фуражку, затем театральным жестом протянул их и сказал:
— Прочтите: в правой руке имя жены законного союза, в левой — сердечного.
Офицер, которому был подан один из двух билетиков, проворно развернул его и, обращаясь с поклоном к Элеоноре, сказал:
— Вам, баронесса, суждено изображать даму сердца.
Тем временем князь, прочитав другой билет, с лукавой улыбкой подошел к Лилии и подал его ей.
— Мадемуазель Берг, судьба велит вам вкусить плоды вашего совета, представив собой жену графа Глейхена.
Лилия сильно покраснела.
— Извините, князь, но имя мое было написано по ошибке. Я не принимаю участия в вечерах, которые устраивает граф Рекенштейн, и он потрудится выдернуть другой билет.
— Отчего же, милая Нора? Я бы так хотела, чтобы вы участвовали в картинах, — поспешила заявить Сильвия.
— Нет, нет! — возразила Лилия, энергично качая головой.
Танкред сверкающим взглядом следил за этой маленькой сценой. При отказе молодой девушки он подошел к ней.
— Если картина, так единогласно одобренная, будет ставиться, то я хочу, чтобы она оставалась такой, какой назначила судьба; в противном случае я отказываюсь, так как нахожу совершенно справедливым, чтобы вы поплатились за ваши злые выдумки, приняв участие в их исполнении.
— Соглашайтесь, соглашайтесь, Нора: раз он заупрямился, надо исполнить его желание, — воскликнула баронесса.
А молодой художник добавил с энтузиазмом:
— Умоляю вас, мадемуазель Берг, не лишайте нас возможности поставить эту чудную картину. Дух Тициана управляет рукой графа, так как мадам Зибах со своей отчасти восточной красотой будет дивной сарацинкой, а вы с вашим лилейным цветом лица и золотистыми волосами представите собой идеал владетельницы замка.
— Итак, мадемуазель Берг, — обратился к ней снова Танкред, — решайте, хотите вы или нет быть графиней де Глейхен, моей законной женой?
— Надо согласиться, если иначе нельзя, — отвечала Лилия таким тоном насмешки и отвращения, что все, не исключая Танкреда, расхохотались.
— Благодарю вас, хотя согласие выражено очень нелестно для меня, — сказал граф с низким поклоном.
Молодой человек вернулся к себе мрачный и озабоченный. Он не мог не сознавать, что чувство, которое ему внушала бедная компаньонка его кузины, было серьезного свойства. Как смешно! Он понимал достаточно хорошо характер молодой девушки, чтобы знать, что она недоступна для связи, а жениться на ней он бы не мог, даже если бы пожелал.
«Ах, — говорил он себе, шагая в лихорадочном волнении по кабинету, — недоставало мне только несчастной страсти к этой неизвестной личности, которая ненавидит меня и как будто знает мою тайну. Но кто бы мог ей открыть ее? Не родственница ли она Лилии? Ее странное сходство с типом Веренфельсов, равно как и ее намеки, могут внушить такое предположение. Она возмущает меня, а между тем, когда она смотрит на меня своими бархатными глазами, я чувствую, что покоряюсь ей, что она пробуждает во мне желания как ни одна женщина в мире. Будь проклят час, когда я связал себя с ненавистной мне женщиной, которая скрывается от меня и умерла, быть может, так как вот уже четыре с половиной года, как она исчезла. Что, если я свободен и только не знаю этого! Но как это узнать? Как поднять эту скандальную историю! Нет, лучше теперь!» — и с глухим стоном он кинулся на диван.
Под влиянием чувства, которое все более и более овладевало им, он то избегал, то искал общества Лилии, что было нетрудно, так как приготовления по картинам и репетиции часто сводили их. И когда однажды молодая девушка примеряла костюм владетельницы замка и геральдическую корону, какую должна была носить графиня де Глейхен, Танкред чуть не выдал себя. Его восторженный взгляд впился в прелестное и аристократическое лицо девушки, и, позабыв все, он с наслаждением надел бы на эти золотистые волосы корону Рекенштейнов.
В день бала обе дамы надевали шубы, как вдруг раздался шум подъехавшего экипажа и кто-то стремительно вошел в переднюю. То был камердинер генерала де Вольфенгагена, приехавший объявить баронессе, что ее отец опасно заболел, просит ее приехать немедленно и шлет ей карету, которая сейчас привезла доктора.
Элеонора закусила губы.
— Мадемуазель Берг, поезжайте, пожалуйста, в Рекенштейнский замок и скажите графу, что я приеду через час, когда успокоюсь насчет здоровья отца; я уверена, что оно не представляет никакой опасности.
Лилия молча повиновалась, но сердце ее сжалось, когда карета остановилась у освещенного подъезда замка. С затуманенным от волнения взглядом она вошла в обширный вестибюль, откуда широкая лестница, устланная коврами и украшенная цветами и статуями, вела в приемные комнаты первого этажа. Вестибюль, казалось, преобразился в караульный зал Лувра времена Карла IX; все лакеи были в костюмах того времени; вдоль всей лестницы и у дверей залы были расставлены алебардисты.
Лилия приехала первой, и слуги не успели снять с нее манто и капюшона, как появился Танкред и, увидев, что она одна, быстро спустился с лестницы. С невольным восхищением она глядела на молодого человека, идеально красивого во костюме XVI века, скопированного с портрета той эпохи. Его белый атласный камзол с ярко-красными вставками в рукавах блестел бриллиантами, равно как и эфес его шпаги, висевшей у него сбоку.
Граф, казалось, вовсе не был огорчен отсутствием кузины; он рассеянно слушал объяснения Лилии по этому поводу, заботливо помогая ей снять капюшон. С любопытством он окинул взглядом ее костюм и с трудом удержался от восторженного восклицания.
Танкред предложил ей руку, чтобы подняться по лестнице. Он не спускал глаз с ее лица, не понимая глубокого волнения Лилии, которая шла молча, с болью в сердце от мысли, что она, все же опираясь на руку своего мужа, входит в эти залы, где ей следовало быть госпожой. Вдруг он наклонился к ней и проговорил полушепотом:
— Вы были сегодня хороши, как видение. Ах, если бы все лилии были похожи на вас!
Прелестная в костюме королевы Марго, Сильвия поспешила к ним навстречу; и снова стали говорить о баронессе и о внезапной болезни ее отца. Но гости, приезжавшие непрерывно, заставили молодых хозяев дома заняться своими обязанностями.
Прошло более часа, а мадам Зибах все еще не возвращалась. Бал был в полном разгаре, и Лилия, красота которой в этот раз произвела сильное впечатление, танцевала без остановки, когда Танкред пришел ее ангажировать. Молодая девушка попробовала отказаться, ссылаясь на усталость, но граф так настаивал, что она встала и дала себя увлечь в вихрь вальса.
По окончании танца Танкред подал ей руку и сказал, указывая на вход в оранжерею.
— Позвольте отвести вас в оранжерею. Вы устали, я это вижу, а здесь так душно. Вы увидите, как там хорошо.
Лилия помнила рассказы отца о феерической красоте той залы, которую Арно с такой любовью отделал вновь, чтобы доставить удовольствие своей мачехе. Воспоминания охватили ее, и, ничего не отвечая, она направилась с графом в оранжерею, почти пустую в эту минуту. То, что она увидела, превзошло все, что она себе представляла. Действительно, страной грез казался этот тропический уголок.
Вот золоченая раковина с прислоненной к ней мраморной Наядой. Здесь Арно преподнес Габриэле шкатулку с драгоценными украшениями. И тут же Готфрид сделал попытку вразумить графиню, попытку, имевшую такие гибельные последствия. А далее рощица со скамьей из искусственного мха, под тенью апельсиновых деревьев и фонтан, с журчанием падающий в мраморный бассейн. Здесь графиня склонилась к ее отцу, ожидая признания в любви, и окончательно выдала тайну своей гордой души.
Позабыв своего спутника, Лилия остановилась, и ее глаза приковались к этому месту, исполненному воспоминаний. Глубокое сострадание к графине охватило ее. Любить всей душой и быть отвергнутой тем, кого любишь! О, как это мучительно тяжело!
Танкред тоже остановился и, несколько удивленный, устремил взгляд на Лилию, которая, отдавшись своим мыслям, казалось, позабыла все окружающее. Не подозревая, какие ощущения волновали молодую девушку, он думал, что она очарована сказочной красотой этого места, и, не желая мешать ей, сам погрузился в созерцание своей спутницы. Лилия действительно казалась живым цветком, распустившимся в этой волшебной обстановке. Ее высокая стройная фигура имела гибкость лилии, и шея с классическим контуром могла поспорить белизной с атласными листьями, из которых она, казалось, выходила, между тем как идеальная чистота отражалась на ее прозрачном лице, оживленном легким румянцем вследствие охвативших ее воспоминаний.
В синих глазах Танкреда мгновенно вспыхнул огонь, яркий румянец залил его лицо. Красота Лилии приводила его в упоение. Ему казалось, что он никогда не видывал такой обольстительной женщины. Он позабыл свое отвращение к рыжим; блеск золотистых локонов обворожил его, но он не мог приподнять их и покрыть поцелуями! Ветреный и неукротимый, привыкший удовлетворять своим прихотям, Танкред позабыл все и, наклоняясь, прильнул горячими губами к обнаженному плечу Лилии, которая вздрогнула, как ужаленная змеей. Тем не менее она не отступила, лишь бархатные глаза сверкнули огнем жестокой насмешки и странная улыбка скользнула по ее губам.
Танкред был озадачен. Он ожидал гнева, упреков за его дерзость, но чтобы его увлечение было осмеяно, этого никогда не бывало.
— Простите, — сказал он со смущением, — но я воображал, что вижу перед собой графиню де Глейхен.
— Конечно, конечно; я уверена, что если бы вы вообразили перед собой графиню де Рекенштейн, то не ошиблись бы таким образом, — отвечала Лилия с язвительной насмешкой и, помочив платок в струе фонтана, вытерла плечо, которого коснулись губы графа.
Танкред побледнел при этом неожиданном оскорблении.
— Вода смывает все оскверняющее и даже прикосновение таких нечистых губ, как мои, — сказал он, дрожа от бешенства.
— Конечно, особенно тех, на которых запечатлелось такое множество случайных поцелуев, — отвечала Лилия, смерив его холодным взглядом; затем повернулась и ушла из оранжереи.
Граф кинулся на диван и отер платком свое воспаленное лицо. Эта женщина имела особую способность мучить его, покорять его гордость, как покорила его чувства. Чем объяснить то, что сейчас произошло? Как она, такая недоступная, краснеющая от каждого смелого взгляда и любезного слова, вынесла его поцелуй, не тронувшись с места, с презрительной насмешкой, вместо отчаянного негодования, какого он мог ожидать? И она осмелилась омыть место, к которому прикоснулись его губы! Затем она бросила ему в лицо намек, что будь это графиня де Рекенштейн, он счел бы за пытку поцеловать ее.
«Ах, Лилия, страшный призрак моей жизни! — шептал он прерывистым голосом, — неужели ты вечно будешь загораживать мне путь к счастью? Если б я был свободен, ты сделалась бы моею, жестокое, обольстительное создание, несмотря на ненависть ко мне. И какая причина этой ненависти? Не основана ли она на знании моей тайны? Но как она может быть ей известна!»
В оранжерею вошло несколько человек, что отвлекло графа от тяжелых размышлений и напомнило ему его роль хозяина дома. Но напрасно его гневный взгляд искал в залах Лилию: молодая девушка уехала с бала под предлогом, что необходимо узнать, что так долго задерживает баронессу и не нужна ли она ей.
Мадам де Зибах не могла оставить опасно заболевшего отца. Более двух недель здоровье старого генерала находилось в неопределенном состоянии, и дочь была прикована к его постели.
Генерал поправлялся медленно. Живые картины были отложены на неопределенное время.
Лилия очень редко видела теперь графа; и они относились друг к другу с холодным равнодушием. Зато Сильвия усердно навещала ее и звала к себе. Но мысль бывать в Рекенштейнском замке внушала Лилии отвращение, и она под разными предлогами уклонялась от приглашений мадемуазель де Морейра.
Раз утром она получила записку от Сильвии, которая убедительно звала ее к себе. «Я простудилась и сижу дома, — писала она, — а так как я знаю, что Элеонора проводит весь день у отца, то Вы свободны, Нора; приезжайте посидеть со мной. Не принимаю никаких отговорок и предупреждаю, что Вы не встретитесь с Вашей антипатией: Танкред едет на большой прощальный обед, который дают одному офицеру, выходящему из полка; оттуда брат отправится на бал. Так что мы будем совсем одни. Я пошлю за Вами мою карету».
Лилия сочла невозможным отказаться. Она нашла Сильвию одну, и молодые девушки весело отобедали вдвоем. Затем Сильвия показала подруге замок, картины, драгоценные камни, собранные одним из предков; водила даже, несмотря на ее сопротивление, в апартаменты графа под предлогом показать настоящую картину Тициана, висевшую в кабинете Танкреда. Затем они вернулись в покои Сильвии, ярко освещенные, как это любила молодая графиня. Они много беседовали; затем Лилия рассматривала роскошные безделушки, украшавшие стол и этажерки. Большой портрет в золотой рамке, висевший над бюро, обратил на себя внимание Лилии. На нем был изображен молодой человек иностранного типа, резкий брюнет с черными, огненными глазами.
— Это мой отец. Не правда ли, он красив? И его доброта равнялась его красоте, — сказала Сильвия, глядя с любовью и гордостью на изображение дона Рамона.
Лилия всматривалась с грустью и сожалением в черты человека, который тоже пал жертвой опасной Цирцеи.
— Пойдемте, Нора, я покажу вам портрет моей матери.
Мадемуазель де Морейра отворила дверь соседней комнаты, которая, видимо, служила ей молельней и другой дверью сообщалась с ее спальней.
Лилия побледнела, и ее глаза впились в висевший перед ней портрет. Вот женщина, которая так страстно любила ее отца и на коленях молила у него прощения.
Как мог он противиться ей и отказаться от нее? При этом она вспомнила тот день, когда Готфрид открыл ей свое прошлое и когда у него вылилось так много говорящее признание: «Ах, как мне было трудно вырвать ее из моего сердца!»
— Как она хороша! И как вы на нее похожи, — проговорила Лилия невольно.
— Да, но красота ее была гибельна для тех, кто к ней приближался, — прошептала Сильвия. — Говорят, что я ее живой портрет. Но я ежедневно на коленях молю Бога, чтобы моя красота не принесла горя тем, в ком она возбудит любовь, как то было с моей матерью. Красота моей матери погубила ее первого мужа, ее пасынка Арно, моего отца и еще одного человека, которого она любила более всех.
Сильвия вынула из-за корсажа медальон, висевший на длинной золотой цепочке, и открыла его. В нем было два миниатюрных портрета: с одной стороны Арно, с другой — Готфрида.
— Этот медальон был снят с нее после ее смерти. С тех пор я с ним никогда не расстаюсь, хотя в нем и не нашлось места для моего бедного отца, — сказала Сильвия с горечью, поспешно закрывая портрет Габриэли.
Они поспешили в будуар и, облокотясь на стол, долго рассматривали раскрытый перед ними медальон.
— Чем более я разбираю черты этого красивого лица, тем более убеждаюсь, что вы похожи на него.
Она поднесла портрет к лицу своей подруги.
— Поглядите, это тот же широкий лоб, те же черные бескорыстные глаза, то же строгое и энергичное выражение рта и даже такие же почти сросшиеся брови. Знаете, Нора, если бы у этого человека была дочь, она, вероятно, походила бы на вас.
— Действительно, есть некоторое сходство между мной и этим портретом; но это чистая случайность, так как я никогда не знала никого, похожего на этого человека, — отвечала бледная, смущенная Лилия, стараясь улыбнуться. — Но скажите, пожалуйста, графиня, кто этот другой молодой человек с такими симпатичными глазами и таким честным, откровенный выражением лица? Вы сказали, кажется, что его зовут Арно.
— Да, это Арно, граф Арнобургский, брат Танкреда от первого супружества его отца с графиней Хильдой Арнобургской. И лицо Арно служит отражением его души.
— Граф Арнобургский не живет в Берлине?
— Нет, вот уже семнадцать лет, как он уехал и путешествует по Индии и другим восточным странам, — отвечала Сильвия с новым вздохом. — Мы не имеем о нем никаких известий. Мне бы очень хотелось, чтобы он возвратился. Я могу целыми часами глядеть на его портрет и особенно на эти красивые темные глаза, такие кроткие и ясные; мне кажется, что я черпаю в них спокойствие и даже здоровье, когда у меня бывают мои нервные головные боли. Не смейтесь, Нора, это правда. Взгляд Арно магнетизирует меня, хотя это лишь нарисованные глаза. Несмотря на то, что он не так красив, как Танкред, он мне больше нравится. Мой милый братец, — добавила она, смеясь, — похож немножко на героя романа, он слишком красив для простого смертного: и так как ему очень напели об этом, то он сделался пресыщенным, капризным и несносным.
— Это правда, что месье Рекенштейн очень уверен в своих наружных достоинствах и высоко ценит их, — заметила Лилия с насмешкой.
— Ну вот, вы сейчас режете как ланцетом, как только речь коснется его. Но надо взять в соображение обожание, какое ему высказывают женщины. Они не дают ему времени пожелать быть любимым. Когда он приехал ко мне в Сорренто, все оборачивались на улице, когда мы проходили. И он не пробыл там трех дней, как познакомился, не знаю каким образом, с прелестной итальянской маркизой Анжеликой де С., и начался бесконечный флирт; букеты и записочки так и сыпались с обеих сторон. И вдруг она ему надоела. Красавица Анжелика была в таком отчаянии, что хотела, говорят, лишить себя жизни. И когда я увидела ее с мужем, некрасивым и ревнивым стариком, я очень ее пожалела. Но постойте, я вам ее покажу; я нашла фотографическую карточку маркизы в портфеле, который Танкред позабыл.
Она подошла к одному шкафчику и, выдвинув ящик, достала оттуда маленький портфель красного сафьяна с инициалами графа. Лилия, покраснев по уши, слушала рассказ о пикантных приключениях своего милого супруга; она взяла с живостью карточку и с насмешливой улыбкой прочла над изображением красавицы-итальянки несколько слов посвящения в весьма нежном духе.
— Да, он большой ветреник, — продолжала Сильвия. — Сколько сувениров, записочек и портретов я нашла раз случайно в ящике его стола!.. Ах, как бы я не хотела, чтобы Танкред был моим мужем. Я бы не имела ни минуты покоя, если бы знала, что мой муж бегает за каждой юбкой и влюбляется в каждое хорошенькое личико. Представьте себе, Нора, даже мою горничную Лизетту, и ту он заметил. Правда, она очень хорошенькая. И вот недели две тому назад я застаю его у себя в гардеробной; протянув руки, он не пускал ее из комнаты, потом поймал и поцеловал ее в обе щеки. Я так рассердилась, что сперва побранила Лизетту и сказала ей, что если еще что-нибудь подобное повторится, то я ее отпущу. Она плакала и говорила в свое оправдание, что она не может быть грубой с графом. «Нет, можешь, — отвечала я ей. — Ударь его по щеке, если он еще раз позволит себе поцеловать тебя; он не имеет на это права». А после обеда я сказала Танкреду: «Не стыдно ли тебе соперничать со своим лакеем? Но впредь твое ухаживание будет иначе принято: я велела Лизетте ударить тебя по щеке, если ты опять позволишь себе что-нибудь подобное». Он расхохотался как сумасшедший и говорит мне на это: «Какая ты смешная, Сильвия, что делаешь так много шуму из-за того, что я поцеловал камеристку. Разве это имеет какое-нибудь значение? Я за свою жизнь целовал всех женщин, которые мне нравились; и всегда буду это делать, и никто из них не будет за это в претензии». Когда я ему сказала, что могут встретиться женщины, которым это не понравится, он с удивлением взглянул на меня. Нет, нет, быть женой Танкреда ужасно! Я бы не желала такого мужа, и вы тоже, Нора, я уверена.
— Добровольно я бы его не выбрала; но как знать, насмешливая судьба не назначила ли мне в мужья такого же ветрогона, — отвечала Лилия со странной улыбкой.
Звонкий кашель и бряцание шпор в соседней комнате заставили вздрогнуть молодых девушек. Минуту спустя на пороге показалась высокая фигура Танкреда. Он был в возбужденном состоянии, и лицо его выражало самодовольство. Видимо, ему было приятно, что Лилия узнала о его успехах, так как он устремил на нее смелый взгляд; покраснев, она упорно молчала. Он сел возле Сильвии, не менее смущенной, и сказал:
— Ну, милая моя сестра, продолжай твою хвалебную речь.
— Фи, Танкред, ты шпионил, слушал у дверей! Это гнусно! — воскликнула Сильвия в негодовании.
— Ничуть, напротив, это очень назидательно. По крайней мере я узнал, что ни одна из вас не желала бы меня в мужья, что я негодный человек, что моя добродетельная сестрица шарила у меня в ящиках и, наконец, что хотя Арно и менее красив, но более симпатичен и более нравствен, что, уверяю тебя, не мешает ему целовать хорошеньких женщин не менее моего.
— С час времени он шпионил без зазрения совести. Это замечательно! — промолвила Сильвия в смущении.
— Еще того хуже клеветать на меня перед мадемуазель Берг, которая будет теперь бояться остаться со мной одна в комнате, считая меня за какого-то разбойника.
— Нисколько. Я уверена, что вы никогда не попробуете слишком подступиться ко мне.
— Вы в этом уверены?
— Гадкий мальчик! Если бы ты рискнул на что-нибудь подобное, то имел бы удовольствие, какое, говоришь, никогда еще не испытывал: почувствовать хорошенькую женскую ручку на своей щеке, — сказала, смеясь, Сильвия.
Граф наклонился к Лилии и, окидывая ее смелым и насмешливым взглядом, спросил:
— Правда, вы были бы так строги из-за невинного поцелуя? Следовало бы попытать, чтобы этому поверить!
Лилия вспыхнула.
— Вы слишком хорошо пообедали, месье Рекенштейн, и в эту минуту шампанское говорит вашими устами.
Танкред встал, покраснев так же, как его собеседница. Он действительно выпил очень много, а вино делало его всегда задорным.
— Ваше предположение очень лестно, но оно по крайней мере избавляет меня от всякой ответственности за мои поступки. После урока, который я вам дам, вы будете осторожней и не станете позволять себе оскорблять офицера, говоря, что он пьян.
И прежде чем Лилия, не ожидавшая ничего подобного, успела подумать о защите, он схватил ее за талию и поцеловал ее в губы, полуоткрытые для возражения. Вне себя молодая девушка встала и так же неожиданно, как был неожидан поцелуй, ударила графа по щеке. Сильвия вскрикнула от испуга, меж тем как Лилия кинулась к дверям. Но прежде чем она успела добежать, сильная рука остановила ее.
— Вы останетесь здесь и не убежите, чтобы не выносить скандала перед лакеями, — крикнул Танкред глухим, неузнаваемым голосом. Он буквально задыхался; и увидев его пылающие глаза и пену у рта, Лилия испугалась и пожалела о своем увлечении. В сущности, ведь это ее муж поцеловал ее; и она даже забыла в эту минуту, что он не знает, кто она для него. И лишь бессознательная любовь, какую ей внушал граф, говорила в ней, когда она, положив свою руку на руку молодого человека, сказала тихим голосом:
— Простите мне мое раздражение и успокойтесь.
Танкред сбросил ее руку; но его огненный взгляд впился в красивые глаза молодой девушки, обращенные к нему с робкой мольбой и с таким выражением, какого он никогда у нее не видел. В эту минуту Сильвия, которая, побледнев, стояла прислоняясь к стене, вдруг судорожно зарыдала и упала на стул.
— Останьтесь около моей сестры и успокойте бедную девочку. Можете не опасаться, что я когда-нибудь обеспокою вам моим присутствием, — сказал Танкред несколько спокойнее, повернулся и стремительно вышел.
Трепещущая и безмолвная, Лилия подошла к подруге и привлекла ее в свои объятия, стараясь ее утешить. Мало-помалу ей удалось успокоить Сильвию, убедив ее, что она напрасно упрекает себя, что вызвала эту сцену своей болтовней и своими шутками.
— С характером графа, — говорила Лилия, — подобная сцена рано или поздно должна была разыграться, случайность и прощальный обед только ускорили дело, — закончила она, стараясь придать голосу шутливый тон. — Но вы понимаете, графиня, что после того, что произошло, я не смогу бывать в вашем доме; мы будем видеться у баронессы.
Едва мадемуазель де Морейра оправилась от перенесенного волнения, Лилия простилась с ней и в передней встретила Фолькмара. Он толковал о чем-то с камердинером и спросил ее с удивлением:
— Не слышали ли вы что-нибудь о болезни графа, вследствие которой к нему не пускают даже меня?
— Я не видела месье Рекенштейна, а графиня не говорила, что он болен, — ответила она холодно.
— Так надо разведать, что за причина его мизантропии. Проводив вас, я пойду к нему, — сказал доктор, подавая ей руку.
Придя в свои апартаменты, граф заперся и стал ходить взад и вперед, как лев в клетке. Вино, злоба и страсть кипели в нем. Сорванный поцелуй, несмотря на грубый отпор, еще более воспламенил его, и когда он вспоминал тревожный невинный взгляд, устремленный на него, мгновенно преобразивший гордую, язвительную молодую девушку р смущенного, беспомощного ребенка, сердце его билось так, что готово было разорваться. И им овладевало непобедимое желание привлечь ее в свои объятия, подвергая себя новому оскорблению. Но Танкред не напрасно был сыном Габриэли: он унаследовал от нее непомерное самолюбие и пылкость. Чувство оскорбленной гордости все более и более подавляло добрые движения его сердца, внушая ему желание отомстить Лилии.
Он был отвлечен от своих дум стуком в дверь и голосом доктора:
— Отвори, Танкред. С каких пор дверь твоя заперта для меня?
— Я упустил тебя из виду, когда отдавал приказание никого не принимать, — отвечал граф, отпирая дверь. — Впрочем, я уверен, что ты не замедлишь убежать от меня; мне немного нездоровится, и я прескучный сегодня.
— Да, рука твоя горяча, как огонь. Что с тобой?
— Ничего; я пьян и у меня болит голова, — ответил он, бросаясь врастяжку на турецкий диван и барабаня шпорами по валику дивана.
— Ты изорвешь эту бесподобную шелковую материю. Сколько же ты проглотил бокалов шампанского, что так расстроил себе нервы? Обыкновенно ты хорошо выносишь все это.
— Я не считал. Но прощальный обед в честь барона Редера был очень оживленным.
— Я забыл, что его провожают сегодня. Но довольно об этом. Скажи лучше, часто ли мадемуазель Берг навещает твою сестру? Я видел, как она уезжала.
Граф приподнялся. Злопамятность, проявлявшаяся еще в мальчике, когда ему противоречили, сверкала в глазах и звучала в голосе Танкреда, когда он ответил на вопрос друга:
— Слишком часто, на мой взгляд, и я собираюсь значительно ограничить эти сношения, так как нахожу их неприличными между моей сестрой и этой темной авантюристкой.
— Напрасно. Твои предположения ни на чем не основаны, а общество этой прелестной девушки, такой приличной и образованной, может быть только полезно графине Сильвии.
— Нет, это ты слеп в своей любви, которая, я предчувствую, дурно кончится. Ведь баронесса передала тебе свой разговор с Берг, заявившей, что она никогда не выйдет замуж. Отчего бы так, если б не было какой-то тайны в ее жизни. Быть может, она убежала от своего мужа, а он везде ищет ее. Впрочем, возможно, что ей запрещено вступать в брак, и она согласилась бы осчастливить красивого и богатого молодого человека, не обременяя его цепями Гименея.
— Перестань говорить вздор. Никогда бы мой язык не повернулся сказать легкое слово этому чистому и гордому созданию.
— Ах, эта гордость, быть может, так велика лишь при публике. Рискни, поцелуй с глазу на глаз, она только улыбнется. Не гляди на меня с таким удивлением; я говорю по опыту; на костюмированном бале я поцеловал ее в плечо, и… она приняла это довольно благосклонно.
— Ты не шутишь, Танкред? — спросил Фолькмар, бледнея.
— Честное слова; мы были одни в оранжерее, и я рискнул.
Доктор ничего не ответил; он встал и, повертевшись немного в кабинете, взял шляпу и простился, сказав, что должен навестить больного.
На следующий день, после завтрака, граф объявил сестре, что не одобряет ее сношений с мадемуазель Берг и просит ее ограничить их, насколько то приличествует графине де Морейра, с девушкой, находящейся в услужении.
— Танкред, ты хочешь таким путем отомстить за резкость поступка, которую вполне заслужил своей дерзостью, — сказала Сильвия со слезами на глазах.
— За то или другое, но я запрещаю тебе держаться на дружеской ноге с этой дерзкой личностью.
— Потому что она охраняет свое достоинство, а ты, женатый человек, не стыдишься вести себя таким образом.
— Если ты будешь упорно напоминать мне этот проклятый эпизод моей жизни, я застрелюсь в один прекрасный день, — крикнул с досадой молодой человек, но увидев испуг и потоки слез, вызванные этими словами, он раскаялся в своей вспыльчивости и не ушел от сестры, пока ласками и самыми торжественными обещаниями никогда не посягать на свою жизнь не вызвал снова улыбки на ее уста.
IV. Возвращение изгнанника
Почти неделю спустя после описанных нами событий, Сильвия сидела у окна своего будуара, ожидая возвращения брата, который должен был приехать к завтраку. Под окном на маленьком кругленьком диване лежали книги и вышивание. Соскучась, молодая девушка бросила свою работу и стала глядеть на прохожих. Не без удивления она увидела, что у главного подъезда остановился фиакр, из которого вышел человек в штатском платье и, взяв свой маленький чемодан, проник в замок. «Кто бы мог быть этот оригинал, который приехал сюда, как в отель? Могу себе представить, как Мюллер выпроводит его», — подумала она, смеясь. Но к ее удивлению незнакомец не вернулся. Впрочем, она тотчас забыла об этом незначительном обстоятельстве, так как ее внимание было отвлечено какой-то ссорой.
Тем временем таинственный путешественник вошел в вестибюль и, бросив чемодан на бархатную скамейку, подошел к швейцару, толстому величественному старику с седыми волосами, который смерил его с головы до ног негодующим взглядом.
— Дома граф? — спросил незнакомец, человек высокого роста, стройный, со смуглым лицом, обрамленным темной бородой.
— Нет, сударь, графа нет дома, и неизвестно — когда он вернется, — отвечал швейцар несколько гневно, но вместе с тем почтительно, так как аристократический, приличный вид посетителя, не соответствующий его экипировке, удивлял его. Но вдруг с глухим восклицанием он выронил из рук свою палку с золотым набалдашником:
— Боже милосердный! Да это наш молодой барин.
— Вы узнали меня, почтенный Мюллер, хотя я не могу больше называться молодым, — отвечал приезжий с улыбкой, меж тем как лакеи, бывшие в вестибюле, вытянулись как наэлектризованные.
— Ах, какое счастье послал мне Бог! Снова я вижу вас, граф. Но как же вы приехали совсем один? — спросил старый слуга, со слезами на глазах целуя руку Арно.
— Мой камердинер и мои вещи прибудут завтра. А теперь скажите мне, почтеннейший, правда ли, что Танкреда нет дома?
— Да, да, он на службе, но графиня у себя. Боже мой, как месье Танкред будет счастлив! — добавил старик в волнении.
— Пусть здесь никто не трогается с места. Я хорошо знаю дорогу и сам о себе доложу до прихода брата, — сказал слугам Арно, медленно поднимаясь по лестнице.
Множество воспоминаний, тяжелых и счастливых, обступили его при входе в этот дом, который он оставил семнадцать лет тому назад. Сколько раз он хотел писать, узнать о судьбе своих близких и всякий раз оставлял свое намерение, боясь коснуться прошлого, отравившего лучшие годы его жизни. Давно его скитальческая жизнь томила его. Рана его сердца зажила под смягчающей рукой времени, и усилившаяся тоска по родине заставила его возвратиться. Только ему не хотелось расспрашивать предварительно о том, что происходило в его отсутствие; он хотел неожиданно очутиться в этом новом мире, увидеть, как его примут, убедиться, что его безумная страсть окончательно погасла.
Все эти мысли толпились в голове Арно, меж тем как он медленно проходил по комнатам, с любопытством осматривая происшедшие перемены. Графиня, о которой говорил швейцар, вероятно, жена Танкреда. Габриэль давно должна была быть баронессой Веренфельс. У дверей бывшего будуара он остановился на минуту в нерешительности; затем, приподняв тяжелую парчевую портьеру розового цвета, окинул комнату взглядом. У окна на круглом диване он увидел женскую фигуру в домашнем платье белого кашемира, на котором резко выделялась длинная и черная коса. Этот гордый и правильный профиль был слишком хорошо знаком Арно, и почти невольно он вскрикнул:
— Габриэль, ужели время не властно над вами!
При звуке его голоса сидевшая на диване быстро повернулась и с удивлением устремила на него свой взгляд; но минуту спустя она кинулась к графу с радостным криком: «Арно!» Теперь граф в свою очередь был поражен, так как не замедлил понять, что видит перед собой не знакомую ему личность, а живой портрет той, которую он любил, но не ее самое. Молодая девушка, однако, тотчас остановилась в смущении.
— Мою мать звали Габриэль, а я Сильвия де Морейра, — сказала она, протягивая ему обе руки.
Арно с живостью взял ее руки и несколько раз поцеловал их.
— Благодарю вас за этот прием; одним словом он воссоздал семью путнику, который возвратился таким одиноким. Вы дочь дона Района? И он тоже живет здесь? Но отчего вы сказали «Мою мать звали Габриэль?»
Он замолчал, взволнованный и смущенный.
— Мой отец умер, и мать моя тоже. Я живу здесь с Танкредом.
— Габриэль умерла! Умерла! — повторил граф.
— Да. И я жалею, что моя наружность вызывает в вас тяжелые воспоминания. Но не правда ли, вы простили маме? — спросила с беспокойством молодая девушка.
Граф покраснел.
— Да, так как вам, очевидно, известно все, то могу вам сказать, что простил до глубины души, и мне не только не тяжело, но напротив, приятно видеть вас, как воскресший ее образ.
Поспешные шаги в соседней комнате прервали их разговор. Нетерпеливая рука откинула портьеру, и в комнату ворвался сияющий Танкред.
— Арно! Наконец ты возвратился! — воскликнул он, бросая фуражку на ковер и стремительно кидаясь в объятия брата. С минуту они стояли обнявшись; затем Арно отступил и сказал с доброй улыбкой:
— Дай мне поглядеть, как развился мой маленький Танкред.
— Этот эпитет не подходит ко мне больше, — возразил, смеясь, молодой человек. — И ты, Арно, сильно изменился.
— Постарел, хочешь ты сказать. А ты таков, каким обещал быть. Ты даже слишком красив для мужчины.
— Ну вот, и ты повторяешь ту же фразу. Не могу же я, однако, сделать себе шрам на лице, чтобы подурнеть, — сказал Танкред с неудовольствием. — Женщины, впрочем, меня никогда в этом не упрекают. Но познакомился ли ты с сестрой? Поцеловал ли ее? Это дочь дона Рамона, второго мужа моей матери.
— Я знаю. Но я еще не просил у Сильвии позволения поцеловать ее, так как я для нее человек незнакомый, хотя желал бы очень, чтобы она не отказала мне в правах брата.
Сильвия сильно покраснела, но не колеблясь протянула ему свои розовые губки, и он нежно поцеловал их.






