Басилевс Гладкий Виталий
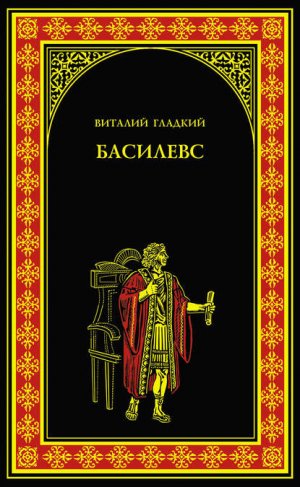
Наконец паломник шевельнулся, намереваясь отправиться восвояси, и слуга в поклоне предложил ему свою руку, на которую господин и оперся.
Когда они вышли наружу, на ясный свет, Савмак с удивлением воззрился на человека в плаще: им оказалась немолодая женщина с бесстрастным лицом, напоминающим раскрашенную маску. На голове у нее был тонкий золотой обруч, украшенный каменьями, уши прикрывали дорогие височные подвески. Холодно взглянув на юного скифа, она проследовала к калитке в стене акрополя, находившегося в сотне локтей от храма. Слуга, чье безбородое женское лицо подсказало Савмаку, что это евнух, семенил рядом, приспосабливаясь к мелкому женскому шагу. Сзади шел каменноликий телохранитель, топая, как слон.
Уже у самой калитки женщина вдруг остановилась и еще раз посмотрела на царевича, теперь уже гораздо пристальней. От этого взгляда у юноши забегали по спине мурашки; быстро отвернувшись, он поторопился войти в храм, где его ждал жрец Кибелы, худой, как щепка, фригиец с темным, иссушенным лицом и голодными волчьими глазами. Не переставая думать о престарелой паломнице, Савмак бросил в чашу в руках жреца серебряную монету, а затем насыпал в углубление алтаря немного муки и щедро полил ее смесью вина с медом – кувшинчик с этими жертвенными дарами он принес с собой. Царевич просил у Матери Богов только одного – помочь ему побыстрее вернуться в Неаполис. Боги эллинов были чужды юному скифу, но Кибела напоминала Савмаку великую Апи[276]. Помолившись как мог, юноша быстро зашагал вниз, так как сумерки постепенно сгущались, и на городских улицах замелькали факелы. Впрочем, сегодня он мог и не спешить в казармы – его отпустили на сутки в связи с предстоящими празднествами по случаю прибытия послов Понта. Он и еще несколько лучших наездников-гиппотоксотов должны были услаждать взор высокочтимых гостей укрощением диких жеребцов…
Камасария Филотекна вопросительно посмотрела на евнуха, помогавшего телохранителю запирать тяжеленным засовом калитку акрополя:
– Кто этот юнец?
– О ком изволишь спрашивать, о мудрейшая? – в недоумении воззрился на нее Амфитион.
– Глупец! – вдруг рассердилась царица. – Куда смотрели твои глаза?
– А-а… – наконец понял евнух, что Камасария имеет ввиду молодого паломника. – Не ведаю. Похоже, это варвар, гиппотоксот, судя по одежде.
– Мне его лицо знакомо… – в раздумье сказала царица. – Но откуда?
Амфитион пожал плечами. Сумасбродства Камасарии ему были не в новинку, поэтому он стоически ждал, что ей еще взбредет в голову. Лично для него юный варвар был пустым местом.
– Амфитион! – повысила голос царица. – Узнай, кто он и откуда… – и добавила тихо, про себя: – Мне он не нравится… От него исходит какая-то неведомая опасность… Где я могла видеть это лицо? Где и когда?
Евнух только сморщился страдальчески: бить ноги и ломать голову в поисках мельком встреченного варвара казалось ему верхом глупости. Но он оставил эти мысли при себе и лишь поклонился. Царица с подозрением посмотрела на его лисью физиономию и, высокомерно поджав губы, направилась по вымощенной известняковой крошкой дорожке в свои покои.
Савмак неторопливо шел по Пантикапею, направляясь в сторону доков. В той стороне находилось жилище сторожа «Алкиона», отставного морского волка, где юношу должен был ждать Пилумн. Тяжелый на подъем Руфус отказался составить компанию лохагу аспургиан и уже, наверное, спал – уж что-что, а это дело он любил. А Тарулас со своим лохом сегодня пошел в ночной дозор.
Улицы уже обезлюдели. Только в харчевнях слышался говор и звонкие звуки кифар и авлосов[277], да лениво тявкали бездомные псы, набившие животы потрохами на городской бойне.
Неожиданно, впереди, среди беспорядочно расположенных домишек и мастерских пантикапейских ремесленников раздался чей-то глухой вскрик, полный предсмертной боли, и донесся шум драки. Савмак остановился в раздумье – ввязываться в потасовку ему не хотелось. Он оглянулся и мысленно выругался: ближайший переулок находился рядом, но, как знал юноша, он заканчивался тупиком. Обходить же квартал он не хотел – чересчур далеко и небезопасно: городской сброд не отличался человеколюбием и нередко вместе с деньгами и одеждой какого-нибудь беспечного пантикапейца или приезжего, рискнувшего прогуляться по этим подозрительным в ночное время местам, отбирали и жизнь.
Сокрушенно вздохнув, Савмак поправил ножны акинака и решительно зашагал в сторону дерущихся, судя по лязгу и скрежету, обнаживших клинки.
Ущербная луна над акрополем скупо освещала затаившиеся улицы и переулки окраины. Несколько человек в полном безмолвии пытались достать мечами прижавшегося к стене одного из домов мужчину невысокого роста и щуплого с виду. Двое уже покинули этот мир, и черная в ночи кровь медленно изливалась из их тел на неровную мостовую. Еще один сидел чуть поодаль и стонал, зажимая рукой глубокую рану на груди.
Пока никем не замеченный, стараясь держаться в тени, Савмак на цыпочках двигался вдоль домов, тая дыхание и плотно прижимаясь к шершавому известняку стен. Тем не менее, он невольно восхитился ловкостью щуплого мужчины, чей меч рисовал в лунном свете сверкающие круги. Нападавшие на него изо всех сил пытались пробить такую невиданную защиту, но это было все равно, что пытаться просунуть палицу в колесо бешенно мчащейся колесницы.
Савмак уже было прошел самый опасный участок в непосредственной близости от сражающихся, как вдруг еще человек пять молчаливых убийц появились из темноты и присоединились к нападавшим на щуплого. Этого уже горячий нрав молодого скифа вынести не мог: обнажив акинак, он вихрем ворвался в круг, разя направо и налево. Ободренный неожиданной поддержкой, щуплый что-то крикнул ему на незнакомом языке, но Савмак не понял. Впрочем, переспрашивать было недосуг – мечи шипели, как змеи, и запах крови, ударяя в ноздри, пьянил и будоражил юного воина, от чего он на мгновение забыл об осторожности.
– Сзади! – вскричал вдруг щуплый, и Савмак в невероятном кульбите, которому его научил Тарулас, едва успел спасти свою шею от коварного горизонтального удара.
– К спине! – между тем скомандовал незнакомец, и Савмак его понял – этому приему он тоже обучился у лохага аспургиан.
Став спиной друг к другу, они удвоили свои усилия, медленно продвигаясь вглубь улицы, туда, где она разветвлялась узкими переулками. Там проще было скрыться, а из-за близко поставленных строений им не грозили коварные удары с боков.
– Держись ближе! – прохрипел незнакомец и неуловимо – точным выпадом поразил в живот одного из нападавших.
Какое-то время среди них царило смятение – некоторые были ранены, а кое-кто дрогнул при виде мастерства противников.
Савмак мельком глянул вверх и неожиданно почувствовал, как радостно забилось сердце: совсем низко над проулком торчал толстый брус, к нему должна была крепиться вывеска мастерской, но ее или еще не повесили, или у ремесленника просто не хватило денег, чтобы заплатить каллиграфу[278].
Юноша присел и, сильно оттолкнувшись, взлетел на брус, как на спину коня.
– Руку! – прокричал он озадаченному его исчезновением незнакомцу.
Тот отличался на удивление быстрой реакцией: едва услышав голос юного скифа, он сразу же сообразил, чего хочет его напарник; отбив очередное нападение, незнакомец бросил меч в ножны, и, подняв руки над головой, подпрыгнул. Савмак схватил его запястья и, напрягшись, сильным рывком выдернул из кучи врагов, как репу из песка. И спустя мгновение оба уже бежали по плоским крышам невзрачных домишек городской бедноты, не без основания опасаясь проломить тонкие, обмазанные глиной жерди…
Остановились они только среди каких-то развалин, заросших полынью и кустарником выше плеч. Незнакомец бросился словно пловец в воду в высокую траву и с блаженным видом закрыл глаза. Савмак, прилег рядом, подложив руки под голову.
– Благодарю тебя от всей души, брат, – отдышавшись, сердечно сказал незнакомец.
Наконец Савмак рассмотрел его лицо. Оно было сплошь покрыто шрамами. Но глаза незнакомца сверкали как уголья – молодо и, к удивлению юноши, весело.
– Что им было нужно? – полюбопытствовал Савмак, имея ввиду нападавших; судя по тому, с каким остервенением они дрались, встретились эти люди с незнакомцем отнюдь не случайно.
– Луна вознамерилась потушить солнце, – широко улыбаясь, загадочно ответил незнакомец. – Тебя как зовут?
– Савмак… – буркнул юный скиф, раздосадованный уклончивым ответом таинственного незнакомца.
– Гиппотоксот… – то ли спросил, то ли подтвердил свою догадку его собеседник, опытным взглядом окинув парадную одежду Савмака.
Юноша промолчал. Пытливо посмотрев на его хмурую физиономию, незнакомец понимающе кивнул.
– Гелианакс, – назвал он свое имя. – Как и ты, здесь я чужак. А в чужой своре даже опытному псу приходится несладко, – Гелианакс заразительно рассмеялся.
Засмеялся и Савмак, от этих слов нового приятеля ему вдруг стало легко и спокойно.
– Идем, – сказал, поднимаясь, Гелианакс. – Я уже опаздываю. К тому же не исключено, что ищейки продолжают держать след, а нас тут только двое.
– Куда?
– Узнаешь, – опять улыбнулся Гелианакс. – По крайней мере, там мы будем в полной безопасности.
Савмак колебался недолго: по здравому размышлению, путь назад ему отрезан, а Пилумн был не из тех людей, кто впадает уныние из-за того, что кто-то, пусть даже друг, не пришел на встречу. Тем более, что старый морской волк по части застолья мало в чем уступал гиганту-римлянину.
Их встретили закутанные в плащи люди, с опущенными на лица капюшонами.
– Надень, – властно сказал Гелианакс, подавая Савмаку такой же плащ, видимо, свой, потому что юноше он был короток; юный скиф беспрекословно подчинился.
Возбуждение, исчезнувшее после схватки с нападавшими на Гелианакса убийцами, вновь разогрело молодую кровь, и Савмак почувствовал истинное наслаждение от прикосновения к некой, еще непознанной, а от того вдвойне желанной тайне.
Помещение, куда их ввели, оказалось обширным и хорошо освещенным. В дальнем углу на возвышении ярко сверкал отполированный бронзовый диск с лучами, изображающий солнце. На одной из стен искусный художник написал колесницу Гелиоса, запряженную четверкой огненно-красных коней, а на другой – огромного белого быка с вилообразными рогами, между которыми был нарисован золотой шар. Люди, толпящиеся в помещении, были, как и Савмак, в плащах с капюшонами. У многих, как подметил остроглазый юноша, под одеждой имелись кольчуги и панцири, а также мечи или ножи.
Гелианакс, единственный из собравшихся с непокрытой головой, важно прошел к возвышению и скупым, но решительным жестом заставил всех умолкнуть.
– Братья! – обратился он к ним, воздев руки вверх. – Великий и всевидящий Гелиос всегда защищал бедных и обездоленных, слабых и увечных, тружеников и храбрецов. Ничто живое не может произрасти на земле без его благословения, ни одно преступление не останется безнаказанным, если кто-либо обратиться за помощью к Гелиосу…
Савмак жадно прислушивался к голосу Гелианакса: как оказалось, он был не только искусным бойцом, но и великолепным оратором. Смысл речи нового приятеля юноша понимал слабо, но некоторые фразы вгрызались в его сердце, как расплавленный металл, особенно когда Гелианакс заговорил об обидах и притеснениях, выпавших на долю рабов.
– Все мы сыновья мудрого мученика Прометея, сотворившего нас по образу и подобию божьему из земли и воды; он дал нам глаза, чтобы мы могли видеть небесные чертоги богов, подарил людям огонь, без которого они превратились бы в существ бессловесных и диких.
Голос Гелианакса крепчал, наливался всепроникающей мощью, туманил сознание неосуществленными мечтами; из них возникали феерические образы невозможного, настолько близкого, что до него, казалось, можно было дотронуться рукой.
– …Тогда, о братья, скажите мне: почему мы, в день сотворения все равные и счастливые, сейчас помыкаем себе подобными? Почему свободорожденных куют в кандалы или надевают на них ошейник раба? Почему один ест с золотого блюда и пьет выдержанное ароматное вино, а другой не может купить даже черствой ячменной лепешки? Почему?! И до-ко-ле?!
Напряженная, жуткая тишина, воцарившаяся после слов Гелианакса, спустя какое-то время вдруг обрушилась на барабанные перепонки Савмака неистовыми криками:
– Гелиос! Гелиос! Ты наш бог, единственный и всемилостивейший! Тебе возносим хвалу, о Гелиос! Веди нас в бой, Гелиос, против зла и насилия!
– Восславим же, братья, Гелиоса! – снова возвысил свой голос Гелианакс. – У нас пока нет алтарей и храмов, нас преследуют и распинают на столбах, мы нищи, босы и бесправны, но верьте, братья, настанет и наш день, когда воссияет Гелиос и разрушит царство зла…
В помещение внесли вместительный кратер и свежие лепешки, и гелиополиты стали трапезничать, отдавая дань и солнцевеликому богу: на возвышении, под бронзовым солнечным диском, стоял скромный алтарь, куда они брызгали из своих чаш по нескольку капель вина, на удивление Савмака, оказавшегося не кислым боспорским, а дорогим и ароматным книдским. Похоже, что членами братства гелиополитов были не только рабы и вольноотпущенники, а и люди более состоятельные.
– …Не забывай нас, брат, – говорил на прощание немного размякший Гелианакс. – И, я думаю, мне не нужно тебе еще раз напоминать о сохранении нашей общей тайны. Иначе даже царский эргастул покажется отчим домом по сравнению с тем местом, куда нас могут отправить.
– Мы еще увидимся?
– Обязательно, – Гелианакс с каким-то странным видом взял правую ладонь Савмака и долго всматривался в нее. – О, Гелиос… – пробормотал он, с изменившимся лицом и быстро отстранился от юного скифа. – Это невозможно…
– О чем ты? – спросил удивленный Савмак.
– Прощай. Уходи… – Гелианакс явно был чем-то расстроен; а возможно, как подумалось Савмаку, сказалась усталость – события сегодняшнего вечера могли свалить с ног человека помоложе и покрепче, нежели пятидесятилетний проповедник.
Когда Савмак исчез в темноте вместе с двумя провожающими, взволнованый Гелианакс вернулся к алтарю Гелиоса. Помещение освещалось всего тремя светильниками, чадившими и разбрызгивающими масло. Бронзовый диск потускнел, будто покрылся копотью, а запряженные в колесницу кони, нарисованные на стене, казались стаей огненноперых лебедей, плывущей среди черных волн.
Гелианакс с мольбой протянул руки к диску:
– О, Гелиос! Будь милостив к этому юноше! Линии судьбы предрекают ему великое будущее и много страданий. О, всевидящий, дарующий жизнь, спаси его от грядущих бед и напастей, помоги ему в предначертаном и избавь от мук…
Он молился долго и истово, почти до утренней зари. Усыпавшие небосвод звезды уже стали исчезать в бездонных небесных глубинах, когда измученный Гелианакс наконец лег на скамью в тайном храме гелиополитов и забылся тревожным, полным кошмарных видений сном. Ему чудились плещущиеся на ветру кровавые полотнища, сквозь которые смотрели на него страшные, горящие глаза. И были они глазами юного Савмака.
ГЛАВА 6
Пантикапейский гипподром располагался на окраине города. Посыпанная известняковой крошкой дорога к нему полнилась празднично одетыми горожанами, не спеша, но все равно с нетерпением, направлявшим свои стопы к огромной овальной чаше, построенной в прошлом десятилетии искусными плотниками и резчиками по дереву. Скамьи, окружавшие скаковое поле, были сделаны из липовых досок и покрыты горным воском. Они поднимались вверх на десять ярусов. Крепкий буковый помост поддерживала сложная конструкция из дубовых брусьев и столбов, по верхнему ободу чаши-гипподрома были установлены конные статуи и флагштоки; на них пестрели вымпелы с тамгами[279] спартокидских аристократов, чьи лошади принимали участие в скачках. Западная, теневая сторона гипподрома предназначалась для знати и почетных гостей Пантикапея. Там же блистал золотым шитьем и балдахин царя, возле него стояли на страже в полном боевом облачении воины спиры. Несколько левее виднелась крытая галлерея с резными воротами, украшенными живыми цветами и разноцветными лентами. Она вела в конюшни, где благородных скакунов готовили к предстоящим состязаниям. В самом центре гипподрома возвышалась выкрашенная в яркие тона скена[280], с примыкавшим к ней проскением[281]. Его плоская деревянная крыша и должна была служить местом театрального действа, входившего в программу праздника.
Гипподром постепенно заполнялся. Уже прибыли и послы Понта, ради которых, собственно, и затеяли празднество, а резные с позолотой скамьи, предназначенные для царя и его приближенных, все еще пустовали. Впрочем, это обстоятельство не особенно волновало горожан, в основном людей состоятельных и понимающих толк в событиях подобного рода. Между скамьями сновали вольноотпущенники, предлагая охлажденное вино и соленые ядрышки лесного ореха, и изнывающие от жары пантикапейцы не скупясь сыпали в их кошельки медь и серебро, чтобы вкусить божественного напитка и привести себя в состояние возвышенности, когда все житейские горечи, невзгоды и заботы кажутся совершенно несущественными и мелкими по сравнению с бурей страстей на театральных подмостках и на скаковом поле.
– Удивительно и невероятно! – воскликнул один из понтийцев, худощавый молодой мужчина, чьи волосы, тем не менее, уже тронула седина. – Может, я сплю, и все это мне снится? Такое впечатление, что я вовсе не в Таврике, в этой дикой стране, где живут необразованные варвары-номады, а в благословенной и просвещенной Синопе. Прекрасные здания, храмы и этот гипподром…
– Не верь глазам своим, ибо они обманут, – философски заметил его приятель, лысый толстяк. – Я прислушиваюсь только к голосу чрева, мой друг. А он мне сейчас нашептывает: не пей эту кислую дрянь, которую разносят босоногие слуги Бассарея[282], иначе вместо услаждающего слух хорала[283] будешь внимать журчанию воды в нужном месте, – он хитро подмигнул худощавому и, запустив руку за пазуху, достал небольшой бурдючок. – Лучше хлебни несколько глотков родосского, и твой дух немедленно воспарит на Олимп. А оттуда, как тебе известно, видно все. И да рассеются твои сомнения: мы и впрямь в варварской стране, где коварные номады пьют вино из черепов своих врагов, а потомки гордых воителей-эллинов превратились в стяжателей и сутяг, коим плевать на заветы предков и на просвещение, ибо оно ни в коей мере не способствует обогащению.
– Откуда это у тебя? – с удивлением спросил худощавый, показывая на бурдючок.
– Ты, случаем, не думаешь, что я привез его из Синопы? – рассмеялся толстяк. – Отнюдь, мой друг. Все винные запасы посольской триеры, как тебе известно, мы осушили. Занятие, если честно, было нелегким, но приятным. А этот драгоценный сосуд мне ссудил ойконом пританея.
– Ссудил? – улыбаясь, покачал головой его приятель.
– Не придирайся к словам, – снова засмеялся толстяк. – Как бы там ни было, а это славное родосское сейчас в самый раз. Выпей, и твои подозрения рассеются, как винные пары.
– Во славу Диониса… – с этими словами худощавый, в ком читатель, надеюсь, узнал понтийского поэта Мирина, приложился к горловине бурдючка и, нимало не смущаясь сидящей рядом посольской свиты, пропустил такой богатырский глоток, что толстяк – а это, конечно же, был грамматик Тиранион – даже крякнул от неожиданно обуявшей его жадности.
В состав посольства они попали случайно, вместо молодого, но уже достаточно известного философа Метродора, заболевшего как раз накануне отплытия в Пантикапей. Конечно, ни Мирин, ни Тиранион не питали пристрастий к дипломатической службе, но удущающая живую мысль атмосфера всеобщей подозрительности, воцарившая вместе с Лаодикой в столице Понта, надоела им до такой степени, что они были готовы отправиться куда угодно, лишь бы подальше от злобствующих интриганов и льстецов, окружающих царицу и уничтожающих неугодных и инакомыслящих. Вакансия в посольской свите была только одна, но пронырливый Тиранион сумел подкупить кого-то из чиновников, и послу, насквозь трухлявому персу, которого держали при дворе только из-за его угодливой преданности Лаодике, пришлось смириться со свершившимся умножением будущих подчиненных. О чем ему довелось горько пожалеть, едва триера покинул синопскую гавань – весьма общительный Тиранион до такой степени напоил посольскую свиту, что дипломатов качало еще сутки после прибытия в Пантикапей.
– Тиранион, а ты, случаем, не прихватил и чего-нибудь съестного? – лукаво глядя на своего друга, спросил Мирин.
– У-у… – простонал от досады грамматик, с закрытыми глазами прильнувший к бурдючку. – Ах, не трави душу… – он с видимым сожалением взвесил в руках полупустой кожаный сосуд и бережно закрыл его пробкой. – Там подавали, если ты помнишь, запеченных в тесте великолепных гусей, а это моя слабость… Увы, мой друг, на нас были такие легкие одежды, что и с бурдючком возникли определенные трудности. Но это дело поправимое. Эй, любезнейший! – позвал Тиранион разбитного малого, разносившего сладости и орешки. – Поди сюда. Нет-нет, сие нам не угодно, – решительно отверг он предложенные деликатесы. – Принеси что-либо посущественней. Только одна нога здесь, другая там!
Тем временем под сенью балдахина появился и Перисад со своей свитой. Судя по раскрасневшимся щекам, он уже успел отдать немалую дань богу виноделия и теперь находился в том блаженном состоянии, когда человека умиляет даже крохотная невзрачная букашка, ползающая по руке. Рядом сидела и Камасария Филотекна; возле нее угодливо согнулся ее неразлучный слуга евнух Амфи-тион. Сегодня он принарядился, одев приличествующую мужскому полу одежду, богато затканную золотой нитью.
Солнце уже давно пересекло полуденную черту, и на западную трибуну легли голубые тени. Повинуясь милостивому царскому кивку, распорядитель скачек поднял руку и под варварскую музыку, исторгаемую рожками, авлосами и тимпанами, на поле гипподрома выехали участники соревнований. Напуганные шумом и многолюдьем жеребцы становились на дыбы, ржали и лягались, а восхищенные отменными статями огненноглазых красавцев пантикапейцы хлопали в ладони и бросали удалым наездникам серебрянные оболы, которые всадники с удивительной ловкостью ловили на лету.
Впрочем, не обошлось и без происшествий. Один из наездников, пытаясь поймать сразу две монеты, свалился с коня, да так неудачно, что сломал руку. Его быстро увели за трибуны, и парад продолжался.
Великолепное зрелище! В те далекие времена лошади ценились очень высоко, а чистокровные красавцы, попирающие копытами скаковое поле гипподрома, подчас составляли целое состояние. Только знать и богатые купцы могли позволить себе подобную роскошь. Коней привозили в основном из Мидии и Парфии, они отличались быстротой и выносливостью, а от этих качеств нередко зависела жизнь воина. Были представлены здесь и полукровки, помесь лошадей скифов и благородной нисейской породы, но искушенные зрители внимания на них почти не обращали – эти скакуны никогда не выигрывали состязаний, а потому и обсуждать их достоинства считалось пустой тратой времени.
Однако, перенесемся в конюшни гипподрома, где шла подготовка к выездке дикарей, совсем недавно пригнанных меотами в подарок царю Перисаду. Запертые в тесные стойла, эти дети вольных степей не подпускали к себе даже конюхов, поднаторевших в своем ремесле. Мохноногие, широкогрудые, с длинными гривами, они кусались, как хищные звери, и с ржанием, больше похожим на рев медведя-шатуна, бросались на жерди загонов, разбивая их острыми копытами в щепу.
Гиппотоксоты (среди них был и Савмак) с некоторым смущением обменивались мнениями – таких звероподобных жеребцов и объезжать им не приходилось. Похоже, лошади росли в вольных табунах и еще не видели человека.
Савмак присмотрел себе саврасого жеребца, неистовавшего больше остальных. Судя по повадкам, это был вожак табуна. И по росту и по статям он превосходил остальных диких лошадей. Юноше было известно условие предстоящего укрощения – тот, кто останется в седле, получает коня в подарок. А на этом жеребце можно уйти от любой погони…
Неожиданно раздался чей-то раздраженный голос, и на пороге конюшни появился распорядитель скачек, высокий седобородый фракиец.
– …Клянусь Сабазием, этот купец удивительный нахал! – распорядитель был взбешен. – Он осмелился обвинить нас в том, что ему подсунули неопытного наездника. Гром и молния! Будто ему не известно, что наездников выбирают по жребию.
– Да, это так, – соглашался с ним его помощник, судя по говору, тавр. – Но не всегда и не всех… – осторожно добавил он, избегая встречаться взглядом со своим начальником.
– И ты туда же! – возмутился распорядитель. – Уж не собирается ли этот купчишка поставить себя на одну скамью с высокорожденными? – спросил он язвительно.
– Ты, как всегда, прав… – смиренно пробормотал тавр и со злобой посмотрел на спину фракийца.
– То-то… – надменно вскинув голову, распорядитель подошел к гиппотоксотам. – Мне нужен кто-нибудь из вас, чтобы заменить получившего травму наездника. Да побыстрее думайте, провалится вам в Тартар! У нас мало времени.
Гиппотоксоты переглянулись и потупились: выдержать скачки и объездку было чрезвычайно трудно. Тем более, что наезднику – конечно, если он не победитель – полагалось лишь скромное угощение и несколько оболов, а укротителя в случае удачи ждал поистине царский приз – великолепный конь.
– Собачьи дети… – плюнул разъяренный распорядитель. – Я предполагал нечто подобное. Ладно, тогда я сам назначу. Ты! – ткнул он пальцем в грудь Савмаку, стоявшему ближе всех. – И не вздумай упрямиться, – добавил с угрозой.
– Слушаюсь и повинуюсь, – спокойно ответил Савмак и под сочувственными взглядами товарищей направился к выходу.
Его охватило странное возбуждение. Что-то неподвластное ни уму, ни рассудку вдруг овладело всем естеством юноши, и он почувствовал, как забурлила кровь в жилах, а мышцы налились богатырской силой. Высоко подняв голову, с горящим глазами, он шел за распорядителем с поистине царским величием. Зов предков, гордых воителей-пилофириков, гремел как большой тимпан в сознании Савмака; предчувствие чего-то необычного, возможно, опасного, разбудило в юноше вековые инстинкты свободнорожденного дикаря-кочевника, охотника за скальпами, вышедшего на военную тропу…
Конь оказался полукровкой. Невысокий в холке, тяжеловатый с виду, он, тем не менее, обладал удивительно упругими трепетными мускулами. Савмак хорошо знал достоинства и недостатки таких скакунов – они медленно набирали ход, что в условиях ограниченного пространства гипподрома было весьма скверным обстоятельством, не позволяющим рассчитывать на успех; зато в длинном беге им не было равных, но большая скученность вырвавшихся на первые позиции чистопородных коней мешала обойти их и победить.
Потрепав буланого полукровку за коротко подстриженную гриву, Савмак достал лепешку с солью и протянул скакуну. С благодарностью скосив на юношу опаловый глаз, жеребец ласково прикоснулся к ладони бархатистыми губами и неторопливо, с достоинством, сжевал лакомое угощение. Теперь Савмак был уверен, что между ними установилась та невидимая связь, без которой любой уважающий свое ремесло наездник не в состоянии слиться с конем в единое целое, чтобы достичь даже невозможного.
А на трибунах все шло своим чередом: потные, разгоряченные разносчики вина не успевали выполнять заказы жаждущих зрителей, самые рисковые из пантикапейцев, верящие в провидение и свою удачу, делали ставки на приглянувшихся скакунов, нередко выражающиеся в приличных суммах, степенные матроны жаловались на жару и судачили, перемывая косточки царю и дворцовой знати, а сам Перисад с вожделением высматривал себе очередную пассию. Зная его слабость к женскому полу, пантикапейские гетеры старались занять места поближе к царскому балдахину и козыряли каждая на свой манер: кто звонкоголосым чарующим смехом, кто грациозными движениями поправляя замысловатые прически, а некоторые, постарше и поопытнее товарок, бросали на повелителя Боспора томные, многообещающие взгляды, заставлявшие царя вздрагивать, как застояв-шегося жеребца-производителя.
– По поводу чревоугодия, мой друг, мы с тобой спорили неоднократно, – Тиранион с видимым удовольствием уплетал за обе щеки нанизанных на прут перепелов. – Откушай, – протянул он зажаренную дичь Мирину. – Ибо нам еще долго придется тереть эти жесткие скамьи в ожидании конца праздника. А чем нас угостят вечером, трудно сказать. Надеюсь, в Пантикапее спартанские обычаи не в моде, потому что черствые ячменные лепешки и скверное боспорское вино на ночь меня вовсе не воодушевляют.
– Удивительно, но сегодня я с тобой согласен, – Мирин последовал примеру приятеля, несмотря на неодобрительные взгляды чопорных служивых из посольской братии; впрочем, возможно они просто завидовали. – Видимо, в Таврике какой-то необычный воздух, возбуждающий зверский аппетит. Теперь я могу поверить рассказам путешественников, утверждавших, что степной номад может за один присест слопать целого кабана.
– Хотел бы я с ним посоревноваться, – мечтательно вздохнул грамматик. – Но чтобы обязательно было хорошее вино, пусть даже, согласно скифскому обычаю, и не разбавленное водой.
– Надеюсь, возможность воочию увидеть это прелюбопытнейшее зрелище мне не представится, – поэт изобразил испуг. – Дело в том, что тебе терять нечего, – и он со смехом показал на лысину толстяка, – а мой скальп, – Мирин дернул себя за густые ухоженные волосы, – пока еще мне не надоел.
– Начинается! – вскричал Тиранион, от возбуждения едва не уронив перепелов на доски помоста. – Смотри, сейчас распорядитель подаст знак и…
Его голос тут же растворился в невообразимом реве, пронесшемся над гипподромом, – глухо ухнул большой тимпан, и всадники, горяча коней, вихрем сорвались со старта.
– Мирин! – пытаясь перекричать неистовствующих почитателей одного из древнейших видов состязаний, Тиранион едва не ткнулся в ухо поэта. – А ведь мы с тобой не поставили ни на одну лошадь. Это неинтересно.
– Согласен! – неожиданно принял его предложение Мирин. – Выбирай, только поскорее.
– О, боги, ну и задачка… – грамматик с расширившимися от возбуждения глазами смотрел на скакунов. – Вон тот, вороной.
– Великолепный конь, – поэт напряженно размышлял. – А я, пожалуй… да, именно! Рискну! Выбираю буланого.
– Сколько ставишь?
– Пять ауреусов.
– Ого! Я, конечно, принимаю твои условия… – Тиранион саркастически ухмыльнулся. – Но, мой любезный друг, мне кажется, твой выбор несколько странен. Я не предполагал, что ты так плохо разбираешься в лошадях. Этот буланый – полукровка. Даже сам Аполлон на таком одре вряд ли придет первым. Но я готов чуток подождать, пока ты не изменишь решение. Понимаешь, мне будет стыдно воспользоваться твоей неосведомленностью в подобных делах.
– Этот, и никакой иной, – Мирин упрямо боднул головой.
– Как знаешь… – вздохнул с напускным смирением грамматик, втайне радуясь – упрямство Мирина вошло в поговорку среди понтийских мыслителей и поэтов, и Тиранион, достаточно хорошо зная характер друга, своим предложением только подбросил дров в огонь; теперь он был совершенно уверен, что пять ауреусов вскоре зазвенят в его кошельке.
Уже на втором круге чистокровные мидийские жеребцы доказали свое преимущество. Их тонкие, стройные ноги мелькали с такой скоростью, что рябило в глазах. Парфянские скакуны держались несколько сзади – их время должно было наступить чуть позже, когда пройдет первый запал, и начнется игра нервов и мастерства наездников. Кони Парфии обладали удивительным свойством – они были «думающими». Главное для седоков заключалось в том, чтобы не мешать им выбрать наиболее удобную позицию для решающего рывка; дальнейший путь они просчитывали с изумительной точностью, как самые выдающиеся математики древности.
А что же полукровки? Они отстали на четверть круга, и зрители даже не обращали на них внимания – там было все известно заранее. Их богатые хозяева-купцы потрясали полными кошельками, будущей наградой победителю, стараясь таким образом воодушевить и подстегнуть наездников, но те, раздосадованные неудачным жребием, заведомо лишившим их даже малейшей возможности, как им казалось, надеяться на победу, были совершенно равнодушны к этим посулам и теперь лелеяли надежду только сократить расстояние с основной группой.
Один Савмак был хладнокровен и уверен в силе и скорости своего жеребца. Он каждой частицей тела ощущал, как постепенно разогреваются железные мышцы коня, как его широкая грудь все больше и больше захватывает напоенного пылью воздуха, и кровь мощными толчками пульсирует в жилах, питая энергией неутомимые ноги. Склонившись к шее жеребца, Савмак шептал ему какие-то нежные слова на родном языке, и животное, чьи предки носили на спине не одно поколение скифов, будто понимало этот удивительный монолог, все прибавляя и прибавляя в искрометном стелющемся беге.
На десятом круге наконец показали свои способности и парфянские жеребцы. Сначала один, игреневый красавец из конюшни царя Перисада, каким-то чудом проскользнул в неширокую щель между крупами двух хрипящих от натуги мидийцев и возглавил забег, а затем и второй, вороной в белых чулках, надежда его владельца спирарха Гаттиона, протаранив скопище впереди, пристроился к нему в хвост. На царской трибуне раздались ликующие крики, и Перисад не замедлил поднять чашу во здравие Матери Кибелы.
– Удивительное невезение… – с напускным смирением ханженским голосом сказал Тиранион, обращаясь к Мирину, не отрываясь смотревшему на скаковое по– ле. – Лучше бы я выбрал игреневого. Вороной, спору нет, хорош, но наездник на нем никчемный.
– Тебе поговорить не о чем? – едва сдерживая рвущийся наружу азарт ответил Мирин, и неожиданно быстрым движением отобрал у грамматика бурдючок с остатками вина. – Жди и надейся, лицемер… – с этими словами он осушил кожаный сосуд и небрежно ткнул его в руки оцепеневшего приятеля.
Потерявший дар речи Тиранион с горестным мычанием уронил пустое вместилище драгоценной влаги под ноги и обратил свой страдальческий взор на скаковое поле.
А там происходили события совершенно невероятные с точки зрения рассудительных и практичных пантикапейцев: в группу возглавляющих гонку чистопородных жеребцов вклинился буланый полукровка; его хозяином был небогатый купец Аполлоний, известный жмот и сквалыга. Он сидел неподалеку от понтийских послов, в безумной надежде на удачу сжимая в пухлых ладонях варварский оберег – крохотную бронзовую фигурку скифского бога Гойтосира, покровителя стрел и всадников. Буланого ему уступил по сходной цене номарх царя Скилура, для которого Аполлоний привез в Неаполис дорогой эллинский панцирь, шлем и кнемиды. Этот конь стал среди богатых людей Пантикапея притчей воязыцех: жадный Аполлоний запросил за него такие деньги, что на них можно было купить двух чистокровных жеребцов. Желающих заплатить не нашлось, а купец стал посмешищем, и его собратья по торговому ремеслу обычно приводили своим подмастерьям и ученикам этот случай как пример человеческой благоглупости и неумения вести дела.
Савмак почувствовал, что его начинают оттеснять. Буланый пока шел в средине группы и, казалось, не представлял серьезной опасности для будущих победителей – просто нечаянный каприз богов, как считали зрители; еще чуток, и все станет на свои места: дерзкого полукровку загонят в хвост, а ленты и венки достанутся баснословно дорогим мидийским или парфянским скакунам. Но наездники, люди весьма опытные и поднаторевшие в своем деле, достаточно хорошо знали достоинства и недостатки полукровок, а потому встревожились гораздо раньше, нежели самые искушенные знатоки конных состязаний, поставивших немалые деньги на привозных красавцев. И еще одно обстоятельство, отнюдь немаловажное, смутило и обозлило наездников – Савмак был в их среде чужой.
Хлесткий щелчок нагайкой по ноздрям буланого, сильный, жестокий и подлый, заставил жеребца отпрянуть в сторону. Но на этот раз Савмаку просто повезло – буланый, видимо, обученный, как боевой конь, вместо того, чтобы, как предполагал ударивший наездник в зеленых одеждах, сбиться с галопа, неожиданно рванул вперед и с диким ржанием вцепился зубами в бок его скакуна. Опешивший наездник не смог совладать с поводьями, и ослепленный внезапной болью мидиец врезался в скачущую рядом лошадь. Через какое-то мгновение на поле гипподрома царило столпотворение: наткнувшись на препятствие, жеребцы вставали на дыбы, лягались, кое-кто из наездников оказался под копытами, а один конь, потеряв ориентацию, врезался в проскений.
Крики возмущения и разочарования казалось обрушат трибуны: большинство жеребцов толклись в куче мале, а значит, надежды многих зрителей на победу любимцев стали призрачными.
Теперь впереди шли четыре коня: игреневый царя Перисада, вороной спирарха Гаттиона и еще два парфянских жеребца, наездники которых щеголяли в красных и черных одеждах, расшитых золотой нитью. Один из коней принадлежал наместнику Хрисалиску, а второй, с седоком в черном плаще, был собственностью некоего тайного лица, не пожелавшего объявить свое имя. Буланый Аполлония чуть приотстал, и бедный купец в полный голос стенал, обращая лихорадочно блестевшие глаза в небо – теперь он призывал в помощники и всех богов олимпийских, не надеясь только на одного Гойтосира.
– О, превеликая и могущественная богиня Ма! Прости, что я до сих пор в тебя не верил, но, клянусь остатками своих волос, если вороной победит, принесу тебе богатые жертвы… и стану твоим преданнейшим почитателем, – последнюю фразу Тиранион произнес значительно тише и не очень уверенно.
– Я бы на твоем месте поставил на Диониса, – насмешливо сказал Мирин. – Его благосклонность к тебе не подлежит никаким сомнениям.
– Ты как считаешь? – озадаченно нахмурился грамматик. – О, боги, я умираю от жажды… – он с осуждением взглянул на приятеля, но тот сделал вид, что не услышал. – Эй, ты, сын блудливого фавна! – раздраженно позвал он разносчика вина. – Налей, что там у тебя есть. Как, за эту отвратительную кислятину два обола?! Бери один, и сгинь, пока я окончательно не разозлился, – Тиранион осушил чашу и с омерзением вернул ее испуганному вольноотпущеннику. – Фу, экая дрянь… Мирин, если я сегодня помру от несварения желудка, прошу – похорони меня в Синопе и положи в могилу амфору книдского или родосского.
– Исполню, – с напускной торжественностью поэт приложил правицу к груди. – Конечно, сие действо обойдется мне не дешево… но на какие только жертвы не пойдешь ради друга. Смотри! – вдруг вскричал он, больно толкнув локтем под бок грамматика. – Что творится, что творится…
Парфянский жеребец Гаттиона поравнялся с игреневым мидийцем. Наездник царского скакуна уже торжествовавший в душе, считая себя победителем, и мысленно прикидывавший, какими милостями осыплет его Перисад, невольно скосил глаза – и засуетился. Вместо того, чтобы предоставить мидийцу самому разобраться с соперником из Парфии, он потянул повод вправо, чтобы идти по бровке малого круга. И перестарался – вместо хорошо утоптанного скакового поля копыта игреневого взрыхлили плохо утрамбованную известняковую крошку вперемешку с песком; скорость жеребца упала, и обычно невозмутимый Гаттион не удержавшись, вскричал от радости, забыв на миг, что неподалеку сидит сам царь – конь спирарха вырвался вперед и черной молнией вспарывал густо настоянный на запахах пыли и лошадиного пота воздух.
Юный скиф не торопился. По тому, как судорожно вздымались и опускались бока скакуна, принадлежавшего Хрисалиску, он определил, что этот конь буланому не соперник. Похоже, его выезжали на короткий бег, и теперь ему не хватало выносливости.
Царский конь, на взгляд человека мало сведущего, был прекрасен, но Савмак и здесь увидел изъян: игреневый сильно потел, а это могло означать только одно – перед скачками жеребца напоили для большей резвости водой с настоем целебных трав и медом, и теперь чрезмерная старательность конюхов проступала мыльной пеной на великолепной груди мидийца.
Оставались вороной спирарха и серебристо-серый неизвестного хозяина. Оба благородных кровей, хорошо выезженные и подготовленные к скачкам, они, казалось, не знали устали. Под стать им были и наездники: один миксэллин, с младых ногтей занимающийся выездкой, а второй, на сером красавце, судя по раскосым глазам и смуглому лицу – меот, сын бескрайних степей, табунщик, конь которого мог, как собака, свободно заходить в шатер и пользовался бульшими правами, нежели жена и любимая наложница.
Но Савмак, несмотря на юные годы, был на удивление терпелив и проницателен. Он умел ждать…
– Мне кажется, я не доживу до конца скачек, – простонал грамматик, смахивая с лица обильный пот. – Этот гиппотоксот на твоем буланом меня доконает.
В этот самый момент Савмак неожиданно для всех резко взял вправо, направив коня на большой круг. Впрочем, его решение было загадкой только для непосвященных в тонкости подобных соревнований – до конца забега оставалось всего пять стадиев и буланому нужен был простор.
– Зачем?! – стукнул себя кулаком по колену Мирин. – Эх…
Он хотел еще что-то добавить, видимо, не очень лестное для наездника буланого, да так и остался с открытым ртом – конь Аполлония, завидев свободное пространство, казалось, обрел крылья.
Гипподром вдруг затих. Никто не мог поверить своим глазам – неизвестный наездник-гиппотоксот на буланом полукровке словно вихрь промчался по прямому отрезку скакового поля и на повороте легко обошел признанных фаворитов…
Савмак летел, как в тумане. Убегающая из-под ног скакуна дорожка гипподрома слилась с небом, будто оно опустилось и легло под копыта буланого. Соперники были позади, но о них юный царевич уже не думал. Впереди сверкал солнечным диском огромный гонг и зеленели листья венков.
Победитель закончил скачку в полной тишине. И только когда Савмак остановил буланого перед царским балдахином и поклонился совершенно отрезвевшему от перипетий захватывающего зрелища Перисаду, гипподром обезумел – вопль, достойный великанов-лестригонов, вырвался из деревянной чаши и упал на тихие спокойные воды гавани.
Среди этого бедлама тонкий вскрик обрюзгшего толстяка был похож на комариный писк – Аполлоний не выдержал нежданной радости и упал в обморок.
ГЛАВА 7
Ззачем только я так стремился в эти богомерзкие места? – брюзжал Тиранион, со страдальческим видом посматривая на кошелек приятеля, отягощенный проигрышем грамматика – пятью полновесными золотыми ауреусами. – Похоже, только для того, чтобы окончательно испортить желудок и получить сердечный приступ.
– Не огорчайся, мой друг, в жизни все преходяще, – с фальшивым сочувствием утешал его поэт, еще не веря в свою удачу. – Я, конечно, могу вернуть тебе эти деньги, – тут он заметил, как жадно блеснули глаза грамматика и поспешил добавить: – Но разве в них счастье? Посмотри на купца, чей конь пришел первым. Воистину, жадность может погубить человека.
Бедного Аполлония, похоже, от переживаний хватил удар, и получать награду из рук царя его понесли на носилках два дюжих стражника.
– Иногда мне кажется, – между тем продолжал Мирин, – что лучше быть простым рыбаком, у которого все богатство – это лодка и дырявые сети. Ему терять нечего, а значит, и совесть его незамутненна и чиста, как горный снег. Свежая лепешка, глоток вина, чистая постель и заботливая жена – вот все, что нужно мужчине. Тогда его век будет долог, и никакие заботы не омрачат чело, не проложат на нем морщин. Терзания скопидома над грудой нетленного металла достойно сожаления и порицания – ни за какие деньги не купишь вечную юность, уважение сограждан и не отягощенную преступлениями душу.
– Я всегда подозревал, что в тебе таится великий философ, – с сарказмом сказал безутешный Тиранион. – И особенно это свойство к отвлеченным от действительности рассуждениям проявляется, когда ты с удивительной легкостью и беспечностью прощаешь свои долги или угощаешься за чужой счет, – он поднял беспризорный бурдючок и вызывающе потряс им перед носом поэта.
– Фи, как грубо… – поморщился Мирин и примиряюще потрепал приятеля по плечу. – Намек мне понятен, но стоит ли из-за таких пустяков ломать копья? Даю слово, что твои пять ауреусов послужат благому делу.
– Надеюсь, ты не передашь их казне какого-нибудь храма? – встревожился грамматик.
– Моя вера в богов зиждится на полном бескорыстии, – напыщенно произнес поэт. – Мы оставим деньги в какой-нибудь харчевне, где и совершим возлияния во славу любого из предложенных тобой небожителей.
– Согласен, но только если там подают отменное вино, – облегченно вздохнув, ответил ему Тиранион.
– Твоя твердость и постоянство в этом вопросе достойны всяческих похвал, – рассмеялся поэт.
Оставим наших общих знакомых пикироваться, сколько их душам угодно, и проследуем за помощником распорядителя соревнований в конюшни. Угодливо изгибаясь и неестественно хихикая, тавр сопровождал двух девушек; одна из них поражала неземной красотой. Ее мраморное личико еще не знало мазей и притираний, тугие и свежие, как только что сорванное с ветки яблоко, ланиты светились нежным румянцем, а полные, чувственные губы блестели влажным, зовущим кармином. Судя по одежде и украшениям, она была из богатой семьи, но живые черные глаза красавицы и отсутствие даже намека на присущую аристократкам чопорность предполагали острый, незаурядный ум, образовнность и любознательность, характерные качества самых выдающихся гетер древнего мира. Впрочем, ее общественное положение таковым и являлось – это была достаточно известная в Пантикапее жрица свободной любви Ксено. За нею шла служанка, стройная светловолосая фракийка по имени Анея.
Тем временем на подмостках проскения разворчивалось театральное действо. Ставили комедию Аристофана «Лисистрата». Но, увы, события двухвековой давности мало волновали взбудораженных скачками зрителей. Они, все еще обсуждали захватывающее зрелище, закончившееся победой – что и вовсе невероятно! – буланого-полукровки какого-то купчишки Аполлония. Имя наезд-ника-гиппотоксота было у всех на слуху – Савмак. Царь, огорченный поражением игреневого, все же – надо отдать ему должное – оказался на высоте положения; выдал награды, ленты победителей и венки с отеческой улыбкой и добрыми словами. Смущенный Савмак тут же поторопился на конюшню, где его ждал необъезженный дикарь, а на потерявшего способность что-либо соображать и даже внятно говорить Аполлония посыпались предложения о продаже буланого. За него теперь давали такие суммы, что у купца и вовсе голова пошла кругом.
Однако войдем вместе с красавицей Ксено в конюшню. Там царило обычное после скачек оживление: благородных жеребцов кутали как малых детей в попоны, уставшие наездники бесцельно слонялись из угла в угол – мысленно они были еще на скаковом поле и пытались осмыслить свои ошибки, – а гиппотоксоты шумно поздравляли Савмака с победой. Немногословный юноша, пунцовый, как мак, не знал, куда деваться, и когда в конюшне появилась блистательная Ксено, он вздохнул с облегчением и поторопился отойти подальше от своих товарищей, набросившихся на красавицу, словно мухи на мед.
Но Ксено, достаточно холодно отвечая на приветствия, направилась к наезднику в черном плаще, скакавшему на серебристо-сером жеребце. При виде прекрасного личика он вздрогнул, будто его огрели нагайкой, и склонил голову, как провинившийся мальчуган.
– Странно, – сказала она, обращаясь к Анее. – Странно, что я до сих пор не замечала в этом человеке откровенного угодничества и отсутствия ума, – Ксено рассматривала наездника с брезгливым сочувствием, будто перед ней было отвратительное насекомое с оторванной конечностью. – Проиграть скачки на таком великолепном коне – это нужно уметь.
– Но, госпожа… – жалобно простонал наездник.
– Я исправлю свою ошибку, – красавица надменно вздернула чернокудрую головку. – С этих пор в твоих услугах я не нуждаюсь. Анея, распорядись, чтобы конюхи забрали коня, а он пусть идет на все четыре стороны. Одежду пусть оставит себе – мне эти испоганенные обноски ни к чему. Только в страшном сне можно представить, что кто-либо из моих наездников когда-нибудь наденет ее… бр-р!
Наездник, смазливый малый с глубоко посаженными хищными глазами, хотел что-то сказать в свое оправдание, но, встретив непреклонный взгляд Ксено, в этот миг похожую на разъяренную пантеру, безнадежно склонил голову и побрел, пошатываясь, как пьяный, к выходу.
Удивительно, но сочувствия отверженный у наблюдавших достаточно жестокий поступок красавицы не вызвал – все смотрели на нее с немым обожанием и восхищением. Однако ее карие глаза остались холодны и равнодушны к этим знакам внимания – поклонников у капризной прелестницы было великое множество. Правда, никто из них, даже самые знатные и богатые, не могли похвастаться мужской победой над своенравной Ксено, одинаково любезной со всеми; она властвовала, царила, смущала умы своей образованностью и остроумием – но не более.
Изгнав неудачника, Ксено, тем не менее, уходить не спешила. Ее взгляд блуждал по лицам наездников и гиппотоксотов, явно кого-то выискивая. Наконец она приметила в дальнем углу Савмака – в этот момент он пытался ублажить саврасого разнообразными лакомствами, от пучка свежескошеной сочной травы до душистой лепешки с солью. Но вожак был непреклонен; устав от бесплодных попыток разметать жерди стойла, он в ответ на ласковые слова Савмака скалил зубы и с яростным хрипом пытался укусить юношу.
Ксено решительно направилась к Савмаку. Он заметил ее только тогда, когда она подошла вплотную. Глянув исподлобья на красавицу, юноша коротко поклонился и занялся замысловатой упряжью, предназначенной для укрощения диких коней.
– Прими мои поздравления, – с обворожительной улыбкой кротко сказала Ксено. – Я восхищена.
– Спасибо, госпожа… – с трудом выговорил Савмак, чувствуя, как бешенно заколотилось сердце – голос красавицы был чист и мелодичен, будто журчанье горного ручья.
– Я хочу, чтобы ты служил у меня, – без обиняков предложила Ксено, явно не предполагая отказ. – Стол, одежда и плата в десять раз больше, чем ты получаешь сейчас.
– Премного благодарен, – вежливо поклонился Савмак. – Но я на воинской службе, у меня договор.
– Ах, какие преграды – договор… – насмешливо улыбнулась девушка. – Если ты согласен, уже завтра покинешь казармы, чтобы никогда туда не возвращаться. По рукам?
– Госпожа, я гиппотоксот, – Савмак выпрямился и строго посмотрел на Ксено. – Негоже воину уподобляться изнеженным сибаритам даже ради больших денег. Нет.
– О боги, что он говорит? – красавица опешила. – Ты… отказываешься?!
– Не сочти меня невежливым, но я всего лишь простой воин. Думаю, что ты найдешь себе наездника гораздо лучше, чем я. Сегодняшняя победа – просто счастливый случай.
– Анея, что я слышу? – Ксено была возмущена до глубины души. – Он посмел мне отказать. Мне! – она высокомерно взглянула на Савмака и поморщилась. – Фу, от этого варвара несет псиной. Пошли. Большего унижения мне еще не довелось испытать. И от кого?!
Одарив благосклонной улыбкой наездников и гиппотоксотов, изумленных невероятной с их точки зрения глупостью юноши, красавица с царственным величием пошла к выходу. Хмурый Савмак, задетый последними словами девушки за живое, снова вернулся к своему занятию, не обращая внимания на галдеж, поднявшийся с уходом Ксено. В его душе бурлил гнев. Он ненавидел эту бесцеремонную красавицу. И теперь все колебания и сомнения были отброшены – он должен бежать из Пантикапея как можно быстрее, пусть даже это будет стоить ему жизни…
– Жизнь прекрасна… если, конечно, хорошо к ней присмотреться, – философствовал с набитым ртом Тиранион; теперь ему принесли лепешки с медом и кувшин выдержанного вина; уже где его сыскал быстроногий вольноотпущенник-разносчик, трудно было сказать, но по угодливо-восторженным взглядам, которые он бросал на грамматика, становилось ясно, что для синопского гостя, если только тот прикажет, он готов достать божест-венный нектар.
– Самое удивительное, но сегодня я с тобой согласен, – отвечал ему в тон благодушествующий поэт. – Можешь мне не поверить, но когда я ставил на буланого, то вовсе не верил в его победу. Просто каприз, шутка, назовем этот порыв как угодно.
– Если в следующий раз ты надумаешь так шутить, то, будь добр, предупреди меня заранее, – проворчал Тиранион.
– Но в этом и заключается, любезный друг, вся прелесть жизни! – воскликнул Мирин. – Все наше существование – игра в кости. Чет, нечет, у кого больше. Комбинации бывают самые невероятные, а выигрыш редко достается самому умному и достойному.
– Судьба… – проглотив очередной кусок, ответил грамматик и потянулся за чашей.
– Не путай судьбу с удачей. Фортуна – это предначертанное и незыблемое. А вот удача сродни узелкам, случайно получающимся на пряже Клото. Я не сомневаюсь, что это просто проказы богини Тихе[284]. Так сказать, для разнообразия, чтобы жизнь не показалась пресной и ненужной. Все игра, игра, мой друг. И мы даже не актеры, а бусины, нанизанные на нить судьбы и вообразившие, что без них шея, ну, никак не может существовать.
– Умно, но бездоказательно, – Тиранион с сожалением посмотрел на пустой кувшин. – Я готов с тобой спорить… но не сегодня, – он с довольным видом похлопал себя по животу. – Когда я сыт, мне плевать на любые мудрствования, ибо мое чрево не переносит длинных речей и излишне резких телодвижений. И знаешь, я готов выдержать любое количество узелков, напутанных Тихе, пусть даже от этого нить Клото окажется короче вдвое. Видишь ли, я не аскет, и длинная, но голодная и тягостная жизнь меня вовсе не прельщает.
– Я так и знал, что ты это скажешь, – смеясь, Мирин развел руками. – Ладно, оставим споры и посмотрим на что способны лучшие пантикапейские гиппотоксоты…
Актеры еще сворачивали свой реквизит, а на скаковое поле уже вывели первого из коней, свирепого лохматого дикаря, храпящего и брыкающегося. Его удерживали на арканах шесть конюхов. Укротитель, широкоплечий угрюмый гиппотоксот, не спеша поднялся на невысокий помост и, бормоча слова молитвы неизвестно каким богам, прыгнул на спину жеребца, которого с трудом подвели к этому столь необходимому в объездке приспособлению. Конюхи разом сдернули петли арканов, и конь, закусив удила, вихрем помчал по скаковому полю. Впрочем, бежал он недолго: у первого поворота жеребец неожиданно резко остановился и только завидная цепкость и самообладание спасли гиппотоксота от падения через голову коня.
Но следующий ход в этом поединке был для наездника совершенно неожиданным – конь встал на дыбы, и когда гиппотоксот для равновесия, чтобы он не опрокинулся на спину, лег жеребцу на шею, дикарь вдруг с силой мотнул головой и повалился на бок. Наездник покатился по земле, как спелая груша. Освободившийся от необычной ноши, конь, вместо того, чтобы ускакать куда подальше, вскочил на ноги и бросился на обеспамятевшего наездника, норовя зашибить его копытами, как он, видимо, не раз поступал с волками в степных просторах. Только самоотверженность конюхов, верхом на лошадях сопровождавших чуть поодаль гиппотоксота-неудачника, спасла ему жизнь: в воздухе зазмеились арканы, и дикарь, остановленный на бегу жесткой удавкой, хрипя и пенясь от бессильной злобы, вновь завалился на известняковую крошку скакового поля.
Второго, третьего и четвертого укротителей постигла та же участь, что и первого гиппотоксота. С одной лишь разницей – все трое, похоже, просто испугались. Не дожидаясь печального конца, они торопились спрыгнуть с коней раньше, чем те успевали опомниться и освоиться с необычным шумом гипподрома, чтобы приняться за наездников всерьез. На трибунах стоял возмущенный гул, многие свистели и швыряли в струсивших укротителей объедками и презренной медной монетой, подаваемой только нищим и бездомным. А царь Перисад сидел мрачнее грозовой тучи. Сегодня явно был несчастливый для него день, и даже бабка, Камасария Филотекна, старалась не замечать, сколько он осушил чаш крепкого вина, а тем более, не пыталась его остановить – в гневе, что, впрочем случалось редко, внук сметал все со своего пути, как разъяренный бык.
В конюшне царило уныние. Оставшиеся наездники наотрез отказывались испытать судьбу и выставлять себя на посмешище. Звероподобные дикари явно были им не по зубам, что они и не преминули заявить вовсе потерявшему голову распорядителю скачек, уже мысленно представлявшему, какие громы и молнии обрушит на его голову начальство. Поминая недобрыми словами злокозненных меотов, невесть в каких краях откопавших этих коней, он вымещал злость на помощнике. Тавр отмалчивался, но по нему было видно, что еще немного, и он просто удавит надменного и бесцеремонного фракийца.
– Готовьте саврасого, – неожиданно прозвучал среди всеобщего галдежа спокойный голос Савмака.
– Ты что, юнец, рехнулся?! – вскричали едва не в один голос наездники-гиппотоксоты. – Он убъет тебя. Этот зверь почище тех, что были первыми.
– Тихо! Тихо! – заслонил юношу приободрившийся фракиец. – Он знает, что делает. Если ты продержишься на нем хотя бы один круг, клянусь, он твой, – сказал распорядитель скачек, обращаясь к Савмаку. – Прошу, не посрами… – добавил уже жалобным голосом, что было на него совершенно не похоже.
Савмак только кивнул в ответ и под неодобрительные шепотки укротителей вышел из конюшни.
Гипподром забушевал – Савмака узнали. Ксено, так и не успокоившаяся после разговора с юным скифом, процедила сквозь зубы, обращаясь к одному из своих поклонников, знатному, но недалекому аристократу, сыну Пантикапейского стратега:
– Как бы я хотела, чтобы этого вонючего номада конь растолок в лепешку.
– Ты несправедлива к нему, Ксено, – недоумевающе поднял тонкие подбритые брови поклонник. – Юноша весьма приятной внешности, я бы сказал, даже красив. И одежда на нем вполне… Кстати, и манеры у него достаточно приличные.
– Ах, замолчи! – гневно вскричала красавица, с напряженным вниманием наблюдая за конюхами, выводившими в это время саврасого на поле. – Этот конь то, что нужно… – мстительно пробормотала она, заметив каких усилий стоило дюжим конюхам удержать застоявшегося дикаря.
Поклонник смиренно опустил глаза и только покачал головой – в таком состоянии он видел прекрасную Ксено впервые.
Савмак кипел. Слова очаровательной девушки не выходили из головы. «Значит, вонючий варвар»… – повторял он наверное в сотый раз, стискивая челюсти до зубовного скрежета. Сейчас он готов был сразиться с любым количеством врагов, чтобы дать выход так неожиданно разбуженной фамильной гордости и совершенно непонятной злобе.
Саврасого уже почти подвели к помосту, когда Савмак, не говоря ни слова, вскочил ему на спину прямо с земли, будто у него выросли крылья. Зрители ахнули. Опешившие конюхи в невероятной спешке сняли арканы и поторопились отбежать подальше от копыт дикого жеребца, взбесившегося, будто его ткнули раскаленным прутом. Дико взвизгнув, Савмак рванул поводья и изо всей силы огрел коня нагайкой. Полуобезумевшее животное от такого доселе не испытанного оскорбления на какой-то миг потеряло голову и ударилось в бешеный галоп.
Первый круг Савмак, сам, как и жеребец, пенясь от злобы, не переставая, хлестал его нагайкой-треххвосткой. Дикарь мчал с такой скоростью, которая была не под силу даже лучшим чистопородным скакунам. Гипподром ревел, бурлил и удивлялся. Наездник, прильнувший к лошадиной шее, словно слился с конем, и издали они казались двухголовым кентавром.
Саврасый опомнился только пройдя второй круг. Он попытался выкинуть такой же номер, что и первый дикарь – завалиться на бок, – но Савмак, не раздумывая, ударил его рукоятью нагайки по ноздрям. Забыв от острой боли свое намерение, саврасый, мотая головой, завертелся на месте, время от времени поднимаясь на дыбы. Из его разорванных удилами губ летела густая кровавая пена, неистовое ржанье перекрывало рев зрителей.
Для Савмака все смешалось: земля, небо, зрители. Казалось, что он сидит в бешено мчащейся по кочкам колеснице, раз за разом взлетающей в воздух. Рассвирепевший не меньше, чем конь, юноша рычал и ругался на всех языках, какие только знал.






