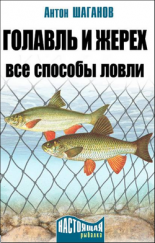Прощание навсегда Владыкин Владимир
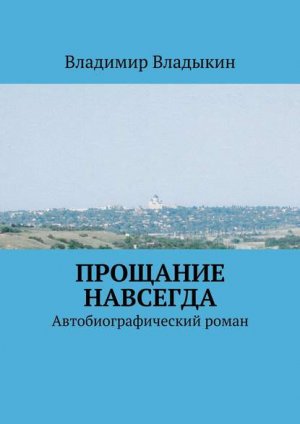
И вот теперь я был обязан каждый день снова упражняться, чтобы как можно старательней выводить в тетрадях палочки и крючочки. На первый взгляд, казалось бы, это делать было не столь трудно. Но рука быстро уставала нажимать карандаш, который, к несчастью, от чрезмерного нажима часто ломался, и надо было его суметь тонко заточить, в чём пока ещё мной не было приобретено необходимого навыка.
Нас, первоклашек, всего насчитывалось человек восемь, впрочем, в других старших классах было тоже не больше. Варвара Васильевна одновременно вела сразу два класса: первый и третий, а Галина Акимовна – второй и четвёртый. В каждом из четырёх классов начальной школы было по горстке учащихся.
В нашей небольшой школе, даже для учителей не было свободной комнаты, не говоря уже о хорошо оснащённых учебными пособиями классах, обставленных по углам застеклёнными громоздкими шкафами. B одном шкафу хранились какие-то приборы, географические карты, плакаты, копии картин русских художников. И разных величин и размеров колбы, пробирки, спиртовые горелки, компасы для проведения практических опытов, а сверху шкафа стоял большой глобус. В другом самом широком и объёмном шкафу вмещалась вся книжная наличность школьной библиотеки, на которую с первого класса я смотрел завистливо, когда старшие товарищи уже могли запросто читать, а значит, полноправно пользоваться книгами из этого заветного шкафа. Вот поэтому я горел неистребимым желанием, – как можно быстрей научиться читать, именно читать, поскольку об умении писать я думал тогда пока меньше.
Благо, алфавит я уже знал давно назубок, хотя на письме ещё неуверенно различал ту или иную букву. В семилетнем возрасте, наверное, как и каждому мальчишке, с первых дней занятий в школе ещё не столь легко втягиваться в распорядок уроков по отведённым для них предметам. Однако со временем я уже меньше переживал об утере личной свободы и всё больше набирался терпения, чтобы с восьми утра отсидеть все уроки. И как только они заканчивались, нас охватывала безудержная радость, отчего из школы мы вылетали подобно пробки из бутылки шампанского.
Конечно, эти чувства по-своему пережиты каждым человеком, но мало кто задумывается о начальной школе, которая знакомит со страной знаний. И последующее их усвоение зависит оттого, как ты глубоко постиг начальную программу обучения.
Помню, бывало, поглядываешь на ряды парт третьеклассников, и почему-то им завидуешь, что они уже хорошо умели читать и писать, да так быстро, что порой, наблюдая за проворным бегом их перьев по страницам тетрадей, я с тоской для себя отмечал, что мне, наверное, так никогда не освоить скорочтение и скоропись. Мне очень жаль, что не удаётся передать полно все те волнения той поры, которые подчас доводили до отчаяния, а иногда и до слёз…
Но не менее любопытны были также мои первые ощущения восприятия девчонок. К примеру, третьеклассницы мне представлялись почти взрослыми. Я втайне ими любовался, так как вызывали неподдельное очарование одним тем, что в своих форменных платьицах, с белыми фартуками, и с завязанными в волосах белыми бантами они были похожи на порхающих по классу во время перемен, бабочек, дивных, чарующих глаз, окрасок. Хотя далеко не каждую девчонку я обожал одинаково. Может быть, одну-две или три, которые были вдобавок прилежны в учёбе и приличны в общении с такими субъектами, как я. Мне вообще не нравились плохие манеры ребят и взрослых, но когда неприлично вели себя некоторые девчонки, я испытывал в них разочарование только оттого, что даже сами того не подозревали, они рождали о себе дурные толки…
Но на своих одноклассниц я ещё не смотрел с таким любованием, как на тех, что были постарше, и потому они казались умней и красивей. И может, поэтому я их сторонился, впрочем, даже сверстниц, с которыми долго не мог установить приятельские отношения. В классе со мной училась моя двоюродная сестра Вероника, (дочь моего дяди Митяя, среднего брата мамы), а также дальняя родственница по отцу Лида и её двоюродный брат Миша Волошин, отцы которых были родными братьями, а мой доводился им двоюродным. И все мы носили одну и ту же фамилию – Волошины.
Я отличался некоторой робостью и неуверенностью в свои возможности учиться лучше того, чем я учился. И ко всему прочему мне не нравилось выходить к доске, так как не хотел быть во внимании всего класса. И вместе с тем я обладал огромным упорством и трудолюбием в том деле, которое отвечало моим душевным склонностям и моим интересам. Но все мои тогдашние увлечения были не постоянными, а преходящими, временными, которые чередовались от частой смены настроений под влиянием среды и окружения. К этому я вернусь ниже, а пока все мои школьные и домашние занятия часто резко колебались в зависимости оттого, какое у меня было настроение. Попросту говоря, я не знал такое дело, которое бы у меня вызывало чувство поклонения, и я бы помимо воли к нему стремился. Как и каждый мальчишка, я находился в подсознательном поиске своих духовных запросов, которые станут проявляться, думал я, как только выучусь читать. Хотя постоянно об этом не думал, так как застенчивость объясняла мою скованность на уроках.
При ответах у доски или с места я вовремя не мог собраться с мыслями, и от этого ещё больше терялся. Проклятая не уверенность мешала мне прочитать наизусть выученное стихотворение, правило по русскому языку, объяснить решение задачи по математике. И стоило мне открыть рот, как я чувствовал, что на меня уставились все одноклассники, словно в ожидании какого-то дива и мой язык деревенел. Правда, не только от этого, но ещё и оттого, что я боялся услышать свой писклявый негромкий голос, который мог просто всем не понравиться и вызывать робкой интонацией смех одноклассников. Особенно я боялся поддаться растерянности, смех девчонок действовал на меня убийственным образом, что только усиливало и укрепляло мои недостатки.
Но в таких случаях мне на помощь всегда приходила Варвара Васильевна, которая ко всем моим нюансам переживаний относилась с исключительным вниманием. Её спокойный, полный мудрости взгляд и приятный голос меня неизменно подбадривал, вселял уверенность и помогал собраться с мыслями, как умелый психолог. И тогда я вёл себя несколько смелей, доставляя учительнице удовольствие от того, что она умела своевременно подобрать ключ к учащемуся. Особенно наглядно это проявлялось в тех случаях, когда чутье ей подсказывало, что я знаю материал, но скованный робостью, был не в силах проронить ни слова…
7. Мгновения детства
Для меня сплошным мучением являлось пробуждение по утрам, чтобы позавтракав, отправиться на занятия в школу.
Почему-то в нашей семье было не принято ложиться рано спать. Если родители ещё не шли ко сну, то и мы, их дети, играли допоздна в свои бесконечные игры. Обыкновенно отец, полёживая с вечера на кровати, слушал радиоприёмник, в то время как мама была ещё занята какой-нибудь домашней работой. Она то ли стирала, то ли гладила свежее высушенное бельё или к нашей школьной форме подшивала воротнички, то ли замешивала на выпечку хлеба тесто в квашне. Правда, сестрица Надя была ещё очень маленькая, поэтому её мама укладывала спать раньше всех, и предупреждала нас, чтобы мы не шумели.
Дедушка уходил в ночное дежурство охранять колхозные объекты и часто приносил нам оттуда пустые спичечные коробки. Из них мы делали поезда, железную дорогу и представляли, что едем в какой-нибудь город или страну…
Мы с братом Глебушкой взяли за правило учить уроки с вечера, а рано утром мама заставляла повторить задание. Однако утреннее пробуждение мне давалось с большим трудом, я с трудом разлеплял глаза, которые тут же непроизвольно закрывались. И я чувствовал себя донельзя усталым, как после физического труда. Поэтому утреннее повторение уроков у меня вызывало недоумение, так как хоть я и пробудился, но моя голова ещё спала.
Разумеется, когда мама будила меня и старшего брата в школу, всякий раз она нервничала и с болью в сердце выговаривала нам, чтобы вечером допоздна мы больше не заигрывались. И давала себе зарок загонять нас домой с улицы как можно раньше, что, впрочем, неукоснительно не исполняла, всегда по горло занятая домашней работой. Но когда ей это удавалось, мы придумывали в хате для себя какие-нибудь ещё забавы, поскольку на ночь глядя у нас почему-то разыгрывались буйные фантазии. Время за играми пролетало незаметно, мы снова ложились поздно, отчего утром нас опять не добудишься. Помню, после мучительных побудок я обещал маме, что скоро придумаю себе распорядок дня и буду ему неукоснительно придерживаться. Но это было трудно сделать, и вовсе не потому, что в то время в обиходе не сложилось понятия биологических часов, которыми наделён каждый человек. Поэтому к чему себя приучил, к чему ты от рождения склонен, то это и образует твой характер и потому трудно поддаётся подчинению тому, что несвойственно ему и чуждо его природе.
Собираясь утром в школу, я всегда завидовал Никитке, которому не надо было ещё никуда спешить. И он безмятежно спал в тёплой постели, в то время как нам с Глебушкой скоро идти через всю улицу в школу, которая стояла в конце широкой улицы на большой поляне по соседству с клубом. С первого дня мама приучила меня по приходу из школы переодеваться в домашнюю одежду и аккуратно развешивать на спинке стула форму. Эта привычка скоро вошла в мою плоть и кровь, став второй натурой. Я раздевался с педантичной последовательностью. Сначала тщательно расправлял брючки, складывая их стрелка к стрелке, потом руками разглаживал гимнастёрку по спинке стула, чтобы не было складок, пыли и соринок. И, разумеется, вовремя заботился о том, чтобы все мои школьные вещи были хорошо отутюжены.
К аккуратности и чистоте меня приучала, конечно, мама. Но я и сам был противником неряшливости, так как природа заложила к ней отвращение. Хотя к чужой неряшливости я относился вполне терпимо и деликатно, но если это касалось брата Никитки, то я старался разъяснить ему, что перед тем, как пойти в школу, ему надо бы избавиться от дурных привычек.
Физически я рос весьма слабым и болезненным, часто поддавался душевным переживаниям, связанным в основном не успехами в учёбе, ссорами родителей, оскорблениями недругов. Бывали моменты, когда нападали хандра, неудовлетворённость, как неожиданная простуда, что явно свидетельствовало о нарушенной гармонии души и тела.
Я полагаю, что если бы я был непременно физически крепок и вынослив, то несомненно обладал бы здоровым духом. Однако вопреки этим существенным недостаткам мне было не занимать силу воли и терпения для достижения поставленной цели. Если чем я начинал увлекаться, то всерьёз и надолго. Так, поставив себе цель выучиться читать, я налегал на букварь самостоятельно, и уже складывал первые слова, чтобы непременно заполучить книжку из школьной библиотеки, в чём мне хотелось соревноваться с одноклассниками, и ни в чём не отставать от старших товарищем и приблизиться к брату. Впрочем, в ту пору я был ещё весьма далёк от таких высоких понятий, как честолюбие. Зато во мне преобладало желание, замешанное на банальной зависти, толкавшее меня к выводу: почему другие берут читать книги из библиотек (хоть они старше меня), тогда как я – нет?
К моему огорчению или несчастью, природой во мне был заложен большой недостаток: я не умел ещё заводить себе друзей. Хотя во многом это объяснялось тем, что я сам ни к кому не тянулся, считая себя скучным и неинтересным субъектом, недостойным ничьей дружбы. Особенно я не мог навязываться к тем ребятам, который уже считались закадычными друзьями, которые сближались на обоюдовыгодном интересе. Один при письме не допускал грамматических ошибок, другой хорошо считал арифметические примеры.
Так в моём классе такую дружбу водили мои тёзки, их так же, как меня звали Мишками. Между прочим, один был по отцу моим дальним родственником, и относился ко мне соответственно дальнему родству. Но я ревновал его к другу Мишке Самоедову. Они жили почти по соседству – через два двора и, разумеется, с первого дня сидели за одной партой, в то время как я – с противным Борькой Рыковым впереди них, который ненавидел меня как своего напарника по парте.
Надо сказать, в классе я был неприглядным, самым маленьким, наверное, поэтому надо мной норовили посмеяться как сидевшие позади меня два неразлучных друга, так и мой сосед Рыков, он душой тянулся к ним, отличаясь, впрочем, нравом подлизы, холуя и задиры, когда заручался от кого-либо физической поддержкой. Однако мои тёзки не уважали его не только за это, но и за то, что он был сыном не из переселенцев, каких в посёлке было большинство, а казака из станицы, многие жители которой в войну служили у немцев и с ними же ушли при отступлении.
О себе же мои тёзки были самого высокого мнения. Хотя учились неравноценно, например, мой родственник значительно опережал в учёбе по всем предметам своего друга Самоедова. Я же в свой черёд далеко опережал своего соседа по парте, который во всём был неряшлив; все его тетрадки и учебники и он сам были вечно перепачканы чернилами. И вместе с тем я и мой родственник М.В. учились почти на равных. Разве что, может быть, он посильней меня разбирался в арифметике. Зато я опережал его заметно по скоростному чтению. В погоне за знаниями (позволю себе так выразиться) между нами шло этакое негласное соревнование.
На отлично и хорошо из пяти наших девчонок училось только три. Это была моя двоюродная сестра Вероника, которая отличалась достаточно самолюбивым и гордым характером; она во всём показывала себя с самой лучшей стороны, впрочем, также не лишённая честолюбия и Лида Волошина, с которой за одной партой сидела моя двоюродная сестра, к ним можно отнести ещё и Любку Крунову, весьма вредную, капризную, тяготевшую к заносчивости, девчонку. О двух других, которые, по сути, ничем примечательным не отличались, мне, по существу, сказать нечего, поскольку и та и другая учились посредственно. И чисто внешне, одного роста, они тоже почти ничем не выделялись, лишь исключительно поведением. Если Верка Клинова могла вспылить и зашибить любого, кто из мальчишек, заигрывая, больно задевал её, то Верка Стёкина тихонравная, вся погружённая в себя, несмелая, когда объясняла у доски домашние задания или отвечала на дополнительные вопросы учительницы, в её серых глазах поблескивала какая-то лихорадочная настороженность: «Зачем вы меня это спрашиваете?» – читалось в её взгляде, что казалось, она сейчас от обиды и досады расплачется. Впрочем, она стеснялась, что у неё под глазами вечно выскакивало много веснушек, которые, казалось, и были единственным источником её частых огорчений, впрочем, не только во время стояния у доски.
Разделение на отличников, хорошистов и неуспевающих начиналось с первого класса, и вследствие этого они начинают проявлять такие черты, как спесь, чванство, зазнайство, тщеславие. Правда, не в равной степени, а в зависимости от природных задатков каждого. Кому-то свойственно быть более тщеславным, но менее чванливым, кому-то более спесивым, но менее зазнающимся, и чем больше в человеке гордости, тем он непомерно высокомерен и, пожалуй, так до бесконечности…
Смею уверять, что уже с первого класса формируются межличностные и коллективистские отношения, что закладывает основу какими стать им в будущем. Что же касается меня, то в равной мере я тяготел и не тяготел к коллективу. Это объяснялось тем, что больше всего я хотел быть независимым, жить как бы сам по себе. Однако я ещё не знал классического постулата, что находиться в коллективе и быть от него свободным, в сущности, никак нельзя. К тому же в каждом коллективе существуют негласные или обговоренные правила поведения или неписаные законы, выработанные всей историей человека.
Я же в какой-то степени начал ими пренебрегать с первого класса. Конечно, не думаю, что в этом отклонении сказывалось моё неполное домашнее воспитание. Просто я был донельзя робким и стеснительным, а это мешало проявлять себя среди одноклассников с лучшей стороны. Однако заботливо поддерживаемый Варварой Васильевной я мало-помалу преодолевал свои недостатки и стал даже участвовать в школьном новогоднем представлении, поскольку в моей жизни оно было первым, которое мне очень понравилось…
В ту пору в нашем посёлке телевидение ещё не было распространено так широко, как это начнётся значительно позже. А тогда два-три, от силы четыре двора, могли похвастаться вознесёнными над крышами домов телевизионными антеннами. И к обладателям телевизоров ходили их родственники. Но даже и они бывали на детских воскресных киносеансах, на которые по-прежнему собиралась вся ребятня, и ждала кино, как настоящего праздника, о чём раньше я уже рассказывал.
Ещё до школы я серьёзно полагал, что кино – это вовсе не слепок с жизни, а вполне реальная жизнь, перенесённая на экран. И это вовсе не артисты играют роли тех или иных существовавших людей в действительности, а они сами плоть от плоти являют перед нами в развитии свои судьбы. Пожалуй, точно так же я безоговорочно верил и в то, как на новогоднем представлении под дружные единые возгласы ребятни, появлялся с некоторой задержкой Дед Мороз, что он тоже настоящий. И его вовсе никто не играет, он взаправду приехал из северной сказочной страны, причём где-то истинно существовавшей, чтобы раздать ребятам подарки и поздравить с Новым годом.
И чтобы досконально убедиться в своём чудесном самообмане, я придирчиво и скрупулёзно рассматривал его белоснежную длинную бороду, которая вилась пышной куделью, и я почти уверялся в её бутафорском, но неподлинном происхождении. Но мне, как и всем школьникам, почему-то хотелось пребывать в самообмане и признавать её подлинность, как и сказочно расшитый, подвязанный красным кушаком, кафтан, увесистый, солидный посох с большим набалдашником, и самые что ни наесть настоящие валенки, с закрученными кверху носками. В общем, как будто всё говорило о Деде Морозе, что он якобы и в самом деле приехал к нам на ёлку издалека.
Помню, как был я поражён разочарованием, когда всё-таки распознал, что Дед Мороз телесно похож на людей, так как разглядел, что-то подозрительно свежо выглядела кожа его лица, которую искусно скрывала молодая щетинистая поросль, и мелькала гладкая без морщинок шея под длинной пышной белой бородой. А ведь должна быть бы старческая и дряблая.
Но удивительно, что это разоблачение фальшивого Деда Мороза отнюдь не вносило в сознание сумятицу на тот счёт, что Дед Мороз всего-навсего не Дед Мороз, а обыкновенный, только наряженный под такового, человек. И всё равно хотелось верить в сказку, о чём полное понимание придёт в старших начальных классах. А пока я верил в придуманную для нас учительницей новогоднюю сказку в настоящего Деда Мороза…
Я уходил в школу чуть позже брата, хотя чаще всего мы шли в школу вместе. Зима в тот год выдалась для наших южных краёв необычайно холодной и снежной, под заборами и плетнями дворов возвышались островерхими гребешками, как из белого песка, сугробы. Сильный ветер беспрерывно гнал по снежному насту сухую извилистую, словно крахмальную, позёмку. Тоскливо и одиноко раскачивались сухим морозным шелестением голые ветки деревьев, и на холодном пронизывающем ветру сиротливо колебались былинки сухостоя по буграм балки, занесённой глубокими снегами. На востоке из морозного серо-белого полога с фиолетовым оттенком, вставало ещё сонное, подслеповатое солнце, преодолев мутную, дымовую от мороза пелену небосклона, оно тотчас ярко заиграло на снегу ослепительными искрами снежинок, как мелко нарезанной узорной фольгой.
Я всегда вышагивал в школу не спеша, вытаскивал обутые в валенки ноги из глубокой, ещё не наезженной снежной целины, стелившейся вдоль всей улицы пушистым высоким покровом; и как всегда любовался покрытыми толстым пушистым снегом нашими сельскими окрестностями. И я желал только одного: чтобы зима впредь больше не меняла, присущей ей белой окраски, оставаясь на одной поре в своём меховом парчовом убранстве до самого прихода весны, которой я начинал грезить буквально по окончании зимних каникул, проводимых, разумеется, днями напролёт на катке в балке.
Правда, в ту пору пруда ещё не было, и мы катались с бугра на самодельных деревянных или с металлическими полозьями санках, на которые могли усаживаться несколько человек. Счастливчиками были лишь те, кто обладал лёгкими, настоящими, купленными в магазинах санками с разноцветными на сиденье планками, и они служили как бы неким мерилом достатка, и поводом позазнаться ими перед теми, у кого были самодельные и намного тяжелей и грубей магазинных.
Противоположный бугор балки намного круче и разгонистей нашей стороны, и часто кишел звонкоголосой детворой, особенно перед сумерками, когда солнце только что село, по небосводу разлились лиловые, розово-алые отблески морозного заката. А снег неотвратимо начинает синеть, кругом стоит безветрие, плавными столбами из труб хат вверх поднимаются дымы то там, то тут раздаётся лай собак. В морозном ядреном воздухе хорошо слышны переговаривающиеся голоса мужиков и баб. А бугор, отполированный детворой тем часом знай себе неумолчно звенит голосами ребятни. Правда, с безудержным наплывом сумерек, кто-то уже подумывал уходить с катка домой. И вот отдельные крошечные фигурки наших товарищей отделяются в усталых позах от ватаги детей и удаляются восвояси…
Я и братья приходили домой почти всегда уже затемно, в задубелых от лютого мороза валенках и рукавицах, с красными, как спелая мякоть арбуза, щеками. И еле таща за собой тяжёлые, сваренные отцом на заводе из тонких железных трубок, санки.
В такие минуты, оставив все силы на катке, ни о чём неохота было думать, только бы скорее поесть и спать, спать. Однако, мысль о том, что завтра после каникул идти уже в школу, наводило уныние и тоску. Зато будет приятно вспоминать проведённые на катке каникулы, с которыми так не хотелось расставаться, что никогда не возникало мысли подгонять их бег, напротив, было одно заветное желание, чтобы эти дни продолжались бесконечно… Или просто оставалось запастись терпением и ждать весенних каникул.
8. Сельские будни
Наверное, ближе к весне, когда морозы стали отпускать, по нашей улице ездил колхозный трактор с прицепленным к нему лафетом, и, снаряжённые для этого мужики, собирали по дворам мешки с зерном, у всех желающих, чтобы его отвезти на мельницу на помол.
В наших краях к концу февраля зима уже заметно сдаёт свои позиции, а в тот год она продержалась на редкость устойчиво, с высокими сугробами и морозами. Однако на подступах к весне в солнечную погоду снег подтаивал, и даже было слышно, как под настом и ледком журчали ручейки талых вод; и отнюдь не сильный морозец на солнечном пригреве в безветрие уже почти не ощущался.
Порой катаешься в такой день с бугра на санках и так распаришься в стареньком для улицы пальто, что уже не хочется быть на катке долго, так как под лучами яркого солнца, душа начинает петь, предчувствуя наступающее весеннее тепло. И довольно весёлый весенний напев резвой капели с крыш надворных строений, напоминал как бы о смене времён года. Вот поэтому трактор тащил отнюдь не сани, на каких подвозили по глубокому снегу от дальних скирд сено или солому, а лафет, поскольку к тому времени разъезженная дорога за день на солнце оттаивала до самой земли и чернела глубокими колеями.
Итак, собранное в мешках зерно с дворов, увозилось для помола на муку, которая к концу зимы у многих хозяев уже кончалась. А потом, примерно через неделю, убелённые мучной пылью, мужики, развозили по дворам мешки с мукой и отрубями, запах которой вперемешку с запахом солярки, вызывали в душе какое-то странное таинственное волнение. А сами мужики в фуфайках, в шапках-ушанках, в кирзовых сапогах или валенках с галошами, хоть были хорошо нам знакомы, и вместе с тем представлялись некими загадочными существами…
Помню, как они вносили на плечах мешки с мукой в коридор, где тогда стоял наш мучной ларь, закрываемый плотной крышкой на петлях. Пока мука определялась к месту, тем временем мама выставляла на стол в спешке закуску, соленья, жареную на ужин картошку с бараниной.
Дедушка, Пётр Тимофеевич, со степенной деловитостью выставлял на стол бутылку водки, заготовленную им для такого случая заранее, чтобы угостить ею, сделавших такое большое для семьи дело, мужиков, согласившихся на это подношение с превеликим удовольствием. За всю свою сознательную жизнь, я ни разу не был свидетелем, чтобы он напился до потери сознания. Но зато в таком виде часто видывал отца, пристрастившегося к спиртному довольно рано, по его же свидетельству, где он родился и вырос в уральской деревне, уже начинали пить с раннего возраста…
Дедушка же выпивал одну, от силы две стопки водки, да и то лишь в необходимых для этого случаях по праздникам или когда приходили гости, его же сыновья с жёнами. А в основном только знал дела семьи, посильные о ней свои заботы, работавшего в последние годы в колхозе сторожем. Хотя до войны и после пас коров, а когда завели овец, он угонял их в займище. Иной другой работы он не мог выполнять, так как был однорук, став инвалидом в годы войны, он работал на одной из шахт в Кемеровской области, при обвале горной породы ему перебило чёрной глыбой руку, которую пришлось отнять. По тому времени дедушка получал мизерную пенсию инвалида и одновременно по старости. И по своей хозяйской рачительности, для непредвиденных случаев, он норовил откладывать деньги на чёрный день.
Иногда дедушка брал нас, своих внуков, с собой в ночь на дежурство не потому, что ему одному было боязливо находиться на охраняемом объекте, а исключительно по той причине, что мы напрашивались сами. Особенно с субботы на воскресенье, когда не надо идти в школу. О пребывании с дедушкой на дежурстве, в сознание запало смутное впечатление, будто за тёмным окном, полным загадок и звуков, шорохов и теней, кто-то притаился и ждёт дедушку, но я был уверен, что он справится даже с одной рукой. И вот ночью, проводимой, по детским меркам, достаточно далеко от дома, сидя в дежурной комнате на жесткой металлической кровати, застланной овчинной дерюжкой, я робко глядел в тёмное окно, на очертания длинных сараев свинарника, сложенных из жёлтого пиленого ракушечника.
Мне казалось, что дедушка исполнял важное задание по охране колхозных свиней и я тоже с ним заодно причастен к этому. Свинарник стоял в степи, среди полей, которые окаймляли лесополосы, одна из которых подходила к сараям почти вплотную, тем самым, ограждая их от северного ветра. Зато другая, основная их часть стояла на окраине глубокой, зиявшей, как пропасть, балки, увитой по дну и склонам плотными зарослями терновника, шиповника и боярышника. И до посёлка отсюда было километра два, правда, если идти напрямую через поле и того меньше.
Однако хорошо смотреть на окрестности близ свинарника белым днём, тогда как ночью как бы там себя не уговаривал и не внушал, что ты смел, и никого не боишься, тем не менее кроме этих заверений, находясь в кромешной темноте, к сердцу подступал страх жуткими щупальцами и держал меня всего какое-то время в своих цепких объятиях. Но вот дедушка в дежурке зажёг керосиновую лампу, и её причудливый отблеск выхватывал воронёную сталь, висевшего на стене двуствольного ружья, один вид которого несколько отгонял страх, отчего душа наполнялась уверенностью в то, что всё будет хорошо. А степенная сосредоточенная возня дедушки у печи-буржуйки, разогревавшего на ней чайник, пламя из которой какими-то чарующими силами тоже в свой черёд успокаивали, что в тёплом помещении тебе ничего не может угрожать. А чёрная за окном темень, продолжая толпиться и колыхаться, была совершено побоку. Да и страха, испытанного с первых минут наступления темноты, я больше не ощущал, ещё, наверное, по той причине, что тогда я уже точно знал – в наших краях волки не водились, которыми иногда нас попугивали родители, упреждая, чтобы не отлучались далеко от посёлка.
Даже вообразив какую-то мнимую опасность, при этом глядя на висевшее на стене без надобности ружьё, я знал, что дедушка им всё равно не воспользуется, поскольку не мог представить его охотником, убивающим зверя, в силу прочно сложившегося о нём мнения, как неспособном причинить зла как природе, так и человеку. Причём я сам побаивался брать ружьё в руки. Хотя у меня даже не возникло такого острого желания. Просто я уже тогда понимал, что ружьё – это вовсе не забава для детей, при неосторожном с ним обращении оно поражает насмерть.
Когда подходил час обхода охраняемых объектов, дедушка закрывал меня в дежурке на замок и уходил совершать вменённые ему обязанности сторожа, причём без ружья. И тогда ко мне на время возвращался прежний страх, но теперь лишь с той разницей, что я опасался не за себя, а за дедушку. Трудно передать те давно пережитые ощущения, как за время ожидания дедушки я беспокоился за его жизнь, чтобы никто на него не напал. За долгий осенний вечер на такие обходы дедушка уходил не раз, а потом я уже ничего не помнил, так как засыпал. А пробуждался от света ясного раннего утра. Солнце вставало как-то не спеша, окрашивая багрянцем весь небосвод. Перед тем как идти домой, дедушка повёл меня через лесополосу, по уже убранному полю кукурузы, на бахчу, где ещё ранней осенью продолжали убирать арбузы, дыни, от которых исходил медоточивый аромат.
Мы вполне по-свойски подошли к большому, как шатёр, соломенному шалашу, возле которого на деревянном ящике восседал малорослый, кряжистого телосложения, ряболицый, с круглыми малоподвижными тёмными глазами дядька Паня – наш поселковый сторож бахчи. Дедушка добродушно, скромно улыбаясь, поздоровался с мужиком, покуривавшим папиросу. На торчавшей, при входе в шалаш, рогатине, висело его одноствольное ружьё, а неподалёку от шалаша, поскольку в сентябре ночи выдавались прохладными, догорал, вернее, уже дотлевал костерок и от него исходило запахом тёплой золы. Утром стылая свежесть воздуха даже вышибала дрожь, и потому невольно я приблизился к остро пахнущей горячей золе. Пахло спелыми арбузами и медовыми дынями. Сторож весьма почтительно откликнулся на просьбу дедушки, которого, видимо, уважал, угостить его внука арбузом, таким красным и сладким, зато очень холодным после ночи. Добрый сторож подал мне большую скибку, еле умещавшуюся в моих руках, и я принялся есть так, словно сроду никогда не едал арбуз, с желанием утолить жажду, потому что очень хотел пить. Однако было прохладно, я ёжился, а когда поел арбуз, то от него меня подавно начала колошматить дрожь, как тропическая лихорадка.
На дорожку добрый дядька Паня дал нам два крупных арбуза, поэтому дедушке пришлось нести увесистые кавуны в сумке через плечо, придерживая её одной рукой…
* * *
…После уроков в школе, я переодевался в домашнее и любил заглядывать в сарай, где наблюдал за коровой и овцами. Хотя это непростое любопытство было связано с тем, что в конце февраля, по подсчётам мамы, должна была отелиться корова, о чём она поговаривала последние дни, дескать, пора ей починать, подошёл уже срок отёла, а корова почему-то не подаёт никаких признаков. Вот поэтому, заглядывая в сарай, где клубился пар от дыхания животных, и пахло навозом и сеном, мне чрезвычайно хотелось первым обнаружить, как корова будет начинать телиться. И затем с победным возгласом известить об этом маму.
Мне также очень нравилось стоять возле база с овцами, трогать их за длинную шерсть, а заодно подразнить как бы ненароком матёрого барана с закрученными спиралью ребристыми рогами. Однако это удовольствие выводило барана из себя и тогда он со всего разгона бил рогами в перегородку база, словно намеревался снести её, чтобы отплатить своему обидчику. После нескольких яростных ударов, баран вскидывал голову на меня и смотрел так, будто говорил: «Ну что, сопляк, видал, на что я в гневе способен, будешь ещё дразнить меня? Мало или ещё хочешь?» И баран тут же наклонив голову, мотал ею, демонстрируя силу своих закрученных рогов, а овцы тем временем перестали жевать сено и уставились на своего рассерженного предводителя, иные даже попятились и сбились в угол, точно давали барану место для состязания, смотрели на него в оторопи, мол, не пора ли остыть, неужели не видит, отрок решил просто подразнить его…
С приходом весны, а то и раньше, овцам тоже предстояло дать хозяевам потомство. Бывало, придёшь из школы в самом хорошем настроения оттого, что ярко светит солнце, нагоняя своим неудержимым теплом весенние ощущения, а дома застанешь бегающего по горнице белого крошечного ягненка. А на следующий день уже скачет коричневый наперегонки с белым. Однако в руки нам они не давались, неистово норовисто вырывались, взбрыкивали с подскоками, ударяя еще молочными копытцами об пол, и ретиво убегали в какой-нибудь недосягаемый для нас укромный уголок, например под низкую кровать, куда можно было только заползти на животе, и оттуда потешно выглядывали, словно играли в прятки.
Черный кот, увидев диковинное, доселе невиданное для него существо, вздымал на загривке шерсть, как ёж иголки, при этом свирепо тараща огненные глаза, шипел, оскаливая красную пасть. Правда, вскоре он привыкал к новым постояльцам, которые на время потревожили его покой, и больше не обращал на них внимания, так как эти глупые существа никакой опасности для него не представляли. А на следующий день ягнят уносили к яркам, ставшим впервые матерями.
А бывало, что через несколько дней в хате вновь появлялась пара окатившихся ягнят. А такие столь важные события в канун тёплых весенних дней у меня вызывали почему-то поток безудержной радости. Появление молодых существ в преддверии обновления природы, было как бы знамением новых счастливых ожиданий. И наконец-то в начале марта отелилась корова, телок которой кряду несколько дней тоже находился в хате, пока совсем не окреп и потом его также уносили в сооружённый для него в сарае закуток.
Разумеется, с приходом весны буквально на глазах всё преображалось: земля покрывалась нежным зелёным пушком травы, на полях с нарастающей силой, после зимней спячки под снегом, оживали озимые, люди, животные и птицы неизменно радовались наступлению живительного, благодатного тепла.
Во дворах люди скалывали, сдалбливали, счищали остатки обледеневшего снега, куры вовсю гребли за сараем оттаявшую кучу навоза, от которой на солнце вился прозрачный дымок пара. Над бархатно вспаханной чернотой огородов посельчан колыхался нагретый солнцем воздух, точно вода в аквариуме, и от влажной земли прозрачно-мутноватым дымком поднимался кверху парок.
Просыхали и укатывались машинами грунтовые дороги и просёлки. Ясным, солнечным утром я шагал в школу как-то нехотя, лениво, без настроения. Хотя весна вливала в молодой организм свежие живительные силы, пьяня своим пробуждением детское сознание; а так как я отличался особой впечатлительностью, на всё окружающее меня, я тотчас реагировал с неослабным вниманием. Меня интересовало буквально все: звонко чирикавшие воробьи, рядом со скворечником, зазеленевшая травка среди бурьяна, обросший мхом камень, из-под которого выползали насекомые, облепив его, греясь на тёплом благодатном солнышке, что невольно я задавался вопросом: как же эти красноватые с чёрными точками, козявки прозимовали холодную зиму под камнем? И трава каждой своей былинкой, проросшая из земли, и деревья с вздувшимися почками, а также моё воображение занимало солнце: отчего оно зимой греет значительно слабее, в то время как с приходом весны начинает припекать с каждым днем всё больше и больше, неужто некто там, на небе зимой спит и не подсыпает угля в жерло солнечной топки, а весной пробуждается и начинает что есть мочи кочегарить, подсыпать уголь. И вот оно воспламеняется, раскаляясь до безудержного состояния, обливает землю активной разогретой энергией, вследствие чего всё на ней пробуждается к жизни вновь.
Одним словом, с приходом весны уроки в школе и задания на дом, уже совершенно не шли на ум. Но я охотно заучивал стихотворения, посвященные весне… На переменах, на школьном дворе мы играли в догонялки, в третьего лишнего, во флажки… Бывало, прозвенит звонок на урок, а мы убегали со двора тотчас в класс, разгоряченные, мокрые от пота и возбужденные весенним торжеством солнца.
Обыкновенно последним был урок по труду и вот мы вскапывали в школьном саду свой участок земли, отведённый нам учительницей. Впрочем, сад делился на две равные части, проходившей посередине к крыльцу школы дорожкой, вымощенной кирпичом и густо обсаженной кустистыми петушками, начинавшими только что расцветать сине-фиолетовыми цветами, похожими своей формой на колокольчики, но больших размеров. И фруктовые деревья, и по краям дорожки кирпичи, поставленными зубчатыми переходами, подбеливались гашёной известью. Одни работали граблями, выгребая из-под деревьев палую листву в кучи, а затем её палили, другие, что постарше, вскапывали следом землю, третьи обрабатывали клумбы.
А потом счастливые бежали по домам, взмахивая кверху портфелями, далее подбрасывали их вверх и ловили на бегу. А дома не чаяли переодеться в домашнее, пообедать наскоро, совершенно не помышляя о приготовлении на завтра уроков, впрочем, перекладывая их на вечер и устремлялись на поляну, где собиралась почти со всего посёлка для игр вся разновозрастная детвора.
Счастливые мальчишки, обладатели велосипедов, катались по улице, где уже дорога выровнена трактором, тащившим за собой тяжеленный длинный швеллер на двух тросах с несколькими боронами, сбивавшими кочки и рытвины, образовавшиеся обыкновенно по весенней распутице и оставшиеся как бы в наследство еще с дождливой грязной осени.
Помню, где-то я раздобыл старые, без шин велосипедные колеса, а из-за отсутствия рамы, руля и сидения, я, наивная душа, вздумал смастерить велосипед из одних палок, скручивая их проволокой, возясь над своей конструкцией с одержимым упорством и усердием, беззаветно веря, что я должен во что бы то ни стало собрать самодельный велосипед. Не знаю, точно не помню, сколько же дней я был бесплодно занят своей безумной идеей, проистекавшей, конечно, от совершенного неведения того, что она, идея, была заведомо обречена на провал…
9. Крыло самолёта
Пока я «конструировал» во дворе велосипед, дедушка уже пригнал с пастбища овец. Они шумно вбегали в калитку и блеяли, потому что не наелись молодой травой, я посторонился, давая им дорогу, а дедушка остановился надо мной, посмотрел, чем я занимаюсь, как-то задумчиво покачал головой. Наверное, он пожалел меня, что мне всё равно не удастся собрать велосипед. Лучше купить в магазине, чем бесполезно мучиться. Но мы у родителей не просили велосипеды, чтобы не отставать от товарищей. А ведь казалось, что стоило продать одну овцу. Хотя об этом я тогда не думал, поскольку не ведал о том, каким способом можно заработать денег, этой науке нас никто не учил. Но зато я хорошо помнил, что пасти овец нелёгкое дело, а дедушке это приходилось делать каждый день, да ещё дежурить в колхозе.
В дошкольном возрасте однажды мне представилась возможность на своей шкуре испытать, что такое пасти скотину в голой, опалённой солнцем степи. В то время отцу довольно редко выпадал случай примерить роль пастуха. Однако дедушке надо было срочно съездить в район по своим делам, поэтому он попросил отца присмотреть за овцами. Но если дедушка не брал в подпаски нас, своих внуков, то отец это сделал тотчас же, как ему представился такой случай.
Разумеется, в пять лет отроду, я ещё не отлучался так далеко от дома. По крайней мере, этого я не помню. И то был, наверное, такой первый случай, когда я очутился так далеко от дома.
В пятилетнем возрасте уже приходит постепенное осознание себя и окружающего тебя мира, что ты живёшь с родителями, что ты человек, разумное существо. Но кроме тебя, живущего в семье, в хозяйстве есть низшие существа, за которыми требуется надлежащий уход и присмотр, которыми и были овцы…
Сначала мы их пасли по зелёным склонам балки сразу за посёлком, а затем пустили на скошенное поле люцерны, где овец долго не держали, поскольку отец опасался встречи с колхозным объездчиком. Поэтому мы погнали их по Вишнёвке (так называлась лесополоса, тянувшаяся вдоль поля), по другую сторону которой тянулась широким распадком балка, а её дно стелилось влажной и топкой долиной, сочившейся там и сям многочисленными холодными родниками. И на всём своём протяжении довольно обширная с пологими и крутыми буграми балка то спускалась, то неожиданно расширялась, представляя собой как вначале, нечто долины в большом и глубоком ущелье, складки которого густо поросли кустарниками боярышника и терновника. По самому дну балки тек ручей, в иных местах он растекался, обильно обросшим камышом, образуя по всему руслу зелёные кочки заболоченного местечка…
Вначале, где балка довольно развалистая с пологими и плавными склонами и ложбинками, наши овцы паслись хорошо. Зато по мере продвижения овец дальше, она значительно сужалась и делалась круче. И тут было больше грубой растительности, перемежающейся колючими кустарниками, поэтому сюда овец мы не допускали, поскольку начиналась опасная, почти отвесная, крутизна, и мы придерживали животных как бы на одном месте.
С утра погода выдалась солнечной и безветренной. День предвещал быть очень жарким, впрочем, уже с десяти часов в открытой степи невмоготу выдерживать палящие лучи солнца. Но из глубины балки веяла освежающая прохлада. Скоро мне захотелось пить, Никитка считался выносливей меня, несмотря на то, что был на полтора года младше. Однако отец повел обоих в самую глубину с суглинистыми склонами, где из расщелины бил холодный родник. Сухими обветренными губами я с жадностью припал к струе прозрачной ледяной воды, которая по вкусу отличалась от домашней. Почему-то вода пахла клейкой глиной вперемежку с какой-то травой. Однако от воды нестерпимо больно ломило скулы и зубы. И от этого ее нельзя было много выпить, чтобы утолить до конца жажду. После некоторого перерыва приходилось снова и снова припадать к живительной влаге, заодно наблюдая как в воде изломанно, вспыхивающими яркими бликами отражалось околополуденное солнце.
А через полчаса, однако, пить захотелось с новой силой, но теперь к кринице надо было бежать на значительное расстояние, так как овцы аккуратно пощипывая траву, незаметно уводили нас все дальше от родника. А набранная в бутылки вода, частично была выпита отцом, остальной же он обливал голову и шею.
По склонам балки стелилась уже достаточно выгоревшая трава с какими-то упругими, как тонкая проволока, стеблями. Но овцам она отнюдь не нравилась, и они целенаправленно шли по склону к полю противоположной стороны балки, на котором росла кукуруза. И вот когда склон переходил в равнину, на поросшей бурьяном кромке лежало крыло самолёта, со слов отца, ещё со времён войны. Наверно, он привирал, так как в те годы его здесь в помине не было; отец приехал в наш посёлок вскоре после войны. На мои вопросы, почему оно тут оказалось, он ничего не ответил. Почему-то крыло самолёта обладало поистине какой-то притягательной магической силой, обострявшее воображение, что невольно я представлял, как в далёкие военные годы, тут разгорелся воздушный неравный бой. И наш самолёт, по-видимому, был сбит, а может, вышел подбитым после боя, но до базы не дотянул, спикировал и развалился? Конечно, бой произошёл, но не обязательно над Вишнёвкой, а где-то, к примеру, в займище или над хутором Левадским, и подбитый, на повреждённом двигателе летел в сторону нашего посёлка, а потом вспыхнул, объятый пламенем и дымом. Когда падал, прочертил по небу чёрный шлейф дыма, лётчик катапультировался, а самолёт врезался в землю, разлетевшись от взрыва на куски.
Потом основной корпус самолёта собрали и увезли, а часть крыла, отброшенного взрывной волной далеко от места падения самолёта, искать не стали. А через много лет оно лежало, как свидетель смертельного боя, да только ничего не скажет. Но значительно позже оно бесследно исчезло. Я вовсе не думаю, чтобы им воспользовались сборщики металлолома. Хотя почему бы и нет, ведь после крушения советской империи, наплодилось много сборщиков цветных металлов, а ценный дюраль был всегда в цене. Но в то время сбором металлолома занимались в основном пионеры, поэтому в степь их руки бы не дотянулись. Зато большие пацаны, которые подчас вели раскопки на месте боёв, могли достать черта из-под земли, а утащись какое-то крыло на перекрытие землянки, могли запросто, что вполне допускаю. Они устраивали в Вишнёвке так называемые партизанские штабы, взятые для подражания из кино о войне.
Спустя много лет, вспомнив о крыле самолёта, я поинтересовался у мамы боями, проходившими в наших местах в войну, и был ли сбит хоть один самолёт. Конечно, она не припомнила, чтобы в войну над Вишнёвкой был воздушный бой. Возможно и так, ведь надо ещё учесть, что почти всю войну она была дома, если не считать те периоды, когда её часто с другими девушками посылали рыть окопы, а немцы гоняли работать на аэродром. И только после изгнания врага её с другими девушками посылали добывать в Гуково из шахты уголь. А при артобстрелах и бомбёжках жители посёлка прятались в погребах и многих боёв могли просто не видеть.
Однако мама припомнила совершенно противоположный случай, когда, после изгнания немцев, они работали на колхозном поле. И вот как гром среди ясного неба, прямо на поле приземлился наш самолёт. Лётчик был ранен и дальше не мог вести боевую машину, в результате был вынужден совершить посадку на колхозном поле. А после оказания помощи за лётчиком вскоре приехали на грузовике военные и увезли разобранный по частям самолёт…
И вот в пятилетнем возрасте, до этого видя самолёт только в кино и на небе, вдруг увидел беспомощно лежащее в траве, обросшее бурьяном, крыло самолёта, один его вид как-то чарующе завораживал детское сознание. Но вместе с тем возникало чувство неловкости за него, оставленного в степи без надобности, принадлежащего исключительному праву парить в просторах неба, но не представлять собой лишь кусок металлолома.
Между тем овцы уводили нас от крыла дальше, увлекая по склону балки. В степи сильно и нестерпимо пахло разогретой солнцем горькой полынью. И горячие дуновения ветерка то и дело доносили нам её удушливо терпкий привкус. Вдыхать её дурманящий запах и другие травы по испепеляющей жаре, вместе с поднятой овцами пылью, было отвратительно, это тошнотворное ощущение сохранялось долго. И ко всему прочему как-то удушающе дурно пахла зелёная, но упругая на вид трава, похожая своим строением на клубок измятой тонкой изжелта-зелёной проволоки. Местами она росла довольно плотно, кустик к кустику, вытеснив собой все другие травы, почти сплошным дёрном, небольшими, впрочем, этакими крохотными кустиками, без листиков, вместо которых на ней росли нечто вроде мелких ворсистых зелёных шариков, отрывавшихся довольно легко.
Казалось, с каждым часом солнце палило ещё нещадней, и от воздуха исходило беспощадное пекло. От этой жары я не находил себе места, притом мне думалось, что, наверное, уже целую вечность я нахожусь в безмолвной степи, жившей, между тем, своей особой жизнью. Даже в жару все птицы не поют в кустах боярышника и терновника и в лесополосе, не свистят по буграм суслики, прерывисто трещат цикады и замолкают кузнечики. Только где-то далеко-далеко на поле работают комбайн или трактор. А по просёлочным дорогам едут грузовики с новым урожаем.
Бывают моменты, когда тебе представляется, что время остановило свой неодолимый бег, как бы неподвижно застыло, и от нестерпимой усталости тебе больше нет ни до чего дела, так бы упал на землю и долго-долго не вставал. Мне ужасно хотелось домой, который находился настолько далеко, что я даже не ведал, в какой стороне он расположен. А до вечера еще очень не скоро, ибо солнце едва-едва только перевалило за полдень, и уже о крыле самолёта думать забыл, где-то оставшемся лежать на бровке поля. При этом я уже не чаял попасть, как можно быстрей, домой и упрашивал отца повернуть овец домой. А он на это лишь махал рукой, мол, успеется, ещё не вечер, а то дед будет ругаться. И заставлял набраться терпения. Ведь ему тоже было несладко, и он без конца вздыхал, отдувался, фыркал, смахивал с лица пот ладонью.
Мой младший брат оказался выносливей и терпеливей меня. Он совсем не стенал, как я. И отец бравурным тоном ставил его мне в пример. Однако вопреки увещеваниям отца, мне ничуть не было стыдно оттого, что не выдержал первое серьёзное испытание на самостоятельность. Но какой мог быть спрос с пятилетнего ребёнка, для которого понятие нравственного долга ещё отсутствует и он пока не в состоянии блюсти честь и достоинство и руководить собой. Хотя в то время я не помню, чтобы с усталостью я испытывал нечто подобие страха. Собственно, страх тут ни при чём, ведь над головой полыхало знойное августовское солнце, превратившее степь почти в безжизненную, окутанную, как коконом, безмолвной тишиной, которая собой нагоняла какую-то гнетущую скуку. А от неодолимой усталости наступало ощущение крайней безысходности. Вдобавок ещё захотелось есть, тогда отец раскричался, однако, дав мне помидор и кусок хлеба. Но утоление голода вовсе не остановило мальца, загрезившего домом, и вот решительно завернув овец, отец быстро погнал их на противоположную сторону балки, по склону, затем к лесополосе как раз на дорогу, выводившую к посёлку. И тотчас велел мне идти, но никуда не сворачивать, не то собьюсь с пути и сгину в степи, что конечно, он преувеличивал, ведь вдали хорошо был виден посёлок.
Стоило мне остаться одному на пыльной дороге, как я испытал жуткое чувство брошенного на произвол судьбы. И споро шлепал сандалиями по бархатистой дорожной пыли, от которой прямо-таки исходил раскалённый жар, как от затухающего костра. Почему-то я уже больше не испытывал усталости, какая меня одолевала совсем недавно, поскольку были уже видны крайние хаты и это вселяло ощущение ложной гордости, что я иду домой из неведомой степной дали…
Разумеется, тогда у меня такого чувства не возникало, что я предал безвозвратно отца и брата, оставив их в степи с овцами. И у себя вовсе не спрашивал: а каково теперь им там вдвоём? Хотя от меня там польза была отнюдь не велика. Единственно, я почувствовал себя счастливым, освобождённым от непосильной обязанности быть овцам верным стражем.
Тем временем дорога пошла немного на подъём и меня опять неотступно преследовал неприятный сильный запах этой странной на вид кустистой травы, казавшейся как бы вовсе не живой, по сути, даже не нужной животным, как теперь и то крыло, превратившееся в металлолом…
Наконец с приятной усталостью я вошёл в посёлок. Самая крайняя хата моего дяди Власа. В калитке двора стояла тётка Клава. Она снисходительным, чуть насмешливым тоном поинтересовалась, откуда это я топаю один? И не дождавшись ответа, зазвала меня в гости. Я тотчас попросил напиться воды. Однако вместо неё, тётя спустилась в погреб и принесла мне кружку прохладного молока. А через балку хорошо был виден наш дом в окружении акаций, высаженных некогда вдоль забора за его чертой. При виде дома, родного подворья, у меня радостно забилось сердце, удовлетворённого столь долгим отсутствием вне дома…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Вкус детской жизни
Если бы человеческая жизнь не уходила так быстро, если бы годы не утекали так стремительно, словно песок сквозь пальцы, если бы в своей неизменности всё оставалось навсегда на одной поре, как оно есть, тогда бы, наверное, не нужна была человеку память. И всё-таки как донельзя грустно и прискорбно порой думалось, что всё не вечно, на что бы не упал глаз. И сама человеческая жизнь в сравнении с безграничным океаном Вселенной, как песчинка, гонимая в пустоту ветром времени.
И как бы не стенал о бренности и не вечности всего сущего и живого, тем не менее сама жизнь человека рано или поздно подводит его к последней черте и это происходит так неумолимо быстро, что даже на прожитое не успеешь оглянуться, а горизонт заката уже неотвратимо близок…
Десять лет назад я ещё очень редко заглядывал в детство, а теперь меня тянет туда с ярым упорством, точно первопроходца заманчивых новых необжитых земель.
Как я уже упоминал, первая моя школьная весна выдалась на редкость солнечной и тёплой, правда, иногда на один-два дня наступала пасмурная и дождливая погода. А потом снова безудержно сияло яркое молодое солнце. После уроков, как я говорил, возвращаться домой из школы было бесконечно радостно. Причём заданные учительницей на дом, не в полном объёме, уроки (понимавшей наше весеннее настроение), можно было перенести на вечер. А пока светлый день был ещё в полном разгаре, мы были одержимы единственным желанием: как бы быстрей смыться из дому, минуя домашнюю работу и устремиться на поляну – место наших детских игр…
Любили до азарта игру в ножичек: очерчивали круг на хорошо утоптанной влажной земле, делили его на две равные части. Каждый игрок стоял на своём клочке, жребием определяли, кому первому вонзать нож в землю и победитель жребия, нападал на территорию противника, вонзая в землю нож, отрезая её по куску после каждого попадания. Если нож не вонзался – падал, тогда наступала очередь противнику переходить в наступление, освобождая свою занятую территорию и потом посягая на его половину. Победителем считался тот, кто сумеет захватить всю землю противника.
Бывало, если у кого-либо не было самого простого складного ножичка или сделанного из куска пилки по металлу, тогда любой из нас обходился большим гвоздём. Словом, эта игра наряду с картёжной, настолько увлекала своим азартом, что порой казалось время пролетало незаметно, как одна секунда, игра во флажки была также не менее интересна, но здесь не стоишь на месте, а бегаешь за флажком на половину противника, а чтобы быть неуловимым, надо много бегать. Как и футбол, эта игра требовала подвижности, выносливости и тренировала бегунов. Девочки играли обычно в классики или прыгали на скакалках. Почти каждый день выбирали игры по настроению. Хотя любую игру начинали спонтанно, непроизвольно, всё складывалось как-то само по себе. И потом уже не могли остановиться. В наши дни эти игры ушли в небытие. Нынешние подростки рано обзаводятся пороками, хотя в городе для них открыты разные спортивные секции. Так что и впрямь всё течёт, всё меняется…
За постройками колхозного двора, далеко за посёлком, в светлом вечернем мареве тонуло солнце, раскрашивая собой в алый цвет самый окоём небосклона. А дневное тепло, хотя и уходило тем временем, однако, было ещё довольно хорошо ощутимо в преддверии наплывающих сумерек. И вот в тёмно-синем небе жемчужно блеснули первые звёзды. Причём самая яркая стояла довольно низко, почти на краю небосвода. И тотчас же дохнуло освежающей прохладой, остро запахло молоденькой травкой и пряной землёй; из глубины балки веяло стылой свежестью и пресной водой. Совершенно померкла наша поляна, ещё недавно купавшаяся в багряных отблесках заката, а теперь как-то контурно печально тускнела в последних сполохах догоравшей и скоро погасшей зари. Однако даже в сумерках не хотелось покидать её, так бы и стоял, вслушивался в вечернюю песню звёзд и жизнь улицы, с разных концов которой доносились призывы и кличи матерей или бабушек, звавших по домам своих загулявших отпрысков…
Всякий раз я донельзя омрачался, когда на смену чудесным солнечным дням, вдруг приходила влажная пасмурная погода с моросящим сырой пыльцой или обложным, затянувшимся дождём, длившемся кряду несколько часов. И было вдвойне обидно, если непогода выпадала как раз на весенние каникулы, поскольку нам мамой строго запрещалось выходить на улицу. И тогда сидеть тебе, сколько будет продолжаться ненастье, дома, подобно затворнику в тюрьме и тоскуешь по улице, как по лучшему времени. Помню, как с неистощимой грустью я выглядывал в окно, из которого превосходно просматривалась большая часть посёлка по обе стороны балки и особенно та, вымокшая под дождём, где была наша любимая поляна. В ненастье на ней, однако, можно было увидеть всего два, от силы три пацана.
А мне уже неимоверно хотелось находиться вместе с храбрецами, поскольку они сумели освободиться от чрезмерной опеки своих родителей. Или, может быть, таковая мне только казалась по отношении к себе. Когда мы просились у мамы погулять на улице, она очень сердилась, что даже и слушать нас не хотела, совершенно не проявляя к нашим стенаниям и увещеваниям, истинного милосердия. Однако её неуступчивость, объяснялась лишь одним существенным для неё аргументом: только стоит нам выйти на улицу, как мы вернемся домой после игр запачканными грязью. А ведь ей приходилось стирать на всю семью из семи человек. Поэтому, её запрет проистекал исключительно из одного: поберечь свой труд, который мы не всегда ценили должным образом, и потому, не идя у нас на поводу, делалась даже жестокосердной: «Вам один раз разреши, – говорила она, – тогда от вас не будет отбою. Хоть бы раз узнали, что такое стирка!» После таких слов, мы больше её не уговаривали, и пока длилась непогода, не выпускала нас из дому.
Но вот дождь наконец прекратился, вот подул ветер и земля понемногу обтряхла, исчезли лужи, поднялись выше сплошные облака, а кое-где проредились, что одним краешком показалось солнце, блеснувшее пока что несколькими лучиками. Однако было ещё грязно, по крайней мере, ещё прилипала к ногам земля. Тем не менее, несмотря на это, мама сжалилась над нами, разрешила одеваться и тем самым многодневное домашнее заточение наше закончилось, после которого на улице всё приобретало какую-то необъяснимую новизну, словно мы впервые очутились в незнакомом доселе месте.
Когда же в дождливую погоду мы ходили в школу, а возвращались домой изрядно заболтанными в грязь, мама как следует нас отчитывала. И после просушки брюк над плитой, заставляла их обминать и очищать засохшую грязь щёткой. И тогда о гулянье после школы не могло идти речи.
Однако ближе к лету, если было дождливо, мы уже больше взаперти не сидели дома, ибо не успеет между туч в прогалину выглянуть горячее солнце, как земля почти тут же как бы сама по себе начинала быстро просыхать и следов от дождя как не бывало. И после ливня мы носимся по улице…
Помню, в теплые ясные майские дни я выкатывал за двор, сидевшую в расписанной под хохлому разноцветными узорами деревянной коляске годовалую сестру Надю. Впрочем, мы с братьями любили ее катать по очереди, а мама тем временем полола на огороде картошку. И вот когда сестре что-то не нравилось, она подымала безудержный плач. Тогда либо я, либо Никитка стремительно бежали на огород, причем кричали вовсю глотку отчаянно на бегу: «Мама, мама, девочка плачет»! – разумеется, громче звучал сильный голос брата, да ещё вместо правильного «плачет» у него выходило картаво «пьячит», а мой тонкий и писклявый тонул, забиваемый истошным братниным криком.
Это была, пожалуй, лучшая пора нашей сплочённой дружбы, когда мы редко оставляли друг друга, всегда держались вместе. Правда, иногда Никитка порой изменял братской дружбе, куда-то убегал подчас с соседским пацаном Лёней Рекуновым, росшим в семье один у своих родителей с бабкой Пелагеей.
2. Сродство трёх душ
Нам, троим братьям Волошиным, имевшим вдобавок ещё и сестру, никогда не приходилось скучать. Ведь детское коллективное воображение всегда богато на различные выдумки игр и забав. В этом отношении только плохо было Лёньке Рекунову, однако, мы по-своему ему покровительствовали, приглашая участвовать в наших играх…
Надо заметить, в мальчишеской среде той поры, под влиянием детских военных фильмов было модным умение делать деревянные ружья, пистолеты, автоматы, к чему я довольно быстро приохотился, как истинный мастер-оружейник.
В ту, послевоенную пору, игры в войну являлись самыми излюбленными для всех мальчишек. К детским военным баталиям нас неизменно подвигали кинофильмы о войне, которые детвора любила смотреть в нашем клубе, чему мной посвящён отдельный рассказ «Забавы ради».
Общеизвестно, как это повелось исстари, мальчишки делились на два условных, воющих между собой отряда, каждый со своим личным командиром, из числа наиболее шустрых пацанов, возрастом постарше нас, которых мы называли большими ребятами…
Однако мы, трое братьев, и соседский Лёнька, порой в воину играли отдельно от уличных ребят, прямо в нашем дворе. Кстати, мама часто нас отчитывала только за одно то, что мы устраивали в своём дворе игры с чужими ребятами, к которым, в свой черед, мы ходили довольно редко. А ведь и правда, почему-то все: и соседские, и совсем посторонние пацаны днями околачивались у нас, тот же Димка Метлов, гораздый на разные шкодливые выдумки, поэтому мама считала нас совершенно бесхарактерными, бесконечно уступающими воле посторонних ребят, которые, как полагала она, оказывались намного хитрее и умнее нас, потому что они никого к себе домой не приводили, в отличие от нас, её простофиль.
Возможно, так оно и было, и всё-таки с утверждением мамы теперь я полностью не согласен. Пусть даже мы действительно были не настолько хитры и ловки, как наши друзья по совместным играм, но то, что мы были намного добрей и справедливей своих сверстников, это было воистину так. Ведь наша мама была щедрей многих женщин, никому ни в чём никогда не отказывала, поэтому мы, её дети, не могли быть скроены иначе, чем она, наша мать…
Далее по ходу своего повествования я ещё коснусь взаимоотношений между группами ребят, а пока я должен ввести в рассказ своих двоюродных братьев и сестёр по линии мамы, так как по отцовской, я никогда воочию их не видел. Они жили где-то очень далеко, а в то время я даже не знал, где именно. Впрочем, об этом даже нисколько не задумывался.
Итак, мне теперь довольно трудно установить в точности: с какого времени я стал осознавать, что у меня, кроме родных, есть двоюродные братья и сёстры? Может быть, даже это не столь важно, но зато я хорошо сохранил впечатление о тех отношениях, какие зародились между нами, двоюродными братьями, правда, ещё не настолько прочными, чтобы о них говорить уважительно. Может потому, что один был на два, другой на четыре года моложе меня, причём между собой оба тёзки – Вячеславы. В общем, в то время, как видно, они были ещё мало заметны в играх поселковой ребятни. Если первому было шесть лет, он был сыном дядя Митяя, то второму – четыре, он был сыном дяди Власа, из чего вытекает, что они пока не могли собой распоряжаться самостоятельно. А позже считались домашними детьми, так как без родительского благословения никуда далеко от дома не отлучались.
Если о Веронике Снегирёвой я уже кое-что замолвил, то о дочери дяди Власа Галине, пока ещё нечего говорить, поскольку она была на полгода старше нашей Нади и качалась в колыбели.
Вообще-то, в нашем посёлке очень многие были переплетены между собой тесными родственными узами. В далёкие годы коллективизации, основатели посёлка Киров, гонимые голодом переселенцы, которые имели помногу детей, снимались с насиженных предками мест малой родины в поисках лучшей доли. Одним из них был наш дедушка Пётр Тимофеевич Снегирёв. Об этом периоде обстоятельно рассказывается в авторском цикле романов о народной жизни, который начинается «Разорёнными». И вот взрослые дети переселенцев обзаводились своими семьями, отделялись от родителей, строили хаты, тем самым составив, выражаясь современным языком, родовые кланы. Поэтому все посельчане тем или иным образом между собой переплетены родственными узами.
Вот и наши дядья, мамины родные братья, некогда жили вместе, но стоило им жениться, как они оставили родной очаг, построили хаты, и стали жить отдельно. Средний брат дядя Митяй женился ещё до того, как его сестра Зина вышла замуж, хотя можно сказать, что брат и сестра обзавелись семьями в один год, если не считать разницы в несколько месяцев. В то время как младший брат мамы Влас проходил службу в армии на Дальнем Востоке. Стоит упомянуть и о старшем дяде Сергее, погибшем на войне под Смоленском в 1943 году. О нём мне было известно от мамы лишь одно, что он отличался живым весёлым, находчивым умом, плотничал, столярничал. Так сделанный его руками скворечник просуществовал у нас, на одной из акаций, до моих зрелых лет. Правда, мы его не раз ремонтировали. Дядя Сергей, кроме столярничания, ещё умел неплохо рисовать, так что из него мог вполне получиться толковый художник.
И вот мои дядья, отделившись от родителей, построили хаты, став самостоятельными и в какой-то мере даже чужими. Словом, посёлок разрастался за счёт своей же молодёжи, отделявшейся от родителей, чтобы создать свои семейные гнезда…
Особенно большие родовые ветви из братьев и сестёр составляли: Косолаповы, Москалёвы, Находкины, Козловы, Серковы, Куравины, Дёмины, Волошины, Овечкины, Тереховы, но всех не перечислишь, поскольку сёстры меняли девичьи фамилии на мужние, как наша мама. В девичестве была Снегирёва, а стала Волошина, и таких фамилий в посёлке было несколько, считая родственников отца Глеба и Никифора, у которых в свой черёд было у одного – трое, у другого пятеро детей. Между прочим, в то время иметь много детей считалось вполне закономерным явлением, несмотря на постоянную нужду почти в каждой семье. Вот поэтому в небольшом посёлке насчитывалось много детей, подростков, составивших потом нашу молодёжь, когда на танцы в шестидесятые годы в клубе собиралось до полсотни человек. Хотя нельзя забывать и то, что послевоенный всплеск рождаемости объясняется не только тем, что наша страна в войну потеряла почти тридцать миллионов человек, а ещё и тем, что «отец народов» запретил аборты…
3. На большой воде
В конце пятидесятых годов ХХ столетия, в нашей балке пруда ещё не было, и по дну её тёк сокрытый в зарослях бурьяна извилистый узкий ручей, который мы много раз перепруживали, вооружаясь, принесёнными из домов лопатами, чтобы образовался хоть какой водоём, где в знойные летние дни обыкновенно купались, спасаясь от нещадной жары. Правда, вода собиралась грязная и мутная, она даже как надо не успевала отстояться, как мы на радостях, гордые от своего творения, начинали в ней бултыхаться. А по подбородку и груди стекали чёрные разводы грязи. Наш прудик долго не держался, его жиденькую плотину постепенно размывало переливавшейся через верх водой. И тогда мы начинали с прежним рвением забрасывать землей, образовавшуюся в плотине брешь…
В ту пору я ещё не бывал далеко от посёлка, и в своей жизни пока не видел настоящей реки, настоящего озера или пруда, хотя был уже немало наслышан о существовании последнего, находившегося примерно в трёх километрах от посёлка. Наверное, в то, первое лето, моих школьных каникул, впрочем, может быть, даже годом раньше, когда я ещё в школу не ходил, и точно не помню, когда это произошло, что мой отец вместе с соседом дядькой Веней возили нас, своих отпрысков, на пруд на велосипедах, которые тогда являлись для многих людей самым доступным видом транспорта, таковым он, пожалуй, останется на все времена. Разве что в техническом отношении будут усовершенствованы.
Итак, при виде большого изгибающегося широкого пруда, кое-где к зелёным берегам подступали заросли кустов, у меня навсегда осталось сильное, неизгладимое впечатление, впечатление оторопи, растерянности и даже страха, только от одного того, что я лицезрел перед собой серебристую, колыхающуюся иссиня-зеленоватыми гребешками кудреватых волн огромную водную поверхность, обильно поросшую у берегов высоким зелёным чаканом и камышом, в зарослях которых шумел как-то таинственно ветер. И от самой живой плоти воды, для моего ещё не окрепшего сознания, исходила некая опасность.
Я инстинктивно чувствовал, как от воды веяло настороженной, подстерегавшей свою жертву, угрозой, и одновременно доверчиво влекшей к себе. Но приходила догадливая мысль: вот стоит мне окунуться в её леденящую пучину, как она тут же поглотит меня. И, предостерегаемый инстинктом самосохранения, я держался от крутого берега подальше, боясь ненароком свалиться в воду, в то время как отец и сосед, будучи оба навеселе, разделись, побросав одежду на шелковистую зелёную траву, и что-то суматошно крича, прыгнули в воду, подымая блестящие тучи брызг. А мы с Лёней сидели на берегу, подминая собой свежую, прохладную траву, наблюдая с гордостью и страхом, как наши отчаянные папаши резво поплыли на перегонки к противоположному берегу. И чем дальше они уплывали, тем я отчётливей испытывал жутковатое чувство, оставленного отцом на произвол судьбы.
Видимо, они вспомнили о нас и тотчас повернули назад, к нашему берету, словно вспугнутые вдруг неким подводным чудовищем, причём я очень боялся, как бы отец не утонул. Хотя эта мысль ко мне пришла мимолётно, поскольку я был почти уверен, что с отцом, сильным, отважным, ничто не случится; он всё может, и при случае непредвиденной опасности, легко преодолеет возникшую угрозу его жизни. Ведь недаром он был на фронте…
Моё первая поездка на пруд состоялась не в самом разгаре дня, а уже ближе к вечеру, когда солнце, ярко сияя своим ликом, стояло довольно высоко, и ещё ощутимо пригревало. А потом оно неожиданно спряталось за тучей, и как-то резко потянуло прохладой, но вскоре стало тихо, и солнце долго не показывалось, и с неба на землю цедилась мерная серо-матовая прозрачность. И вот когда наши отцы вылезли из воды, в мокрых чёрных трусах, и с них стекала прозрачными каплями вода на зелёный берег, они тотчас живо приказали нам раздеться, решив нас искупать. В частности, я тогда не мог себе представить, как отец это осмелиться сделать на глубине, так как возле самого берега ему было выше, чем по пояс, а мне тем более будет с головой. Однако несмотря на свои несказанные недоумения, я всецело положился на отца, доверившись его благоразумию, что он сделает всё толково, чтобы я не испытал страха перед ужасающей мое воображение глубиной пруда.
И впрямь отец довольно легко поднял меня на руки, как младенца, велев руками держаться за его крепкую шею. При этом, видимо, переусердствовал, поскольку отец гортанно громозвучно и сердито выкрикнул, с оттенком паники и отчаяния, что, дескать, я так могу ненароком его задушить, инстинктивно сжав свои руки на его шее мёртвой хваткой. И тогда я, убоявшись худшего, невольно расслабился и немного отстранился от ещё мокрого, и вместе с тем горячего тела отца, при его медленном вхождении в воду, избрав для этого более пологое место, где вода доходила уровня берега. И глубина была не так опасна.
И вот с ощущением жуткой оторопи, вдруг вновь овладевшей мной с нарастающей силой, я почувствовал прикосновение к своему телу прохладной воды, отчего непроизвольно вздрогнул, инстинктивно прижавшись к отцу так сильно, словно взаправду сросся с ним, точно сиамские близнецы, в одно целое. На этот раз он почему-то не убоялся, что я его придушу, напротив, довольно весело рассмеялся, ободряя меня так, точно ему доставлял неимоверное удовольствие мой панический страх. Хотя тон отца был вовсе не лишён этакого озорного любования моим трепетным испугом, что только ему придавало дополнительной смелости в принятом им неожиданном решении приучить меня к глубине, чтобы на большой воде я обрёл уверенность и выносливость. Однако до этого было ещё очень далеко, перед лицом вполне реальной опасности, когда мы погрузились в воду настолько, что над её блескучей, колыхающейся поверхностью, уже торчала одна моя голова, и я неистово, поддавшись безумной панике, заголосил. И мгновение спустя, совершенно напрочь лишился самообладания, когда отец вдруг окунул меня с головой в воду, как при крещении в купели, и тут же, правда, извлёк из погибельной пучины, поглощённой мраком, что я поднял истошный вопль. Меня стала трясти дрожь с ощущением ледяного холода. Ведь дело было, как я говорил, перед вечером, солнце уже едва светило из-за наплывших неплотных облаков.
Между тем соседский пацан вёл себя на руках своего отца спокойней и уверенней меня, однако, тоже выказывал немалый страх, что-то быстро бормоча ему, когда очутился в моём положении, то есть в воде. Видимо, первое время он хотел выказать себя передо мной, намного храбрей меня. Правда, его отец входил в воду не столь решительно и каверзно, как это же с ходу сделал мой. Дядька Веня окунался со своим сыном достаточно неспешно, немного выждал и осторожно погружался в воду при этом что-то наговаривал своему отпрыску успокоительным тоном, скорее всего, он уговаривал сына не бояться. И такое обращение к Лёньке на него подействовало благотворно; он стал улыбаться и смотреть в нашу с отцом сторону…
Не помню, сколько времени мы пробыли на пруду, но это первое своё крещение на «большой воде», оставившее неизгладимый след, я потом часто вспоминал. На этот пруд, который называли большим, я попал, когда стал постарше. Помню, мой тёзка Миша Волошин со своим старшим братом Алексеем позвали меня, и мы пришли сюда рыбачить. Примостились среди камышей, закинули удочки, но ловились одни окуни, редко попадались сазаны или лещи. А потом уже в отрочестве на велосипедах регулярно прикатывали купаться, куда съезжалась отдыхать вся молодёжь из соседнего посёлка Верхний. Но эти воспоминания приберегу для другого раза, так как на том пруду у некоторых больших ребят начинались романы с девушками, на которых потом они женились. Одна пара так и проситься в отдельную повесть, а потому ей тут не место…
Итак, этот пруд, который позже стали называть озером Рица (не только за размер, но и чистую воду), для нас стал постоянным местом отдыха на многие годы, пока его не использовали для орошения колхозных полей. Не знаю, подняли ли урожайность, а вот пруд, из которого каждое лето двумя мощными дизельными насосами выкачивали до дна воду, совсем обмелел, и его затянуло илом. И он утратил свою величавую прежнюю красоту, превратившись в подобие болота: берега обвалились, камыши засохли. Потом его чистили, углубляли, тем самым изменили русло, два знаменитых полуострова, на которых были пляжи, исчезли, камыши росли плохо, и от былой красоты ничего не осталось…
Однако плавать мы, вся поселковая детвора, выучились в основном в запруде, где всего-то нам было по пояс. И, наверное, илу, грязи тоже там было не меньше, правда, от которого мы как могли, очищали дно до самого твёрдого клейкого основания, чего, конечно, досконально сделать нам не удавалось.
После такого купания родители нас называли не иначе, как лягушатниками. И впрямь, глядя друг на друга, вылезая из чёрного водоёма, мы злорадно смеялись, тыча пальцами в товарищей, видя как на подбородках оставались грязные плохо смываемые разводы, не говоря уже о волосах и теле. Обмываться приходилось только дома в наполненном заранее водой корыте, выставленном специально на солнце для нагрева. И по очереди ополаскивались, причём наперебой друг другу делились перед мамой своими новыми успехами в овладении искусством пловцов…
4. Возвращение и смерть беглеца
Соседи Рекуновы второе лето строили дом, собственно, к тому времени он уже давно стоял с двускатной шиферной крышей, и уже изнутри полным ходом шла его отделка, для чего приглашались, как их родственники, так и чужие люди.
Нашего отца, Платона Нестеровича, дядька Веня позвал в дом провести электропроводку под штукатурку. И пока он это делал, мы на дворе Рекуновых, как бы ради такого случая, играли в жмурки. Помню, я легко обхитрил Лёню, прячась от него, забежал в сумрачный дом, где уже были вставлены в рамах стёкла и где так остро пахло пресным глиняным замесом с добавкой в него мелкой соломы, а также свежеструганными сосновыми досками, только что настеленными на полы.
Именно дядька Веня и каменщик, и плотник, и жестянщик на бравурной весёлой ноте, своего грубого хрипловатого голоса, решительно зазвал меня схорониться за печкой, которую недавно он сам сложил из красного кирпича, и она ещё даже не была оштукатурена. Ободренный его дружеским содействием, я быстро шмыгнул в расщелину, за припечек, где обыкновенно производится сушка дров и сырой одежды.
Лёнька вбежал в переднюю комнату и тотчас быстро спросил у своего отца, не забегал ли сюда Мишка, на что родитель ему живо предложил поискать, явно посулив сыну намек на везение, если проявит в поиске смекалку. И тот моментально воспользовался прозрачным намёком своего отца. Однако, учуяв подвох, как бы нарочно заманутого в подстроенную ловушку, я загодя, чтобы только опередить его приближение, неожиданно выскочил из своего убежища, чего тот конечно не ожидал, и тотчас на время растерялся. А я же, воспользовавшись его замешательством, что есть духу стремительно, полный рвения победить, выбежал на двор из дома. И за собой услышал, как отец Лёньки раскатисто-громко рассмеялся, видно, глядя на оплошность сыночка, снисходительно веселясь над впавшим в конфуз Лёнькой.
Надо сказать, он рос довольно послушным; и будучи у своих родителей единственным, видимо, из-за этого донельзя страдал, испытывая определённые затруднения при общении с нами, так как в его воображении мы рисовались счастливчиками оттого, что нас было трое. Бывало, зимними вечерами баба Пелагея брала за руку внука Лёньку и приходила к нам скоротать время, и всякий раз объясняла маме причину визита тем, что Лёне, дескать, одному довольно скучно высиживать вечера до сна, и ему хотелось поиграть с нами. Разумеется, бабкин довод был для нас вполне убедителен, мы его принимали, и он вступал в наши игры как-то несколько стеснительно. Самой же бабке Пелагее тоже хотелось почесать языком, она слыла большой любительницей перетолковывать уличные сплетни и просто вести досужие разговоры.
Наша мама никогда не сидела без работы, и этим временем перебирала шерсть. И за таким нехитрым занятием она слушала бабу Пелагею, которая рассказывала ей какие-нибудь поселковые новости или сплетни: кто-то жене изменил, кто-то подрался, кто-то проворовался. Сама же мама говорила мало, лишь в тех случаях, когда ей крайне не нравилось то, о чём с таким интересом трезвонила ей старая соседка, с несколько рябоватым лицом. И тогда мама подвергала резкой критике услышанное от неё, потому как нередко баба Пелагея перевирала на свой лад различные слухи для пущей убедительности, чтобы поразить маму тем или иным искажённым ею событием. Мама уже достаточно изучила уловки бабы Пелагеи и поэтому выслушивала ту недоверчиво, причём с неохотой, изредка со скрываемой неприязнью посматривая на соседку, чинно лузгавшей жаренные подсолнечные семечки, от которых в натопленной горнице стоял запах перекипевшего подсолнечного масла.
Между прочим, неприязнь мамы к бабе Пелагее была давней, застарелой, собственно, относившейся ещё к той поре, когда была жива наша бабушка Маша, которая отличалась тихонравным, покладистым, рассудительным характером. Она также была принципиально честная, не любила всех тех, кто, приспособлялся, кто двоедушничал, праздно болтал и распространял лживые слухи. В общем, между двумя соседками время от времени вспыхивали ссоры в основном после услышанного бабой Машей от нагловатой бабы Пелагеи оговора, что её родной брат Егор был кулак, и они, Снегирёвы, убежали от раскулачивания…
Однако сварливая соседка очень рано стала страдать болезнью ног, на которых у неё вечно не заживали какие-то раны, покрытые струпьями. Ходила она, насколько я помню, всегда с деревянной клюкой, немного прихрамывая. Своего мужа она потеряла на войне, впрочем, как и другая соседка баба Натаха Волоскова. От их же дочерей вскоре уйдут мужья, о чём я обстоятельней упомяну ниже.
В отличие от своих соседок наша мама жила с мужем, каким бы он ни был. Правда, один раз, о чём в своём месте говорилось, он тоже уезжал, но это было первое и последнее бегство отца от нас. Мама никогда не обзывала обеих соседок брошенками, это было не в её природе. Баба Пелагея продолжала приводить к нам внука. Этот соседский паренёк проводил с нами зимние вечера в присутствии своей бабули и вносил в нашу жизнь некоторую новизну.