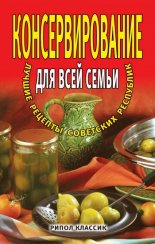Корабли идут на бастионы Яхонтова Марианна

Часть первая
1
Адмирал Ушаков выехал из Севастополя в конце сентября, когда в Крыму вторично начинала зеленеть высохшая за лето трава. А Петербург встретил его весь окутанный снегом. Ослепительно белый на солнце и синий в тени, город казался таким ярким, что с непривычки ломило глаза. Вместе с тем Ушаков сразу почувствовал, как легка его шуба, которую пришлось достать из багажа еще под Москвой.
Знакомых в Петербурге у адмирала было мало, да и с теми он переписывался очень редко. Сначала ему даже пришло в голову остановиться на постоялом дворе. Но его близкий друг и приятель Непенин, служивший в Севастопольской таможне, дал ему письмо к своему дальнему родственнику Аргамакову, известному литератору и масону. Аргамаков жил на окраине Петербурга, и обширный дом его был окружен множеством самых разнообразных пристроек.
Как только возок адмирала остановился у ворот, из калитки выскочили два парня, остриженные в кружок и одетые в зеленые казакины из домашнего сукна.
Один из них тотчас побежал докладывать хозяину, а другой бросился открывать ворота.
Пока возок, скрипя по снегу, подъезжал к высокому крыльцу с деревянными колоннами, по лестнице уже сбегал сам хозяин. Он, видимо, так торопился, что выскочил на улицу в стеганом китайчатом халате и лиловых бархатных сапогах. Голую, без единого волоса голову его не прикрывал даже парик.
– Прошу простить меня, государь мой, что явился к вам незваным, – сказал Ушаков, снимая шляпу – Я дерзнул на это только потому, что свойственник ваш Петр Андреевич Непенин меня обнадежил…
Но Аргамаков прервал чинную речь адмирала тем, что крепко обнял его за плечи.
– Я слишком много наслышан о вас, Федор Федорович, чтобы не испытывать живейшей радости от знакомства с вами. Я и дом мой в вашем полном распоряжении.
Тон и манеры его были свободны и безыскусственны. Красное круглое лицо так весело и дружелюбно улыбалось, что адмиралу начало казаться, будто он уже когда-то видел этого человека и вынес из прежней встречи самое приятное впечатление.
Они миновали переднюю, где густо пахло овчиной, портянками и табаком. Те же, стриженные в кружок, парни сняли с Ушакова шубу, и он очутился на пороге большого низкого зала с навощенным паркетом.
Зал больше походил на кунсткамеру, чем на жилое помещение. Прежде всего, обращала на себя внимание коллекция часов, которые висели на стенах, стояли на столах, на клавесине и даже на подоконниках. В ту минуту, когда вошел адмирал, они как раз начали бить. В зале закуковала кукушка, прозвенели колокольчики, ударил мечом бронзовый всадник и что-то хрипло зашипело в углу.
Семья Аргамакова выстроилась, словно на параде. На правом фланге – хозяйка, на полуседых кудрях которой возвышался тюлевый чепец, по форме похожий на шлем римского легионера. На левом – три дочери-погодки приседали, шурша розовыми атласными юбками.
Хозяйка протянула влажную, видимо, только вымытую руку для поцелуя, прикоснулась губами ко лбу адмирала, потом снова подала руку. Таков был этикет, того требовала наука «учтивства».
Сам хозяин, от которого так и веяло веселостью и добродушием, представлял адмиралу дочерей:
– Марфа, поклонница всех девяти муз, одной из коих служит с некоторым успехом. Пашета, охранительница домашнего очага, коей все в доме повинуется. И баловница Лизон, которая ничего не умеет и ниспослана нам за грехи наши.
– Папенька!
– Что папенька? Лучше я заранее скажу, а то Федор Федорович сам увидит.
Аргамаков засмеялся и чмокнул Лизон в пунцовую щеку.
Пока Ушаков переодевался в отведенной ему комнате, Аргамаков сидел против него и расспрашивал о Непенине:
– Петр Андреевич все еще служит в таможне? Когда же он бросит ее и всецело отдастся наукам? Я лет десять зову его в столицу. Что делать наиспособнейшему сочинителю в столь отдаленных местах?
– Да, правда ваша. У нас там и книг-то почти никто не читает. И новости приходят, когда уже обрастут седой бородой. Трудно там жить ученому человеку, если он не моряк. Очень трудно, – сказал адмирал.
Мысль о том, что его единственный друг, ближе которого у него никого не было, когда-нибудь покинет Севастополь, тем не менее, показалась ему нестерпимой. С кем же проводил бы он вечера в живейших беседах, к кому мог бы обратиться за советом в щекотливых житейских делах или у кого мог бы получить справку о любом научном вопросе, если не будет Непенина?
– Все же не говорите мне о разлуке с Петром Андреичем! – вдруг добавил Ушаков, не попадая рукой в пройму камзола. – Перед многими опасностями я был спокоен, но этого часа, скажу по правде, страшусь.
Аргамаков внимательно посмотрел на адмирала.
– Петр Андреевич не сдается на мои уговоры, – поспешно произнес он, высоко поднимая одну бровь. – Я понимаю, что везде можно изучать нравы и писать книги, даже в условиях, мало подходящих. Что же касается дружбы, так она священна во всех частях света.
– Ну, а как его книга? Печатается?
Круглое веселое лицо Аргамакова сразу стало серьезным и задумчивым. Рукопись Непенина «Размышления о человеке и человечестве» находилась у него уже давно.
– Вот уже год и я и Новиков стараемся, чтоб она увидела свет, но пока наши старания не привели к успеху.
– Почему же? – недоуменно спросил адмирал, высоко ценивший сочинение своего друга.
Аргамаков ответил не сразу. Он как будто размышлял, но глаза его почему-то сначала раз, потом другой остановились на денщике, прибиравшем вещи адмирала.
– Ты мне не нужен больше, Степан, – сказал Ушаков.
– Ступай, братец, пообедай и отдохни с дороги, – подхватил и Аргамаков, с улыбкой кивая денщику.
Денщик вышел, но Аргамаков постукивал пальцами одной руки по кончикам пальцев другой и говорить не торопился.
– Дело в том, – наконец начал он, – что мы не имеем разрешения на печатание книги Петра Андреевича.
– Вам отказали?
– Нет. И это, пожалуй, хуже, чем если бы прямо отказали.
Ушаков пытался понять Аргамакова и не мог. В литературных делах, очевидно, существовала какая-то особая сложность, совершенно ему неизвестная.
– Простите, не могу уразуметь, – сказал он, впервые ощущая что-то неверное и темное, о чем ему никогда не приходилось думать.
Аргамаков снова внимательно поглядел на него.
– Вы слыхали о господине Радищеве? – спросил он.
– Да, слыхал, но при чем тут господин Радищев?
– Его дело внушило там многим великую осторожность и опасения.
При слове «там» Аргамаков указал на потолок.
Адмирал невольно поглядел туда же, словно ожидая увидеть что-то среди гипсовых амуров.
– Но ведь Радищев, кажется, имел крайние мнения. А в книге Петра Андреича нет ничего ни противу государыни, ни противу монаршей власти.
– Да, в прямом смысле нет, это правда, – сказал все с той же задумчивостью Аргамаков.
И адмирал, испытывая смутную тревогу, решился задать ему прямой вопрос.
– Диомид Михайлович, государь мой, я невежда в этих вопросах! Объясните! Ведь мы там, в Севастополе, ничего не знаем, какой дух витает в столице! В бытность мою здесь я читывал журналы «Трутень» и «Живописец». Некоторые сочинители весьма язвительно писали в них о помещиках, кои притесняют крестьян своих, о взяточниках, о высоких людях, имеющих низкие души. Насколько я знаю, это не воспрещалось начальствующими.
– Вы читали те журналы очень давно, дорогой Федор Федорович. Журналов этих нет уже многие годы, и писать так, как писали тогда сочинители, нам больше не придется. Я тоже вынужден был прекратить тот небольшой журнал, который издавал, хотя в нем никто не писал ничего язвительного. Пришли новые времена. Во Франции народ сверг своего короля. В этом причина и дела Радищева и того, что книга Петра Андреевича не получает разрешения. Многие самые высокие персоны объяты превеликим страхом при виде пожара во Франции. Они опасаются, как бы искры сего пожара не перебросились в Россию. А отсюда всякие призраки и тревоги. Самые невинные вещи возбужденному воображению предстают в устрашающем виде. Я и несколько друзей моих недавно завели на Кирочной аптеку, где бы бедные люди могли получать лекарства без платы. Не правда ли, ведь нет плохого в том, что мы хотим помочь страждущим людям?
– Нет, конечно.
– А я вот не знаю, не предстанет ли аптека в чьем-нибудь уме угрожающей спокойствию государства. Над нами витает дух страха, а у сего духа, как известно, нет разума.
Аргамаков умолк, вздохнул глубоко. Потом подтянул полы халата и встал.
– Вы отдохните немного, Федор Федорович. Когда подадут на стол, я приду за вами.
На лице его уже опять блуждала улыбка, и веселые морщины собрались в уголках глаз.
– Как-нибудь перетерпим. Для того живем, – сказал он, оттого ли что был большим оптимистом или, наоборот, оттого что ждал от жизни мало хорошего.
Адмирал прилег на канапе, но спать не мог.
Люди, к которым принадлежал Аргамаков, видимо, жили здесь весьма беспокойной жизнью, среди какой-то невидимой борьбы. Но не оказывал ли и на них влияния тот дух преувеличения, который так свойствен всем сочинителям по живости их воображения? Может быть, Аргамаков преувеличивал те препятствия, которые вставали перед ним и Непениным? Может быть, и с книгой любезного друга все не так уж безнадежно? Надо повидаться с Новиковым в Москве на обратном пути. Петр Андреевич переписывался с ним, но ведь в письмах всего не скажешь, письма подвергаются просмотру на почте или в Тайной экспедиции.
«Ну, уж мне-то не стоит пока что поддаваться призракам, – тут же оборвал ход своих мыслей адмирал. – Я сам посмотрю, каков здесь дух. Государыня вызвала меня в Петербург. Следовательно, я увижу и ее и людей, которые государыню окружают. Постараюсь все, что можно, приметить и понять. А пока воздержусь от суждений».
И он вернулся к тем мыслям, которые занимали его дорогой: к прожитому им лучшему времени жизни.
Миновал год после окончания войны с турками, отодвинулись в прошлое люди и события. Для многих они стали уже историей, а для него они жили зримо и ощутимо. Он и сейчас еще видел белую кайму пены у скал острова Фидониси, вновь ощущал жаркую черную ночь перед сражением. Тогда флотом командовал граф Войнович. Человек этот так мало доверял самому себе, что писал бригадиру Ушакову, командовавшему авангардом, слезные письма: «Если подойдет к тебе капитан-паша, сожги, батюшка, проклятого. Обкуражь меня, душенька». И командование в бою само собой перешло к Ушакову. Турки были разбиты и бежали во главе со знаменитым адмиралом Гасаном, прозванным «крокодилом морских сражений».
После этой победы князь Потемкин устранил от командования Войновича и заменил его Ушаковым. Три блестящие победы – у Керченского пролива, у Гаджибея и у мыса Калиакрии – ознаменовали этот знаменательный период жизни Ушакова. Потемкин оказывал ему неизменную поддержку решительно устраняя с его пути все препятствия. Он даже сумел «сбыть» стоявшего во главе Черноморского адмиралтейского, правления адмирала Мордвинова, которому покровительствовала сама императрица.
Осенью 1891 года Потемкин умер в степи, на пути из Ясс в Николаев. Что будет дальше и кто теперь станет во главе флота, Ушаков не знал. Со смертью князя рушилась его единственная служебная опора, а покровителей он издавна не умел приобретать. Не он искал расположения Потемкина, а сам Потемкин искал способных моряков для созданного им Черноморского флота.
Правда, теперь у адмирала были успехи и победы, была слава. Но, обладая большой трезвостью ума, он не заблуждался насчет могущества талантов. При благоприятном случае они стоили много, при неблагоприятном – ничего. Весь вопрос заключался теперь в том, явится ли благоприятный случай? Не потому ли императрица вызвала его в Петербург, что надо решать дальнейшие судьбы флота?
И среди этих размышлений Ушаков не заметил, что по всему дому снова уже пошел причудливый трезвон часов и что хозяин, переодетый в кафтан и туфли с пряжками, стоит в дверях в нерешительности: будить или не будить гостя к подоспевшему обеду?
2
Аргамаков не считал себя вправе наводить уныние на гостя, а потому ни о каких тревожных событиях больше не говорил. Да и по прирожденной веселости характера он был не способен подолгу предаваться беспокойству.
– Можно и должно предвидеть худое, но переживать его заранее неразумно, – обычно говорил он.
Во время обеда Аргамаков шутил и смеялся, уверяя адмирала, что Севастополь находится на краю света, что там люди питаются только акридами и диким медом и лишены всех «приятностей, кои украшают бытие». Поэтому он усердно угощал гостя самыми разнообразными кушаньями и особенно ухой из стерлядей. Несмотря на разнообразие кулинарных чудес, Ушаков скоро заметил, что самый выбор их не случаен. Кушанья были исключительно русские.
– Считаю долгом своим бороться против чрезмерного увлечения всем иностранным, – заметил между прочим Аргамаков. – В нашем обществе и привычки, и моды, и обычаи – все французское. Скоро некоторые россияне, пожалуй, забудут свой родной язык.
Тут адмирал обратил внимание, что люди, прислуживавшие за столом, были одеты в русские кафтаны и обуты в лапти, сплетенные из конского волоса.
«Бог знает, может быть, так и нужно, – с сомнением подумал Ушаков, – хотя борьба с чем бы то ни было при помощи лаптей всегда казалась мне безнадежной».
После обеда Аргамаков показывал адмиралу изобретенную им самим электрическую машину, которая, по его словам, излечивала самые разнообразные болезни. Атак как в увлечении своем Аргамаков рассказывал только о случаях исцеления, а неисцелившимися пренебрегал, то выходило, что машина оказывала страждущим человекам ни с чем не сравнимое благодеяние.
Вечером съехались все родные и знакомые семьи Аргамаковых. Дом наполнился хлопаньем дверей, скрипом половиц, оживленным говором и восклицаниями.
Ушакова все хотели видеть, все им интересовались и спешили пожать ему руку.
Даже дочка хозяина, та, что «поклонялась всем девяти музам», когда был объявлен небольшой домашний концерт, пела только для адмирала. Гости расступились, оставив между ним и певицей пустое пространство. Это так смутило Ушакова, что он едва мог пробормотать маловразумительную похвалу ее искусству.
Адмирал боялся, что его будут уговаривать принять участие в танцах. Поэтому, как только заиграла музыка, он благоразумно скрылся в гостиную, где собрались старики и любители, виста.
Однако баловница Лизон, вероятно, была ниспослана за грехи не только своим родителям. Она прибежала в гостиную, стуча каблучками, и прямо с разбегу сделала низкий реверанс адмиралу. Веер вырвался из ее руки и, как птица с распластанными крыльями, упал на пол.
– Ах, я всегда все роняю, все гублю! – воскликнула Лизон, очень мягко и приятно картавя.
Однако все очарование этой милой случайности тотчас было испорчено Ушаковым. Торопясь поднять веер, он быстро нагнулся, а потом столь же быстро поднял голову. Напудренный его висок ударил в подбородок тоже наклонившейся Лизон. Ему даже показалось, что при этом у нее цокнули зубы.
Сконфуженный своей неловкостью, адмирал извинялся с таким угрюмым выражением на покрасневшем лице, что смутил бы кого угодно, кроме беспечной Лизон. Как часто бывает в таких случаях, Ушакову очень захотелось сложить ответственность за собственную оплошность на кого-нибудь другого. И он тотчас подумал, что вся сцена с веером разыграна намеренно, с каким-то лукавым умыслом.
Но Лизон никогда не обдумывала заранее того, что она сделает. Она с детства привыкла к тому, что все ее проступки и сама она не вызывали ничего, кроме восхищения и поощрительных улыбок.
– Маменька говорит, что без вас нельзя начинать польский! – воскликнула она, глядя ясными, блестящими глазами в лицо адмирала.
Ушаков подал ей руку и шагом натренированного солдата вышел в зал, где в ожидании выстроились пары.
«Неужели они не понимают, что я не охотник до танцев? – мысленно роптал адмирал. – Чего доброго, отдавлю ей сейчас ногу».
Розовая ладонь девушки, лежавшая на обшлаге его мундира, то тянула его вперед, то тащила назад. Ему казалось, что, какие бы усилия он ни делал, Лизон все равно собьет его с ритма. Ему было видно ее нарумяненную, согласно обычаю, щеку, уголок пухлого рта. Губы ее иногда чуть шевелились, когда она вздыхала глубже. Но Ушаков старался смотреть на навощенный пол, чтобы как-нибудь не наступить на маленькую атласную туфлю.
– Говорят, на войне очень страшно. Правда? – спросила Лизон, чтобы прервать прочно установившееся молчание.
– Бывает, сударыня, – вежливо отвечал Ушаков.
– А правда ли, что когда в море дерутся, то держат оружие в зубах?
– Вы, вероятно, имеете в виду турок, сударыня?
Ушаков был уверен, что давно не говорил столько всякого вздора, как во время этого польского. Впрочем, с женщинами и, особенно, с девушками ни о чем ином говорить было нельзя.
С некоторым запасом терпения все это еще можно было снести, но прекрасные представительницы рода человеческого отличались большим коварством и иметь с ними дело было далеко небезопасно. С девушками потому, что все их помышления, надежды и смысл жизни сводились к одной-единственной цели – поскорее выйти замуж, выйти во что бы то ни стало, хотя бы за верстовой столб. А женщины имели какую-то неуемную страсть женить людей, даже тех, которые боялись семейных уз больше огня. Несмотря на отсутствие красоты и солидный возраст, адмирал чувствовал себя незащищенным и ускользал, как мнилось ему, от расставленных сетей только благодаря решительности характера.
Наконец танец кончился, а вместе с ним закончились и мучения Ушакова. Он был так доволен, что очень быстро и ловко подвел свою даму к ее матери и даже высказал что-то лестное насчет ее остроумия. Потом он тихонько прошел снова в гостиную и, хотя очень не любил карты, сел играть в вист. За карточным столом никакие нимфы и дриады не решились бы его тревожить.
Однако Ушаков быстро заметил, что, кроме него и трех его партнеров, никто в карты не играл. Другие гости сидели группами, курили, о чем-то спорили, и порой весьма ожесточенно. Они непринужденно переходили от одной группы к другой, и по всему было видно, что люди знают здесь друг друга очень близко и имеют какие-то общие интересы.
Многие из них подходили к Ушакову: говорили о том, как радует их слава его побед, как им приятно его видеть. Но адмирал, с особой чуткостью самолюбивого человека, примечал, что им больше не о чем с ним говорить и что интересы, которые связывают их, они считают ему чуждыми.
Партнерами его были два глубоких старика и пожилая полная женщина в необъятном платье, с высокой прической из серых чужих волос, украшенной выцветшими гвоздиками. Пудра сыпалась с ее головы, точно пух с перезревшего одуванчика.
Стоило ехать в Петербург, чтоб играть в вист! Нет такого медвежьего угла, где бы не убивали времени подобным образом. Много же он поймет и узнает здесь, в столице, сидя со стариками.
– Я, государь мой, вышел в отставку секунд-майором, – прошамкал один из его партнеров, очевидно, считавший нужным что-то сказать.
А другой так и не произнес ни слова.
И Ушаков стал уже думать, как бы повежливее выйти из игры, когда. Аргамаков пришел ему на помощь.
Он посадил за карты вместо Ушакова свою жену, а сам повел адмирала в столовую.
– Я сейчас познакомлю вас с замечательными людьми. Они – москвичи и здесь временно. Это наш «бессребреник» Гамалея и Николай Иванович Новиков, известный издатель, сочинитель и друг человечества. Вы, конечно, знаете, что те журналы, которые вам когда-то нравились, издавал именно он.
– Как это удачно вышло. Я хотел непременно повидать его.
В столовой дочь хозяина Пашета угощала двух опоздавших гостей. Они тотчас встали, как только Ушаков и Аргамаков показались на пороге.
С первого взгляда больше привлекал внимание необычайной своей худобой и почти нищенской бедностью одежды бывший начальник канцелярии Военной коллегии Семен Иванович Гамалея. Кафтан его, пепельно-коричневого цвета, висел на плечах, как мешок, и казалось, что в нем могут поместиться не один, а два таких тощих человека. На грубых башмаках не было пряжек, а шерстяные чулки просвечивали, словно их исклевали куры.
На его бескровном лице аскета горели черные проницательные глаза, исполненные каким-то неугасающим вдохновением. Но Ушаков сразу уловил в их ярком блеске странное отсутствующее выражение. Никак нельзя было определить, видит своего собеседника этот человек или нет, слушает или не слушает, когда с ним говорят. И с непривычки это сначала сильно раздражало адмирала.
Аргамаков, пока вел Ушакова в столовую, успел рассказать, что Гамалея живет почти нищим, раздавая все неимущим. Когда однажды собственный слуга обокрал его и был пойман, Гамалея отдал ему все украденные вещи и деньги и отпустил его на волю, увидев в этом случае предопределенье божье. В то же время Гамалея обладал большой ученостью и переводил для своих братьев-масонов творения известного мистика Якова Беме. Среди масонов Гамалея пользовался большой популярностью, вероятно, потому, что пытался жить так, как повелевало исповедуемое им учение.
Ушакову, который не чувствовал никакого влечения к мистическим тайным и масонским обществам, больше понравился Новиков. Это был человек очень скромной внешности, с большим лбом и зачесанными назад темными волосами без малейшего признака пудры. Несмотря на то, что он тоже отдавал дань времени, занимаясь изучением и толкованием масонских символов и «непонятных» глубин человеческого духа, в углах его довольно полных губ таилась трезвая саркастическая усмешка. По ней сразу можно было догадаться, что этот человек склонен к шутке и не чужд заботам практической жизни.
Знакомство Ушакова с Гамалеей ограничилось тем, что тот проговорил задумчиво и явно не интересуясь собственными словами:
– Очень рад познакомиться. Я некоторое время служил во флоте. Только давно.
Сам адмирал тоже его не интересовал, и он, не дожидаясь ответа, несколько раз оглянулся. Так как люди, стоявшие перед ним, не уходили, он сам как бы ушел от них, крепко сжав на груди переплетенные пальцы обеих рук и устремив свой горячий взгляд на половицу под ногами. Он делал это не из пренебрежения к внешним предметам, а потому что следовал какой-то своей внутренней логике, которая одна управляла им и другим была непонятна.
– Скушайте хотя бы рыбы, Семен Иванович! – сказала, видимо, благоговевшая перед ним Пашета. – Вы ведь почти ни к чему не прикоснулись.
– Благодарю. Не надо, – отвечал Гамалея рассеянно и ушел, пошаркивая разбитыми башмаками, которые были ему велики.
– Федор Федорович – близкий друг Петра Андреевича, – сказал Новикову Аргамаков.
И Ушаков понял, что короткие отношения к Непенину здесь как бы являются рекомендацией.
– Имел удовольствие знать друга вашего, – произнес Новиков. – И даже не раз печатал его сочинения.
Ушаков не помнил, как это случилось, но Аргамаков исчез, а он сам и Новиков очутились в углу столовой и, удобно усевшись в кресла, говорили о Непенине, его книге, о впечатлении Новикова от северной столицы.
Ушакову было приятно глядеть в умные, чуть насмешливые глаза собеседника, слушать его неторопливую ясную речь.
– Поверьте моему опыту, а опыт мой достаточно велик, книга Петра Андреевича разрешения не получит. Диомид Михайлович еще надеется. Я же никаких надежд не имею. И не оттого, конечно, что не желал бы увидеть книгу напечатанной.
– Предвидеть худшее всегда разумно, – сказал Ушаков. Хотя он еще собирался исследовать дух, витавший над Петербургом, он уже почувствовал, что это был прежде всего дух неуверенности и беспокойства. Известный издатель, по-видимому, не без основания терял надежды. Адмирал ясно представлял себе своего друга с его очками, спутанным париком, с загнутой кверху косицей, с его ворчливостью и застенчивой гордостью. Не трудно было предвидеть то, что почувствует ахтиарский чудак, когда узнает о неудаче с книгой.
Ушаков долго молчал. Молчал и его собеседник, положив голову на руки, упиравшиеся локтями в колени. Это была, очевидно, его любимая поза.
От манжет Новикова чуть пахло утюгом, который, видимо, припалил их немного. Тяжеловатые, отечные веки издателя теперь более чем наполовину прикрыли его глаза. Видимо, ему так лучше думалось. Не меняя положения, он вдруг спросил:
– Вы проехали не одну тысячу верст. Что вы видели дорогой?
– А о чем угодно вам знать, Николай Иванович?
– Я хотел бы узнать об урожае.
Ушаков менее всего ожидал такого вопроса. Он привык думать, что сочинители, постоянно вперяя ум свой в небесные выси, пренебрегают той твердостью, на которой стоят их ноги.
– Урожай очень плох. А местами хлеб выжжен начисто, – ответил он.
– Боюсь, что опять ожидает нас превеликий голод. Из многих мест уже поступают тревожные вести.
– Государыня знает об этом?
– Мне ничего не известно о сем предмете, – отвечал Новиков, явно считавший это обстоятельство маловажным. «Знает, не знает – какой в этом смысл?» – как будто говорил его спрятанный под веками взгляд.
– В вашем имении и окрест его тоже неурожай?
– Да, как и всюду.
– Вы думаете что-нибудь предпринять?
– Думаю, государь мой Федор Федорович, думаю, хотя много действий наших на благо ближних, действий, успешных и нужных для просвещения, приостановлено. А мы все не можем успокоиться. Ведь это дело какое? Нужен хлеб для прокормления людей голодных и нужны семена для посева весной. Я приехал сюда, дабы подвигнуть здешних друзей наших на помощь крестьянам и казенным и помещичьим.
– Неурожаи в отечестве нашем, к великому прискорбию, весьма часты.
– Да, да. Всего пять лет прошло с того жестокого неурожая, который еще всем памятен, а этот год почти столь же печален. Мы ищем средств предотвращать такие бедствия.
– И вы нашли их? – спросил живо заинтересованный Ушаков.
– Кое-что нашли, государь мой, кое-что. Хотя это ничтожные крупинки среди необъятных просторов нашей родины.
– Расскажите. Может быть, опыт ваш будет мне полезен.
– Весьма возможно, весьма возможно.
И Новиков, близко глядя в лицо Ушакова своими темными зрачками, рассказал о тех мерах, какие он смог принять для помощи голодающим пять лет назад.
– Нам удалось оказать помощь сотне деревень. Деньги были собраны между нами. Весьма большую сумму, в пятьдесят тысяч рублей, пожертвовал один друг мой, пожелавший остаться неизвестным. Нам удалось закупить семян для посева и ржи для прокормления людей. Но встал вопрос о том, как предотвратить таковое бедствие в будущем? Хлеб и семена раздавались крестьянам в долг, и вот, когда они начали возвращать этот долг, кто хлебом нового урожая, кто деньгами, мы решили употребить и то и другое на образование хлебного магазейна, где всегда были бы запасы на случай неурожая. Хлеб в магазейне нашем имеется теперь непрерывно, и мы раздаем его нуждающимся.
– А те из крестьян, кто по скудности своей не мог вернуть долга, что вы с ними учинили? – спросил адмирал, которого всегда интересовала практическая сторона дела.
– Они привлекались к изготовлению кирпича для каменного здания магазейна и к распашке побросанных мест. Дело идет споро. К нам присоединяются жители уже не одной сотни деревень. Ежели б это можно было распространить на всех других!
– А почему нельзя распространить столь полезного учреждения?
Новиков повел плечами, причем его черный кафтан вздулся горбом на спине.
– Наше учреждение многим кажется опасным, – невесело усмехнулся он.
Было видно, что постоянная борьба за каждое новое начинание и гибель многих предприятий наложили на него свою тяжелую руку. Лицо выглядело нездоровым и желтым, а отечная припухлость век делала его старше, чем он был в действительности.
Ушаков не стал расспрашивать, кто же считает опасными хлебные магазейны. Все было сложно и трудно в этом мире. И, несмотря на практическое направление своего ума, Ушаков многого не мог понять.
Благополучно устроить в мыслях своих человеческую жизнь можно было, не вставая с кресла. Но как туго поддавалась она усилиям человека, когда он подходил к ней с намерением сделать ее лучше на деле. Самая ничтожная попытка что-то изменить встречала тысячи препятствий.
Адмирал хорошо знал это по себе. Ему было приятно, что перед ним сидит деловой человек, который умело и твердо выполняет каждую поставленную перед ним задачу и не опускает рук в самых тяжелых обстоятельствах.
Но Ушакову захотелось выяснить, какое средство считает этот человек наиболее верным для улучшения общей жизни своей родины и человечества.
– Как я усмотрел из ваших слов, страх и темнота людей часто мешают вашей полезной деятельности. В чем же полагаете вы лекарство для излечения различных неустройств и бедствий страждущего человечества?
Но тут, как всегда, его постигло разочарование.
– Спасение человечества и родины нашей я полагаю в правильном воспитании людей и их самоусовершенствовании, – очень охотно ответил Новиков.
Видимо, попав на одну из своих любимых тем, он начал пространно объяснять, в чем заключается это самоусовершенствование. В первую очередь, в борьбе с «самостью», то есть с себялюбием, гордостью и прочими личными пороками, на основе правильно понятого христианства.
– Мне открылось это не сразу, я долго блуждал во тьме, – говорил Новиков, и в голосе его появились какие-то певучие, очень не шедшие ему ноты. – Я был тяжело болен, и болезнь моя заставила меня прозреть. Наше учение очень просто. Наша задача – познание Бога, натуры и самого себя. До сих пор христианство было понимаемо превратно…
«Ах, боже мой, обо всем этом не одну тысячу лет говорят», – подумал Ушаков не потому, что сам отвергал религию, а потому, что все, что теперь говорил Новиков, казалось ему преувеличенным, ненужно ханжеским и чуждым всему деловому и трезвому облику известного всем поборника просвещения. И самое слово «самость», явно выдуманное и фальшивое, было Ушакову неприятно.
«Сколь противоречива душа человека, – думал адмирал. – И какие несхожие чувствования и мысли в ней уживаются…»
Однако, очень хорошо разбираясь в чужих противоречиях, Ушаков как-то забыл о своих. Сам он охотно и без принуждения выполнял требования официальной религии и в то же время разделял веру своего века в разум. Признавал всех людей равными перед ликом творца, но не отвергал их жестокого и чудовищного неравенства перед лицом действительности. Все это жило в его уме раздельно и никак не мешало друг другу. Хотя путь к лучшему будущему, найденный Новиковым, Ушаков признал наивным, сам он не мог предложить для достижения общего благоденствия ничего, кроме добродетельного монарха.
Он продолжал слушать объяснения Новикова насчет того, что такое душа и чем она разнится от духа, но это его уже не занимало, и он был рад, когда его собеседник замолчал.
3
После разговора с Новиковым адмирал почувствовал себя более свободно и стал непринужденно переходить от одной группы гостей к другой. Это путешествие по «философическому архипелагу» очень ему нравилось. Он жадно ловил различные мнения и любопытные высказывания, складывал их в своей памяти, чтоб поделиться потом с Непениным.
В одном месте говорили о способах смягчения власти помещиков над крепостными, и кто-то спросил, что думает на этот счет адмирал. Ушаков не привык говорить в подобных собраниях, не знал еще, как ему лучше держаться, и потому ответил стесненно и коротко:
– По скромному мнению моему, смягчению участи земледельца мог бы споспешествовать закон. В иных местах следовало бы ограничить барщину, а в иных – оброк… согласно условиям этих мест.
Так как некоторые из беседующих с ним согласились, то он не без удовольствия подумал, что высказал трезвую мысль. Но он очень бы удивился, если б ему сказали, что мысль его могли найти чересчур смелой.
В другом месте молодой человек с густыми кудрями страстно доказывал, что всякая благотворительность бессмысленна и что надо добиваться только повышения общего благосостояния.
Тут Ушаков, уже не ожидая приглашения, вступил в спор.
– Добиваться повышения общего благосостояния, конечно, следует, – заметил он, – но пока эта цель не достигнута, проходить мимо чужих бедствий постыдно. Питать свою любовь к человечеству, молодой человек, – добавил Ушаков, – надлежит неусыпным участием к делам своего соседа. Не будете проявлять сочувствия к ближнему, позабудете рано или поздно и о человечестве.
Адмирал не задержался только у самой большой группы гостей, которая собралась около Гамалеи. Там обсуждали такие возвышенные предметы и так непонятно, что Ушаков не надеялся их постичь. Он поспешно двинулся дальше, в самый уединенный угол гостиной, где Аргамаков, близко наклонившись к плотному седому человеку, что-то весело ему рассказывал. Сосед его смеялся, и Аргамаков вторил ему, обмахиваясь снятым с головы париком.
В небольших, по-зимнему сильно натопленных комнатах было действительно жарко и душно, и многие гости постарше расстегнули кафтаны.
– Рекомендую вам самого ужасного человека в Петербурге, – смеясь, заметил Аргамаков приблизившемуся Ушакову – День и ночь он читает Гельвеция и Ламетри и преподает такие вещи, перед коими содрогаются все благочестивые души. Бога не признает, над служителями его смеется, сатаны не боится и даже полагает, что его тоже нет. Я сам страшусь этого человека, но не могу отказаться от его общества. Хотите – знакомьтесь с ним, хотите – нет. – И Аргамаков, взяв адмирала за руку, притянул его ближе, так что головы всех троих почти соприкоснулись.
– Страшные слова меня не пугают, – ответил адмирал, кланяясь неизвестному гостю.
– Ибо в них иногда, несмотря на странность, заключена истина, – сказал тот, улыбаясь сухими, твердыми губами. – Религия создает несуществующие видения, а видения делают жизнь теплей лишь для слабых душ. Я не ищу сего тепла и предпочитаю жестокую ясность холодного разума.
Аргамаков перестал смеяться и совершенно серьезно, с каким-то тайным разочарованием заметил:
– Я верю в Бога… Но вот почему-то, вопреки всей моей вере, не чувствую его присутствия. Очевидно, я недостаточно чист для этого душой.
Он вдруг поспешно встал, не то намеренно желая прекратить разговор, не то действительно вспомнив, что не сделал чего-то очень важного. И адмирал так и не узнал имени дерзновенного афеиста.
– Я все откладываю, потому что не уверен в себе, – говорил Аргамаков. – А между тем хочу просить вашего снисхождения. Я написал оду в честь успехов оружия российского во время последней войны с турками и имею, быть может, нескромное намерение посвятить ее вам, Федор Федорович. Друзья мои, – добавил он громче, – я обещал вам чтение, прошу внимания вашего!
Тотчас загремели передвигаемые слугами и гостями стулья. В передней части гостиной поставили стол со свечами и стаканом воды. Ушакова посадили в середину первого ряда, так, чтоб при чтении оды автор мог видеть адмирала прямо перед собой. Аргамаков, теперь уже в парике, с нахмуренным лицом, держал в руках свернутые в трубку листы.
Смолкла музыка в зале. Вереницей голубок впорхнули девушки и на цыпочках пробежали к своим местам. За ними последовали их кавалеры, военные и штатские, тоже той, напоминающей птиц походкой, какой ходят люди, стараясь не шуметь. Вошла и хозяйка с дамой в сером парике с гвоздиками. Было слышно, как под ними заскрипели стулья.
Рядом с Ушаковым сел Новиков, ободряюще улыбаясь поэту. Гамалея чесал подбородок, глаза его, моргая от яркого света свеч, казалось, ничего не видели. И снова было ясно, что чтение никак его не занимает, и если б его не заставили сидеть тут, он ушел бы в зал и шагал бы там от стены до стены, нимало не тяготясь одиночеством.
Аргамаков поправил жабо, откашлялся и, так как страдал дальнозоркостью, далеко отставил руку, в которой держал рукопись.
– Я ведь не пиит, – сказал он застенчиво и опять закашлялся, теперь уже намеренно, явно призывая слушателей к снисхождению.
– Слушаем, слушаем вас, дорогой Диомид Михайлович! – ободряюще зашумели вокруг.
Аргамаков с отчаянным видом человека, который бросается в холодную воду, взмахнул рукой:
- Пою побед нещадны громы
- И россов славные венцы…
Адмирал никогда особенно не интересовался стихами, но теперь ему все же было любопытно, как претворяются в поэзии только что ушедшие события войны. Обязывало ко вниманию и то обстоятельство, что ода посвящалась ему. Она была очень длинна и полна той тяжелой торжественности, которая требовалась литературным вкусам времени.
Поэтическая традиция не имела власти над Ушаковым. Он с сочувствием смотрел на автора, но подмечал все слабости его чтения и его стихов.
«Пожалуй, пора бы и в поэзии заговорить языком более простым и естественным, – думал адмирал. – Жаль, что у доброго пиита нет для того надлежащих сил».
Однако, чем дальше он слушал, тем больше замечал среди грузных, напыщенных слов теплую, искреннюю интонацию. Она то исчезала, то возникала вновь, а вместе с нею рождались и простые ясные слова, которыми говорят в минуты подлинного волнения.
«Э, да он хоть и ощупью, а пытается выйти на настоящую дорогу!» – одобрительно подумал Ушаков.
Скоро он заметил, что теплое и искреннее звучание появлялось в оде Аргамакова всякий раз, когда поэт говорил о родине, о ее славе. И всякий раз Ушаков дружески кивал ему и думал о том, что любовь к отечеству делает каждого человека лучше и правдивее.
К немалой досаде адмирала, Аргамаков вдруг забрался в мифологию, а потом принялся воспевать какого-то неведомого Диодора. Диодор этот, видимо, был большим любителем морских сражений и одерживал победы с приятной легкостью и неизменным успехом. Адмирал уже начал про себя посмеиваться над его тактическими приемами, как Аргамаков особенно громко прочитал:
- Взыграли волны с небесами,
- Певец ударил по струнам.
- А он один стоял пред нами
- И путь указывал ветрам.
Сразу же заскрипели стулья, и в общем движении все гости повернулись к Ушакову.
– Это папенька о вас! – воскликнула на всю комнату Лизон. – Повелитель ветров – это вы!
Ушаков только сейчас догадался, что в образе Диодора автор оды вывел именно его. И хотя он не помнил случая, чтобы ветры ему покорялись, но принял это и, в знак признательности за лестное мнение, поклонился.
«Вот уж не думал, что попаду в Диодоры!» – мысленно удивился он.
– Уж вы простите нас, батюшка Федор Федорович! – сказал Аргамаков. – Хоть и не очень знатными стихами, но все мы хотим чествовать в вас добрую нашу славу морскую, тружеников Тендры и Калиакрии.
Глаза Аргамакова сияли, взволнованное красное лицо его светилось и чем-то очень напоминало в эту минуту Непенина. Он горячо обнял адмирала и вручил ему свиток с одой.
– Отечеству Российскому все наши жизни принадлежат, – сказал он с такой твердостью, что у Ушакова вдруг защекотало в горле.